|
||||||||||
|
|
Проблема Избранной Рады в отечественной историографии была и остается дискуссионной....Проблема Избранной Рады в отечественной историографии была и остается дискуссионной. Что это за учреждение, когда оно в точности возникло, каково его место в системе органов власти Руси середины XVI века — вопросы, до сих пор не нашедшие удовлетворительного разрешения, несмотря на упорное желание многих поколений историков добраться до их сути. Некоторые исследователи пошли по пути отождествления Избранной Рады с уже существующими государственными институтами. Так, еще Н. П. Загоскин усматривал в ней «не что иное, как государеву думу, очищенную и обновленную в своем составе»{1}. По словам В. О. Ключевского, «трудно разобрать, что разумел кн. Курбский под «избранной радой». Но, вероятнее всего, он «имел в виду большую думу»{2}. Помимо старой, традиционной Боярской Думы («большой думы»), имеющей давнюю историю, письменные источники времени Ивана Грозного упоминают Ближнюю Думу. «С царствования Грозного, — говорит В. О. Ключевский, — ближняя дума не раз мелькает в своих и иностранных известиях о высшем московском управлении»{3}. Например, «в грамоте цесаревым послам 475 г. царь пишет о Н. Р. Юрьеве, кн. В. А. Сицком и дьяке ближнем А. Щелкалове, что посылал к ним, послам, для переговоров «бояр, ближнюю свою думу»; думные дворяне Зюзин и Черемисинов, бывшие в числе уполномоченных при заключении перемирия с Баторием в 1578 г., названы «ближние думы дворянами»{4}. Понятие ближняя дума неоднократно встречается в письменных и устных заявлениях митрополита Макария, относящихся к середине XVI века{5}. Неудивительно, что некоторые историки в Избранной Раде увидели Ближнюю Думу. Уже В. О. Ключевский, склонный рассматривать Избранную Раду как «большую думу», замечал при этом, что ее «название напоминает ближнюю думу»{6}. Однако другие ученые, в отличие от В. О. Ключевского, обнаружили в Избранной Раде полное соответствие Ближней Думе. С. В. Бахрушин спрашивал: «Не следует ли в «Избранной раде» видеть «ближнюю думу» официальных источников». Ответ у него был утвердительный{7}. Избранную Раду С. В. Бахрушин представлял в качестве «правительственного кружка», проводившего реформы 1550-х годов{8}. Вместе с тем историк видел в Раде «учреждение неофициальное»{9}. С догадкой С. В. Бахрушина согласился А. А. Зимин. Он писал: «В литературе уже ставился вопрос о так называемой Избранной раде, которая, по словам Курбского, в 50-е годы XVI в. осуществляла правительственные мероприятия. С. В. Бахрушин показал, что это название было переводом термина «Ближняя дума». С этим объяснением в целом следует согласиться. Выделение Ближней думы было одним из следствий расширения состава Боярской думы»{10}. А. А. Зимин, как и С. В. Бахрушин, усматривал в Избранной Раде «правительственный кружок, осуществлявший в 50-х годах XVI в. важнейшие реформы государственного аппарата»{11}. Этот кружок исследователь называет правительством Адашева, которое «выступило с развернутой программой, имевшей своей основной целью укрепление централизованного аппарата власти в интересах класса феодалов в целом». По Зимину, то «было правительство компромисса между отдельными группами феодалов, правительство консолидации сил господствующего класса вокруг растущей великокняжеской власти»{12}. В русле бахрушинских идей размышлял об Избранной Раде и В. М. Панеях, наблюдавший, как вокруг царя Ивана в период с 1547 по 1549 г. сложилась «немногочисленная группа советников», из которой образовался «правительственный кружок», названный князем Андреем Курбским Избранной Радой. В. М. Панеях не исключает того, что «Андрей Курбский заменил этим термином синонимические термины «Ближняя дума», «Тайная дума». Несомненно, Ближняя дума в еще меньшей мере, чем Боярская дума, может быть охарактеризована как институционализированный орган государственной власти или управления»{13}. Сходным образом рассуждали об Избранной Раде А. Г. Кузьмин и В. Д. Назаров. Первый из названных исследователей, наблюдая за расширением в конце 40-х годов XVI века состава Боярской Думы, увидел возникновение «внутри ее «Ближней думы», более известной в литературе под данным Курбским названием «Избранная рада». Никакими специальными установлениями эта структура не утверждалась, но фактически именно здесь решались все принципиальные вопросы государственного управления. И главной фигурой «Ближней думы» становится Алексей Адашев, не имея на первых порах боярского звания»{14}. По В. Д. Назарову, Избранная Рада и Ближняя Дума — различные наименования одного и того же учреждения. Историк говорил: «Для человека, знакомого с текстами документов 50-х годов XVI в., словосочетание «Избранная рада» звучит необычно. Термин, однако, давно прижился в научной, да и популярной литературе. Говорят нередко о правительстве «Избранной рады», хотя подобное сочетание суть тавтология. Князь Андрей Курбский, уже будучи в эмиграции, изобрел «Избранную раду» как привычное для шляхетского уха Великого княжества Литовского понятие. Если сделать его кальку на тогдашний русский язык, то получим ближнюю думу или ближний совет при царе»{15}. С сожалением надо признать: не отличал Избранную Раду от Ближней Думы и автор настоящих строк{16}. Мысль С. В. Бахрушина об Избранной Раде как Ближней Думе разделял в ранней своей работе Р. Г. Скрынников. «Высшим правительственным органом в середине XVI в., — говорил он, — была «ближняя дума», выделившаяся из Боярской думы. Ближняя дума 50-х гг. известна в исторической литературе под названием Избранной рады. Впервые она получила это наименование в сочинениях Курбского»{17}. Избранная Рада (Ближняя Дума), согласно Р. Г. Скрынникову, являлась новым правительством, выдвинувшим «в конце 40-х гг. широкую программу реформ»{18}. Избранную Раду исследователь считал возможным «рассматривать как правительство компромисса», хотя и «с существенными оговорками»{19}. Кроме правительства, т. е. Избранной Рады, Р. Г. Скрынников обнаруживает наличие кружков («группировок»), занимавшихся правительственной деятельностью и входивших полностью или частично в правительство. То были «кружок Адашева»{20} и «кружок Сильвестра»{21}. Наиболее значимым, по мнению историка, являлся «кружок Сильвестра»: «Правительство середины 50-х гг. называют обычно правительством Адашева и Сильвестра. Но доминирующее положение в нем занимал, бесспорно, кружок Сильвестра и князя Д. И. Курлятева, пользовавшийся поддержкой могущественной Боярской думы»{22}; «дворянский кружок Адашева занимал в правительстве Сильвестра подчиненное положение»{23}; «дворянский кружок А. Ф. Адашева занимал подчиненное положение в ближней думе»{24}. В скором времени взгляд на Избранную Раду и ее руководителей у Р. Г. Скрынникова изменился. И уже в книге об Иване Грозном он по-другому трактует реформаторскую роль Алексея Адашева, выставляя его впереди Сильвестра, и отказывается от концепции «кружков» Сильвестра и Адашева, заменяя ее теорией партии Адашева: «Возглавленная Адашевым партия реформ стала ядром правительства, получившего в литературе не вполне удачное наименование Избранной рады»{25}. Новый шаг в эволюции взглядов Р. Г. Скрынникова на Избранную Раду представлен в его книге «Царство террора», изданной в 1992 году. Отдельную ее главу, посвященную Избранной Раде, он начинает словами: «В своей «Истории о великом князе Московском» Андрей Курбский упомянул о том, что при Сильвестре и Адашеве делами государства управляла Избранная рада. Если верить письмам Грозного, Рада состояла сплошь из изменников-бояр. По Курбскому, в Избранную раду входили мудрые мужи. Несмотря на то, что «История» нисколько не уступала по тенденциозности письмам царя, предложенный Курбским термин «Избранная рада» получил признание в исторической литературе и лег в основу многих историографических оценок»{26}. Получается, следовательно, что пристрастный Курбский, тенденциозно рассказывавший об истории правления Ивана IV, ввел в заблуждение доверчивых историков, соблазнив их тем, чего в действительности не было, — мифической Избранной Радой. Правда, Р. Г. Скрынников не решается сказать об этом прямо и потому оставляет читателя с чувством неопределенности. Это чувство по прочтении главы еще больше обостряется, поскольку в ней нет ни определения Избранной Рады как института{27}, ни описания ее функциональной роли. Мы узнаем только, что Избранная Рада вроде бы существовала{28}, что она, кажется, не совпадала с Ближней Думой{29}. Впрочем, Р. Г. Скрынников высказал все же некоторые, так сказать, не акцентированные суждения об Избранной Раде, в частности, по социальному и персональному составу этого учреждения. Он разошелся с Д. Н. Альшицем, опровергавшим «представление о пробоярском составе и ориентации рады». Но вместе с ним отказался признать членство в Избранной Раде князя А. М. Курбского{30}, говорил о вхождении в Раду Алексея Адашева и боярина Д. И. Курлятева, которого назвал «одним из главных вождей» ее{31}. Как бы вскользь, но совершенно неожиданно Р. Г. Скрынников отождествляет Избранную Раду с «сигклитом» царя Ивана{32}, а этот «сигклит» — с Боярской Думой{33}. Но тут же вхождение Курлятева в Раду истолковывает как его приобщение к кругу ««избранных» друзей царя»{34}. Выходит, что Избранная Рада — это не Боярская Дума («сигклит»), а небольшая группа «избранных», находящихся в дружбе с государем. Словом, перед нами какая-то историческая окрошка, приготовленная Р. Г. Скрынниковым, возможно, под воздействием английского историка А. Гробовского, упорно отрицавшего историческую достоверность сведений, содержащихся в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского, особенно по части Избранной Рады, а также относительно деятельности Сильвестра{35}. О том, что здесь мы наблюдаем определенную идейную зависимость российского специалиста от английского, говорит переход Р. Г. Скрынникова на позиции А. Гробовского в вопросе о вымышленном характере Избранной Рады. Произошло это буквально в последние годы. Еще в 1997 году ученый говорит о том, что Избранная Рада образовалась во второй половине 1550-х годов, что «деятельность рады имела важные последствия: именно в середине 50-х гг. были проведены самые значительные и последовательные реформы»{36}. При этом он пользуется понятиями Избранная Рада и Ближняя Дума как взаимозаменяемыми{37}. Примерно так же Р. Г. Скрынников рассуждал и несколько позже: «Династическийкий кризис [1553 г.] привел к важным переменам. По словам Курбского, Адашеву и придворному священнику Сильвестру удалось с помощью бояр и митрополита Макария «отогнать» от царя бояр Захарьиных и составить из мудрых бояр новое правительство — Избранную раду. По словам Грозного, это сонмище (рада) состояло сплошь из изменников — бояр. Несмотря на то, что сочинение Курбского нисколько не уступало по тенденциозности писаниям царя, предложенный термин «Избранная рада» получил признание среди историков. Им стали обозначать правительство реформ. На самом деле реформы начали Захарьины, а закончила враждебная им рада во главе с князем Д. И. Курлятевым-Оболенским»{38}. Однако в недавнем новом издании книги РГ.Скрынникова об Иване Грозном читаем: «Историю рады невозможно связать ни с пожаром 1547 г., ни с удалением «ласкателей». Захарьины не только не лишились влияния после пожара, но, напротив, вошли в силу. Ни о какой замене «ласкателей» мудрыми мужами — радой — не было и речи. Приходится признать, что путаный рассказ Курбского может дать лишь превратное представление о правительстве реформ середины XVI в. В отличие от Избранной рады Ближняя дума была реальным учреждением, действовавшим на протяжении многих лет»{39}. Так историк перевел Избранную Раду в разряд нереальных учреждений. Все эти его идейные перепады могут говорить, на наш взгляд, лишь об одном: недостаточной продуманности исследователем показаний источников. В последнее время И. П. Ермолаев развивал мысль об Избранной Раде как «кружке приближенных» Ивана IV, который он вслед за другими историками называл правительством царя{40}. Отождествление Избранной Рады с Ближней Думой (тем более с большой Боярской Думой) было отвергнуто рядом историков. По словам С. Ф. Платонова, Избранная Рада формировалась постепенно за спиной Ивана Грозного, по молодости лет не занимавшегося государственными делами, «из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым». Историк вынужден признать, что «состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом думы «бояр всех», исконного государева совета, ни с ближней думою, интимным династическим советом. Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей». Приведенные высказывания С. Ф. Платонова взяты нами из его книги об Иване Грозном{41}. В лекциях по русской истории он говорил о Сильвестре, который «собрал около царя особый круг советников, называемый обыкновенно «избранною радою»… Это не была ни «ближнияя дума», ни дума вообще, а особая компания бояр, объединившихся в одной цели овладеть московскою политикою и направить ее по-своему… Нет сомнения, что «избранная рада» пыталась захватить правление в свои руки и укрепить свое влияние на дела рядом постановлений и обычаев, не удобных для московских самодержцев»{42}. С. Ф. Платонов полагал, что Избранная Рада «служила орудием не бюрократически-боярской, а удельно-княжеской политики», желая «ограничения царской власти не в пользу учреждения (думы), а в пользу известной общественной среды (княжат)»{43}. В рецензии А. Е. Преснякова на книгу С. Ф. Платонова «Иван Грозный» проводится прямое противопоставление Избранной Рады Ближней Думе{44}. М. К. Любавский в Избранной Раде видел совет, без которого царь не решал никаких дел. «На первый взгляд, — замечал он, — кажется, что эта избранная рада была все тот же интимный совет, ближняя дума или комнатная, с которой вершил всегда дела отец Ивана Грозного Василий Иванович. С формальной стороны избранная рада, конечно, была продолжением ближней думы. Но по действительному значению своему она была далеко не то, что прежняя ближняя дума: избранная рада стала не только помогать самодержавной царской власти, но и опекать ее, ограничивать ее»{45}. Избранная Рада представлялась Р. Ю. Випперу «тесным советом» при Иване Грозном. Отметив, что название Избранная Рада принадлежит кн. Курбскому, историк говорит: «Ни у кого другого этого названия не встречаем; а русский эмигрант, разумеется, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, «паны-рада»{46}. По мнению К. В. Базилевича, «инициаторами в образовании «Избранной рады» были близкие к великому князю священник Сильвестр и дворянин Алексей Адашев… После пожара и московского восстания 1547 г. они собрали вокруг себя из княжеской и боярской знати людей, образовавших неофициальный совет при московском государе. Его следует рассматривать как собрание людей, принадлежавших к дворцовой знати, одинаково смотревших на задачи внутренней и внешней политики. Позже князь Курбский назвал его «Избранной радой» (советом) лучших, избранных людей»{47}. К. В. Базилевич полагал, что Рада «не имела постоянного состава». Историк верно, на наш взгляд, угадал характер Избранной Рады, считая ее «неофициальным советом». Но с ним трудно согласиться, когда он говорит, что этот совет (Рада) не имел постоянного состава, Если бы это было так, то Избранная Рада была бы долговечнее, чем это произошло в действительности. Д. Н. Альшиц, обращаясь к Избранной Раде, подчеркивает, что царь Иван никогда не отождествлял ее «со своим официальным, лучше сказать традиционным «синклитом», т. е. Боярской думой или даже с Ближней думой»{48}. Довольно показательно, по Д. Н. Альшицу, то, что «оба полемиста — Иван Грозный и Курбский наделяют «совет», о котором у них идет речь, — Избранную раду функциями директории, фактического правительства. Поэтому точнее всего… Избранную раду правительством и называть. Это тем более верно, что в отличие от органа совещательного и законодательного — Боярской думы Избранная рада была органом, который осуществлял непосредственную исполнительную власть, формировал новый приказный аппарат и руководил этим аппаратом. Царь входил в правительство, фактически управлявшее страной в конце 40–50-х гг., и был удостоен в нем «честью председания» (по его утверждениям, лишь номинального). Он участвовал в его работе вместе со своими «друзьями и сотрудниками» Сильвестром и Адашевым. Это важнейшее обстоятельство придавало Избранной раде характер управляющей инстанции»{49}. Группа, правившая в 50-е годы XVI века, — так характеризовал Избранную Раду Я. С. Лурье{50}. Интересные соображения по вопросу о соотношении понятий Избранная Рада и Ближняя Дума привел В. Б. Кобрин. Имея в виду своих предшественников в деле изучения эпохи Ивана Грозного, он пишет: «Предполагали, что термином «Избранная рада» Курбский передал русский термин «Ближняя Дума», круг наиболее близких к царю бояр, с которыми он советуется постоянно. Однако источникам XVI века Ближняя дума еще не известна, она появляется только в XVII веке. Кроме того, Сильвестр, будучи священником, не мог входить ни в Боярскую думу, ни тем более в ее часть — Ближнюю. Отсюда порой делают вывод, что Сильвестр не входил в Избранную раду. Но ведь вопрос можно поставить и иначе: раз Сильвестр входил в Избранную раду, она не была Ближней думой. Ведь об участии Сильвестра в правительственной деятельности сохранилось немало известий, возникших самостоятельно, независимо друг от друга… Вполне вероятно, что этот правительственный кружок был неофициален и не имел твердого, прочного названия»{51}. Среди названных положений В. Б. Кобрина наибольшую ценность, по нашему мнению, представляет положение о неофициальном статусе Избранной Рада, т. е. о ее неформальном характере. Именно неформальный характер данного государственного института позволяет понять многое в его загадочной и во многом темной истории. Возражения историков против отождествления Избранной Рады с Ближней Думой не произвели серьезного впечатления на И. Гралю. И он убежденно заявил, что точка зрения С. В. Бахрушина «решающим образом повлияла на историографию», что вывод его «не был опровергнут», и «большинство исследователей признает существование Избранной рады», отождествляя ее с Ближней Думой{52}. Предшествующий историографический обзор показывает поспешность подобных заключений. Сам же И. Граля считает бесспорным «факт образования на рубеже 50-х при царе группы советников, тесно связанной с Ближней думой или даже идентичной ей»{53}. Следует упомянуть еще об одной концепции Избранной Рады, основанной на толковании слова избранный в значении выборный, избранный. Еще В. И. Сергеевич, отвечая на вопрос, из кого состояла Рада, замечал, что в нее «входили не все думные чины, а только некоторые из них, избранные»{54}. М. Н. Покровский, касаясь сюжета об управлении государством «в дни молодости Грозного», говорил, что во главе этого управления «стояла не вся дума, а небольшое совещание отчасти думных, а отчасти, может быть, и недумных людей, но члены этого совещания были избраны не царем, а кем-то другим. В пылу полемики Грозный даже утверждал потом, что туда нарочно подбирались люди для него неприятные, но из его же слов видно, что неприятны они были своей самостоятельностью по отношению к царской власти, и возможно, что именно этот признак и решал выбор. Если понимать слова Курбского буквально, то это совещание и называлось «советом выборных» — избранной радой, выборных, разумеется, от полного состава боярской думы, хотя и не всегда из этого состава. Повинуясь обстоятельствам, бояре должны были допустить сюда людей, не принадлежавших к их корпорации…»{55}. Представления М. Н. Покровского об Избранной Раде получили недавно развитие в исследовании В. В. Шапошника, который, как и его предшественник, полагает, будто Курбский слово избранная применяет в значении выбранная{56}. Правда, здесь же мы узнаем от автора, что «беглый боярин» хотя и пользуется данным словом в указанном значении, но подразумевает в нем и другой смысл — лучшая{57}. Хотелось бы, конечно, большей определенности в этом принципиальном вопросе. Разумеется, вряд ли кто-нибудь решится возражать В. В. Шапошнику в том самоочевидном вопросе, что лица, входящие в Раду, не избирались «прямым, равным и тайным голосованием»{58}. Сомнение в другом: избирались ли они вообще. Подобное сомнение тем более уместно, что к мысли об избрании «радников» историк приходит довольно оригинальным способом. Он утверждает, будто лица, входящие в Раду, пользовались поддержкой «определенных социальных групп», чьи интересы отражали, и потому были «более-менее самостоятельны по отношению к царской власти»{59}. Этой поддержке В. В. Шапошник придает особое значение, поскольку «в глазах беглого боярина (Курбского. — И.Ф.) именно поддержка определенных общественных сил делала членов «Рады» «избранными», т. е. выбранными{60}. Тогда при чем, спрашивается, здесь выборы? При том, оказывается, что царь по собственному усмотрению выбирал из различных общественных групп (сословий) своих советников и вводил их в Избранную Раду, полагая, что они «будут выражать интересы различных групп — бояр, дворян и духовенства»{61}. Но царский выбор есть, собственно, назначение. В результате получается так, будто Иван IV назначил представителей от разных сословий и собрал их вокруг себя в качестве советников, «зависимых не только и не столько» от него, сколько от этих сословий{62}. Неудивительно, что для В. В. Шапошника Избранная Рада стала воплощением «некой формы представительства», схожей с Земским собором{63}. И В. В. Шапошник говорит об этом вполне определенно: «Рада являлась представительным органом, своего рода моделью Земского собора…»{64}. Если названные выше исследователи, несмотря на расхождения во взглядах на Избранную Раду, все же признавали ее реальность, то в лице И. И. Смирнова, А. Гробовского и А. И. Филюшкина мы встречаемся с историками, подвергающими сомнению сам факт существования данного института. И. И. Смирнов, рассмотрев ряд исследований, затрагивающих проблему Избранной Рады, пишет: «Обзор литературы вопроса показывает, что независимо от имеющихся у тех или иных авторов различий во взглядах на «избранную раду», общей чертой всех исследователей этого вопроса является то, что все они берут за исходный момент своих исследований понятие «избранная рада» как нечто наперед данное и подлежащее лишь истолкованию и расшифровке. Иными словами, все исследователи молчаливо признают за некую аксиому то, что «избранная рада» — это реально существовавший факт, и дело исследователя — лишь правильно понять и объяснить существо этого факта. При этом странным образом забывается о том, что, прежде чем предлагать то или иное толкование «избранной рады», следует исследовать вопрос о происхождении этого понятия. Речь в данном случае идет, конечно, не о разъяснении этимологии термина «избранная рада», а о выяснении литературной истории этого термина, т. е. о выяснении того, что за источник, откуда мы узнаем об «избранной раде», и насколько можно доверять этому источнику»{65}. Изучив под этим углом зрения соответствующие исторические данные, И. И. Смирнов пришел к выводу о том, что «рассказ Курбского об «избранной раде», содержащийся в «Истории о великом князе Московском» и являющийся основным источником по вопросу об «избранной раде», представляет собою образец применения Курбским своих теоретических воззрений к освещению событий политической истории Русского государства и не может быть правильно оценен вне общей теории Курбского о принципах управления государством»{66}. Концепцию Избранной Рады надлежит, следовательно, рассматривать как отражение этой теории, а самое Раду — как некий идеальный тип государственного учреждения, существующий в теории, а не в жизни. Вот почему, «изображая «избранную раду» как продукт творчества Сильвестра и Адашева, Курбский коренным образом искажает ту реальную обстановку, в которой сложилось правительство Русского государства в 50-х годах XVI в.»{67}. Но это не значит, что Курбский летал в заоблачной выси фантазии, будучи совершенно оторванным от исторической действительности. Преподнося Избранную Раду в качестве правительства царя Ивана, он мог «опираться на реальную практику управления государственными делами в Русском государстве XVI в. Этой реальной основой рассказа Курбского об «избранной раде» являлась та роль, которую играла в Русском государстве XVI в. Боярская дума как в полном ее составе («все бояре»), так и особенно в форме «ближней думы», представляющей собой ядро наиболее приближенных к царю бояр, своего рода правящую верхушку Боярской думы»{68}. Отвечая на вопрос о происхождении термина «Избранная Рада», И. И. Смирнов говорит: «Можно считать весьма вероятным, что он был если не прямо взят Курбским из Степенной книги с дальнейшим полонизированием (вместо «думы» «рада»), то, во всяком случае, образован в стиле и манере макарьевской литературной школы. Таким образом, под «избранной радой» Курбский, несомненно, имел в виду «ближнюю думу»{69}. Идеи И. И. Смирнова были восприняты А. Н. Гробовским, который полностью отрицал существование Избранной Рады как некоего государственного органа, считая ее историографической легендой. «Избранная рада с ее обширным составом, программами и политикой, — писал он, — не что иное, как чистый вымысел»{70}. Пример А. Н. Гробовского увлек А. И. Филюшкина, который, рассмотрев переписку Ивана Грозного с Курбским, а также «Историю и великом князе Московском», написанную беглым князем, пришел к следующему выводу: «До известий ППГ (Первого послания Грозного. — И.Ф.) о «Раде» Курбский не знал о существовании такого правительства. Все его известия вторичны, представляют собой вывернутые наизнанку идеи Грозного»{71}. Использование Курбским термина «Рада» доказывает, по Филюшкину, лишь одно: «выдуманность этого правительства»{72}. Вместе с тем оно «указывает на памфлетный, пропагандистский характер ИВКМ (Истории о великом князе Московском), нацеленной целиком на читателя из Польши и Литвы»{73}. Не лучше обстоит дело и с информацией о Сильвестре и Адашеве, сообщаемой Иваном Грозным. Она скорее отражает «сформировавшиеся к 1564 г. представления Ивана IV об истории 1550-х гг., чем реальное положение вещей»{74}. Общий вывод А. И. Филюшкина состоит в том, что «история «Избранной Рады» — это политическая и историографическая легенда, сформировавшаяся на страницах переписки Грозного с Курбским. Эта легенда в большей степени отражает процессы полемики и политической борьба в общественной мысли в 1560–1570-е гг., чем реальную историю 1550-х гг.»{75}. Современные историки по-разному относятся к построениям А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина — положительно и отрицательно. А. П. Павлов, например, вслед за этими исследователями серьезно сомневается «в самом факте существования особого правительства реформаторов — так называемой «Избранной Рады». Скорее всего, под «Избранной Радой» у Курбского следует понимать собирательный, литературный образ «добрых», «избранных» советников, прежде всего Адашева и Сильвестра, в противовес «злым» советникам, которые подтолкнули царя Ивана к установлению единодержавного тиранического правления»{76}. Однако новации А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина встретили критику со стороны других известных историков русского Средневековья. По словам И. Грали, «труд Гробовского, хотя и вызывает интерес, имеет существенные недостатки, которые серьезно ослабляют убедительность выдвинутых аргументов»{77}. А. Л. Хорошкевич, оценивая наблюдения А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина в области изучения истории Избранной Рады, говорит: «Попытка современного английского историка А. Н. Гробовского пересмотреть вопрос о существовании Избранной рады и преуменьшить значение Алексея Адашева, поддержанная А. И. Филюшкиным, предпринявшим чисто формальное исследование политической элиты России середины XVI в., основана на полном недоразумении, игнорировании нарративных и некоторых делопроизводственных источников»{78}. Далее А. Л. Хорошкевич замечает: «Отрицая роль Сильвестра в государственной деятельности и его влияние на царя, А. Гробовский не использовал посольских дел. То же самое проделал и А. И. Филюшкин, формально, как и А. Н. Гробовский, рассматривающий кадровые передвижки в составе Боярской думы»{79}. Эти критические замечания И. Грали и А. Л. Хорошкевич, обращенные в адрес А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина, далеко не беспочвенны. Думается, что дальнейшее изучение Избранной Рады должно выйти за рамки сопоставления ее (а тем более отождествления) с формальными институтами — Боярской Думой, Ближней Думой, правительством, представительными учреждениями и т. п. На наш взгляд, Избранная Рада нуждается в рассмотрении как неформальная и в некотором роде негласная организация лиц, объединенных общей идеей и преследующих цель «обволакивания» самодержавной власти ради реализации собственных интересов. И здесь нет ничего сугубо специфичного, характерного лишь для середины XVI века. В данном случае перед нами известное продолжение политики, заявившей о себе в конце XV столетия, когда при дворе Ивана III возникла еретическая партия, атаковавшая православную веру и церковь, пользуясь попустительством и даже поддержкой московского великого князя. Большие надежды в осуществлении своих замыслов еретики, возглавляемые протопопом Алексеем, дьяком Федором Курицыным и великой княгиней Еленой Волошанкой, возлагали на сильную, неограниченную великокняжескую власть. Чтобы добиться управляемости властью великого князя и превратить ее в послушный инструмент своей политики, они выдвинули план передачи великокняжеского стола сыну Волошанки Дмитрию. Этот план не состоялся. На престол взошел Василий III. Еретики подверглись казням и преследованиям. Атака враждебных русской церкви сил была отбита. Но, оправившись от разгрома, партия еретиков, руководимая теперь Вассианом Патрикеевым, попыталась, хотя бы частично, сделать то, что не удалось совершить Федору Курицыну и его единомышленникам. Казалось, для этого сложилась благоприятная конъюнктура: Вассиан сблизился с Василием III, вошел к нему в доверие и стал «временным человеком», которого люди боялись больше, нежели великого князя. Однако снова суд, опалы и преследования. Вторая попытка наступления на русский церковно-монастырскии уклад и святоотеческую веру окончилась провалом. Рассыпались надежды и на самодержавную власть, связь которой с церковью становилась все более прочной, а самодержец все зримее выступал в роли Удерживающего, или Заступника святой апостольской церкви. Так перед врагами русского православия и церкви встала задача ограничения самодержавия, превращения его из власти «по Божьему изволению» во власть «по многомятежному человеческому хотению»{80}. Подобное превращение самодержавной власти являлось началом разрушения «Святорусского царства», только что возвестившего о себе всему тогдашнему миру. Названную задачу, не подлежащую, разумеется, разглашению, и предстояло решить Избранной Раде. Этим, по-видимому, объясняется негласный, в определенной степени скрытый характер Рады и, в частности, то обстоятельство, что до сих пор нам практически неизвестен ее персональный состав, тогда как по вполне ясным намекам источников это было достаточно многочисленное сообщество. В самом деле, когда исследователи говорят об Избранной Раде как учреждении, отличном от Ближней Думы (а таковой Рада и являлась), то обычно приводят считаные имена лиц, причастных к ней: Сильвестр, А. Ф. Адашев, Д. И. Курлятев, а также Макарий и А. М. Курбский, но оба — под сомнением{81}. Может показаться, что причиной затруднений ученых в данном вопросе послужило то, что Рада «не оставила никаких следов в официальных памятниках, и сведения о ней мы черпаем почти исключительно из публицистики XVI века»{82}. Пусть будет так. И все же главная причина, на наш взгляд, состоит не в этом, во всяком случае, — не только в этом. Весьма красноречив тот факт, что и Грозный и Курбский завели речь на тему о советниках, стеснявших самодержавную власть, уже после того, как с ними было покончено. Ранее об их действительной роли, судя по всему, мало кто знал, особенно за пределами дворца. Завуалированности их действий способствовало то обстоятельство, что они проводили свою политику не столько через официальные институты и учреждения, сколько посредством прямых контактов с государем{83}. Отсюда следуют, по меньшей мере, два вывода: 1) Избранная Рада, имея неформальный характер, представляла собой поставленное над существующими государственными органами негласное политическое объединение{84}, официальные сведения о котором не доводились до русского общества{85}; 2) В нераспространении этих сведений, хотя и по разным основаниям, были равно заинтересованы как царь Иван, так и Курбский вместе с другими своими сотоварищами: царь потому, что огласка политики Рады, обсевшей государя плотным кольцом, бросала тень на самодержца как суверена и вообще на русское «самодержавство», только что торжественно провозглашенное актом венчания Ивана IV на царство и объявленное божественным по происхождению; князь же Андрей со своими единомышленниками потому, что эта огласка обнажала предосудительные планы их организации. И только после разгрома Избранной Рады, когда ни одной, ни другой стороне скрывать было нечего, она стала предметом обсуждения в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским и в «Истории» последнего. О чем извещали современников и потомков царь Иван и бывший его боярин Андрей Курбский? Что они сообщали об Избранной Раде? * * *Высказывания Грозного, которые можно связать с Избранной Радой, сосредоточены главным образом в первом царском послании Курбскому (Москва, 5 июля 1564 г.). Долго, стало быть, молчал Иван Васильевич и наконец заговорил, побуждаемый к тому «бесосоставной грамотой» князя-изменника. Надо заметить, однако, что в лексике государя термин «Избранная Рада» отсутствует. Зато он нередко пользуется словами: сигклит (синклит){86}, синклитство{87}, советники{88}, согласники{89}, единомысленники{90}. Слово «сигклит» («синклит») означало в устах Ивана, по всей видимости, Боярскую Думу{91}. «Аще благ еси и прав, — писал он Курбскому, — почто имея в сигклите пламени паляще, не погасил еси, но паче разжегл еси?»{92}. Я. С. Лурье и О. В. Творогов предлагают следующий перевод этого текста. «Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском совете разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее разжег?»{93}. «Царский совет» есть, по-видимому, Боярская Дума. К этому добавим: Грозный винил Сильвестра и Адашева за то, что они «единомысленника своего, князя Дмитрия Курлятева к нам в синклит припустили»{94}. Царь в данном случае имел в виду, скорее всего, Боярскую Думу{95}. Важно отметить, что Сильвестр и Адашев «припустили» Курлятева в Думу после московского восстания 1547 года{96} (где-то в самом конце 40-х годов{97}), когда они вошли во власть. Грозный вспоминал также случай с князем Семеном Ростовским, который, как выразился самодержец, «по нашей милости, а не по своему достоинству, сподобен быти от нас синклитства»{98}, т. е. введен в Боярскую Думу{99}. Несколько сложнее обстояло дело с употреблением Иваном Грозным слова «советник» («советники»). Выявляются, по крайней мере, два смысловых значения, вкладываемых царем Иваном в данное слово. Грозный, во-первых, разумеет в нем государевых советников, роль которых издавна присвоили себе бояре, с которыми князья обязаны были думу думать и совет держать{100}. Подобная практика сохранялась очень долго, видоизменяясь по ходу времени и приспосабливаясь к новым историческим условиям. В модифицированном виде мы ее встречаем и в XVI веке. Известное ее отражение находим в преамбуле первого Послания Ивана Грозного к Андрею Курбскому. «Сего православного истиннаго християнского самодержавства, многими владычествы владеющаго, повеления, наш же християнский смиренный ответ бывшему прежде православнаго истиннаго христианства и нашего самодержания боярину и советнику и воеводе, ныне же крестопреступнику честнаго и животворящаго креста Господня…»{101}. Здесь царь называет придворные чины и звания, упоминая среди них боярскую должность советника, сочетающую одновременно право и обязанность боярина подавать государю советы по обсуждаемым в Боярской и Ближней Думах вопросам государственной жизни и текущей политики. Наряду с этим значением термина «советник» как придворной должности, Грозный пользуется словом «советники», придавая ему иной смысл: союзники, сообщники, единомышленники, т. е. учинившие сговор «согласники», группирующиеся вокруг Сильвестра и Алексея Адашева. Отношение к ним у государя весьма негативное. Он дает им резко отрицательную оценку, именуя их «сатанинскими слугами»{102}, «бесовскими служителями»{103}, «злобесовскими советниками»{104}, «злобесными единомысленниками»{105}, «злыми советниками»{106}, «злодейственными изменными человеки»{107}. Чем заслужили советники Сильвестра и Адашева столь нелестные аттестации? Иван Грозный, обращаясь к Андрею Курбскому, так отвечает на этот вопрос: «Понеже бо есть вина и главизна всем делом вашего злобеснаго умышления, понеже с попом положисте совет, дабы аз словом был государь, а вы б с попом делом (владели)»{108}. Аналогичная мысль звучит и во втором Послании Грозного Курбскому: «Или вы растленны, что не токмо похотесте повинными мне быти и послушными, но и мною владеете, и всю власть с меня сияете, и сами государилися, как хотели, а с меня есте государство сняли: словом яз был государь, а делом ничево не владел»{109}. Так Курбский и его «единомышленники» отторгли под свою власть державу, данную Ивану Богом и полученную им от прародителей{110}. Главными виновниками покушения на власть были, по словам Грозного, поп Сильвестр и Алексей Адашев, которые «сдружились и начаша советовати отаи нас, мневше нас неразсудных суще; и тако, вместо духовных, мирская нача советовати, и тако помалу всех вас бояр в самовольство нача приводите нашу же власть с вас снимающе, и в супротисловие вас приводяще, и честию вас мало не с нами равняющее, молотчих же детей боярских с вами честью уподобляюще»{111}. Особенно раздражал Ивана поп Сильвестр, забывший о своем священническом сане ради мирской власти: «Или мниши сие светлость благочестива, еже обладатися царьству от попа невежи и от злодейственных изменных человек, и царю повелеваемому быти?»; «или убо сие свет, яко попу и прегордым лукавым рабом владети, царю же токмо председанием и царскою честию почтенну быти, властию же ничим же лучше быти раба?»{112}. Заслуживает пристального внимания свидетельство Ивана Грозного о политике Сильвестра и Адашева, приводящей в «самовольство» и «супротисловие» бояр царю, производящей «поравнение» в чести бояр с государем, а бояр — с детьми боярскими. Если оно соответствовало действительности, то придется признать, что реформаторы, возглавляемые Сильвестром и Адашевым, склонялись к переустройству русского служилого сословия на манер литовско-польского шляхетства, воспринимавшего своего короля как первого среди равных (и потому — выборного), но отнюдь не как Богом данного государя (и поэтому — наследственного). Речь, в конечном счете, шла об изменении политического строя Руси, причем о таком изменении, какое в исторических условиях той поры, характеризуемых смертельной угрозой извне, было бы, несомненно, гибельным для страны. Но, чтобы добиться успеха, реформаторы должны были заставить самодержца поделиться с ними властью. И, казалось, они здесь преуспели. Во всяком случае, Иван Грозный писал Андрею Курбскому, напоминая ему о Сильвестре, Адашеве и Курлятеве, которые «от прародителей наших данную нам власть от нас отъяша, еже вам бояром нашим по нашему жалованию честию и преседанием почтенным быти; сия убо вся по своей власти, а не в нашей положиша, яко же вам годе, и яко же кто как восхощет; потом же утвердися дружбами, и всю власть во всей своей воли имый, ничто же от нас пытая, аки несть нас, вся строения и утвержения по своей воле и своих советников хотения творяще»{113}. Само собой разумеется, что без кадровой опоры осуществить все это узурпаторам было бы невозможно. И они, по свидетельству царя, «ни единыя власти оставиша, идеже своя угодники не поставиша, и тако во всем свое хотение улучиша»{114}. Сейчас не время рассуждать о том, насколько справедливы жалобы Ивана Васильевича{115}. Достаточно в данный момент подчеркнуть, что Сильвестр и Адашев вместе со своими «советниками», как утверждал Иван Грозный, не только противились самодержавной власти, но добились еще и фактического ее ограничения. Однако этим не исчерпывались, по Грозному, «злобесные» дела Курбского, его «друзей и назирателей». Иван говорит, что они, помимо «истиннаго християнского самодержавства», нападали также на православную Веру и апостольскую Церковь. Это и понятно, поскольку Самодержавие и Церковь составляли, согласно воззрениям тех времен, единое целое, что превосходно выражено в грамоте (1393) константинопольского патриарха Антония великому московскому князю Василию Дмитриевичу, где читаем: «Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собою, и невозможно отделить их друг от друга»{116}. Поэтому всякое выступление против русского самодержавия означало, в конечном счете, выступление против существующей в России православной церкви, и наоборот. Понятно также, что любое противоцерковное действие являлось по существу антиправославным деянием. В исторической науке обвинениям религиозного свойства, вмененным Курбскому царем Иваном, не уделялось должного внимания{117}, что приводило историков, сосредоточенных исключительно на политической борьбе вокруг самодержавия, к одностороннему освещению деятельности Избранной Рады. Это тем более досадно, что Грозный ясно и определенно, притом неоднократно, заявляет о попрании Курбским и другими представителями Рады «православнаго истиннаго христианства». Он пишет ответ свой князю Андрею Михайловичу Курбскому — «крестопреступнику честнаго и животворящаго креста Господня, и губителю хрестиянскому, и ко врагом християнским слагателю, отступшему божественнаго иконнаго поклонения и поправшему вся священная повеления, и святые храмы разорившему, осквернившему и поправшему священныя сосуды и образы, яко же Исавр, Гноетезный, Армении…»{118}. В. Б. Кобрин и Я. С. Лурье, комментируя цитированный текст, говорят: ««Врагами христианства» царь называет польско-литовских правителей и военачальников, которых русские источники того времени неоднократно обвиняли в разграблении православных церквей; с этим связано и сравнение их с тремя византийскими императорами-иконоборцами — Львом III Исавром (717–741 гг.), Константином V Копронимом (т. е. «Навозоименным», по-древнерусски «Гноетезным», 741–775 гг.) и Львом V Армянином (813–820 гг.)»{119}. Ради точности надо заметить, что Грозный в данном случае сравнивает с тремя византийскими императорами-иконоборцами не польско-литовских правителей и военачальников, а князя Курбского, отвергшего «иконное поклонение». Следовательно, данное сравнение между Курбским и названными басилевсами проводилось царем Иваном, прежде всего, по линии отказа от почитания икон. Оно должно было подчеркнуть всю серьезность обвинения, высказанного Иваном Грозным в адрес Андрея Курбского, поскольку упомянутые византийские монархи принадлежали к числу наиболее активных иконоборцев. Лев III, например, законодательным путем отменил культ икон, собрав заседание «синклита» («селенций»), на котором «предложил высшей знати подписаться под эдиктом, запрещающим иконопочитание»{120}. Другой иконоборец, Константин V, пытался укрепить иконоборчество «решениями вселенского собора. С 10 февраля по 27 августа 754 г. заседал собор в одном из предместий Константинополя. 338 представителей церкви единогласно приняли положения о том, что иконопочитание возникло вследствие козней сатаны. Писать иконы Христа, Богоматери и святых — значит оскорблять их «презренным эллинским искусством». Запрещалось иметь иконы в храмах и частных домах… Все «древопоклонники и костепоклонники» (т. е. почитавшие мощи святых) предавались анафеме и особо Иоанн Дамаскин и Герман (патриарх Константинопольский. — И.Ф.)»{121}. Важно напомнить, что отвержение почитания икон было присуще ересям тех времен — несторианской, монофиситской, монофелитской, павликианской и пр{122}. Поэтому императоры-иконоборцы благосклонно относились к еретикам. В частности, Лев III и Константин известны терпимостью к павликианам, которых они причисляли к своим союзникам в борьбе против иконопоклонников{123}. Такого рода отношение верховной власти к еретикам способствовало оживлению и некоторому подъему еретических движений в Византии. По степени активности этих движений можно судить о том, насколько терпимым и, быть может, сочувственным являлось отношение к ересям наверху в тот или иной период византийской истории. Данный принцип универсален. Он применим и к истории Руси. Мы ведь видели, как покровительственное отношение Ивана III к еретикам послужило мощным стимулом развития «ереси жидовствующих» в Русском государстве конца XV — начала XVI века. Забегая несколько вперед, скажем: названный принцип позволяет многое понять и в исторической ситуации, сложившейся на Руси в середине XVI века. Детальнее об этом потолкуем позже, а сейчас вернемся к Андрею Курбскому и его товарищам, обвиняемым Иваном Грозным в религиозных преступлениях. Грозный изображает Курбского в компании злобных врагов православия («к ним же ты любительне совокупился еси»{124}), которые, отвергнув иконы и таинства, отпали от Бога («не токмо тебе сему ответ дати, но и противу поправших святые иконы, и всю христианскую божественную тайну отвергшим, и Бога отступльшим»{125}). «Христианская Божественная Тайна» есть, надо думать, установленные Иисусом Христом таинства, такие, например, как Крещение, сообщающее благодать Св. Духа, очищающее от грехов и перерождающее, как Причащение, соединяющее со Христом, делающее причастником жизни вечной, и Покаяние, дарующее прощение грехов{126}. Царь Иван вполне обоснованно трактует отвержение таинств как отступничество от Господа Бога Иисуса Христа, обвиняя в этом отступничестве князя Курбского и его друзей. Отступив, по версии Грозного, от Христа, Курбский не мог не отпасть от православной Церкви. Иван Грозный говорит: «Ваша злобесная на церковь восстания разсыплет сам Христос»{127}. При этом он не поясняет, в чем заключалось «злобесное на церковь восстание» Курбского с единомышленниками. Правда, Иван уподобляет поведение князя поступкам библейского царя Иероваама I. Грозный писал Курбскому: «Смотри же и древняго отступника Еровоама, сына Наващща, како отступи з десятью коленми израилевыми, и сотвори царьство в Самарии и отступи от Бога жива и поклонися тельцу, и како убо смятеся царьство Самаринское неудержанием и вскоре погибе…»{128}. Из Ветхого Завета узнаем о разделении Израиля на два царства, произошедшем при Ровоаме, сыне Соломона и Наамы: «И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам» (3 Царств, 12). Отделившиеся десять колен Израиля послали за вернувшимся из Египта Иеровоамом, сыном Навата, и «воцарили» его. И вот «обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем; оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому. И посоветовавшись царь сделал двух золотых тельцов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, [и оставил храм Господень]. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, который он произвольно назначил; и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение» (Там же). Можно думать, что сравнение Курбского с Ровоамом, отступившим «от Бога жива» и воскурившим фимиам «тельцу», понадобилось Грозному для того, чтобы усилить впечатление от возлагаемых на Курбского «со товарищи» обвинений в измене православию и русской церкви. Для нас, однако, важен сам факт обвинения Курбского в предательстве веры и церкви, в злоумышлении по отношению к ним, идущем от происков сатаны: «Антихристаже вемы: ему же вы подобная творите злая советующе на церковь Божию»{129}. О «восстании на церковь» кн. Курбского с «единомысленники» Иван Грозный говорит на протяжении своего послания неоднократно. Вот еще один характерный пример: «На церковь восстаете и не престающе нас всякими озлоблении гонити, и иноплеменных язык на нас совокупляюще всякими виды, гонения ради и разорения на християнство, яко же выше рех, на человека возъярився, на Бога вооружилися есте и на церковное разорение. К гонению — яко же рече божественный апостол Павел: «Аз же, братие, аще обрезание еденаче проповедую, что и еще гоним есмь; убо упразнися соблазн креста. Но да и содрогнутся развещевающии сия!» И аще убо, яко же вместо креста обрезание тогда потребна быша, тако же убо и вам, вместо государского владения, потребно самовольство. Ино ныне свободно есть: почто и еще не престаете гонити?»{130}. В. Б. Кобрин и Я. С. Лурье следующим образом комментируют данный текст: «Иван сравнивает «избранную раду» с гонителями христианства — сторонниками ортодоксального иудейства…»{131}. Имел ли Грозный хоть какие-нибудь основания для столь смелых сравнений? Не сочинял ли он? Если исходить из сведений, содержащихся в его послании Курбскому, придется признать, что некоторые основания для такого рода сравнений царь имел. Согласно намекам государя, Андрей Курбский был любителем Ветхого Завета: «Аще ветхословие любиши, к сему тя и приложим»{132}. Это — многозначительный намек, косвенно уличающий Курбского в склонности к «ереси жидовствующих», возникшей на Руси в конце XV века и в различных модификациях дошедшей до времен Ивана Грозного. Приверженцы этой ереси, как известно, отдавали предпочтение Ветхому Завету перед Новым Заветом. По-видимому, Курбский испытал некоторое их влияние. Следы подобного влияния видны в некоторых местах писем Курбского Грозному. В третьем Послании князя Курбского царю Ивану встречаем, как нам кажется, довольно примечательный в данном отношении текст: «Очютися и воспряни! Некогда поздно, понеже самовластие наше и воля, аже до распоряжения души от тела ко покаянию данна я и вложенная в нас от Бога, не отъемлетца исправления ради нашего на лутчее»{133}. Самовластие и воля — понятия, связанные с поднятыми в еретической литературе конца XV — середины XVI века проблемами самовластия человека и его души, свободы воли и выбора. Вспомним «Лаодикийское послание» Федора Курицына, открывающееся загадочными словами: «Душа самовластна, заграда ей вера»{134}. Как справедливо замечает Я. С. Лурье, «начало «Лаодикийского послания» представляет несомненный интерес для характеристики мировоззрения вождя московских еретиков»{135}. По мнению исследователя, Федор Курицын, начиная свое сочинение с утверждения о самовластии души, «выступает в качестве решительного сторонника теории свободы воли»{136}. Это означает, что он был противником учения о божественной предопределенности всего сущего, включая судьбу человека, что было тогда не чем иным, как проявлением религиозного вольномыслия. По наблюдениям А. И. Клибанова, «мотивы Лаодикийского послания навеяны Ветхим Заветом и подобраны тенденциозно в духе реформационных идей. К их числу, конечно, прежде всего относится идея самовластия души, первоисточники которой действительно прослеживаются во Второзаконии…»{137}. Если это так, то любитель «ветхословия» Курбский тем более был расположен к идее самовластия души и воли. Иван Грозный нисколько не сомневался насчет еретической сути учения о самовластии человека. Он затрагивает это учение, реагируя на слова Курбского, относящиеся, казалось бы, к несколько иной материи, нежели людское самовластие. Факт довольно показательный, свидетельствующий о том, что идея самовластия человека являлась предметом неумолкающих споров среди русских интеллектуалов той поры. Андрей Курбский писал царю: «Али ты безсмертен, царю, мнишися, и в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской, богоначяльному Иисусу, хотящему судити вселенней в правду…»{138}. Обширным рассуждением ответил царь на эту реплику Курбского{139}. Он, в частности, писал: «А еже писал еси, аки не хотящу ми предстати неумытному судищу, — ты же убо на человека ересь покладываеш, сам подобно манихейстей злобесной ереси пиша. Яко же они блядословят, еже небом обладати Христу, на земле же самовластным быти человеком, преисподними же дьяволу…»{140}. Самовластие (самовольство) Иван Грозный воспринимает как непокорство Богу и, стало быть, отпадение от Него. Клеймя Курбского за бегство к польскому королю Сигизмунду II Августу, он говорит: «А еже от него надеешися много пожалован быти — се убо подобно есть, понеже не хотесте под Божиею десницею власти быти и от Бога нам данным и повинным быти нашего повеления, но в самовольстве самовластия жити…»{141}. Было ошибочно возлагать обвинения Грозного в отступничестве от православной веры и церкви на одного лишь Курбского. Эти обвинения царь обращал не только к своему корреспонденту, но также к Сильвестру, Алексею Адашеву и ко всем их «советникам». Именно поэтому Иван Васильевич связывал положительные перемены в жизни русской церкви с разгромом сильвестро-адашевской придворной группировки: «Праги же церковные, — елико наша сила и разум осязает, яко же подовластные наши к нам службу свою являют, сице украшенми всякими, церкви Божия светится, всякими благостинями, елико после вашея бесовския державы сотворихом, не токмо Праги и помост, и предверия, елико всем видима есть и иноплеменным украшения»{142}. Грозный, следовательно, хочет сказать, что Курбский и его «согласники» противодействовали украшению церквей драгоценностями — дорогими иконами, предметами культа и пр. Они не одобряли также одаривание церквей «всякими благостинями». Но такую политику могли проводить люди, разделявшие еретические убеждения о недопустимости церковных богатств. Самодержец хорошо понимал это и потому характеризовал их власть как бесовскую, вкладывая в этот термин вполне определенный антицерковный смысл. По версии царя Ивана, Сильвестр, Адашев и другие, не довольствуясь религиозным вольномыслием, покушались, кроме того, на церковную власть, стремясь овладеть и царством и священством. Историки на это мало обращают внимание (если вообще обращают), сосредоточившись на борьбе Избранной Рады с самодержавием Ивана IV. Между тем, Грозный говорит: «Паче убо вы гордитеся дмящеся, понеже раби суще, святительский сан и царский восхищаете, учаще, и запрещающе и повелевающе»{143}. Таким образом, по свидетельству Ивана IV, в середине XVI века при царском дворе образовалась группа царских советников во главе с Адашевым и Сильвестром, которая, пользуясь полным доверием государя, пыталась захватить светскую и духовную власть в стране с целью изменения ее церковно-государственного строя и религиозной направленности. И тут Иван в некоторых моментах сходится с Андреем Курбским, сообщавшим также о всесильных «советниках» государя, собранных Сильвестром и Адашевым. Расходится Курбский с Иваном IV лишь в оценочных взглядах относительно деятельности «советников», всячески восхваляя их. В «Истории о великом князе московском» Курбский рассказывает, как Сильвестр и Адашев собирают вокруг царя Ивана «советников, мужей разумных и совершенных, во старосте мастите сущих, благочестием и страхом Божиим украшенных, других же, аще и во среднем веку, тако же предобрых и храбрых, и тех и онех в военных и земских вещах по всему искусных. И сице ему их в приязнь и в дружбу усвояют, яко без их совету ничесоже устроити или мыслити… И нарицалися тогда оные советницы у него избранная рада. Воистину, по делом и наречение имели, понеже все избранное и нарочитое советы своими производили, сиречь суд праведный, нелицеприятен яко богатому, так и убогому, еже бывает в царствие наилепшее, и ктому воевод искусных и храбрых мужей сопротив врагов избирают и стратилацкие чины устрояют, яко над езными, так и над пешими. И аще кто явитца мужественным в битвах и окровил руку во крови вражий, сего даровании почитано, яко движными вещи, так и недвижными. Некоторые же от них, искуснейшие, того ради и на высшние степени возводились. А парозитов, или тунеядцев, сиречь подобедов или товарищей трапезам, яже блазенством или шутками питаются и кормы хают, не токмо тогда не дарованно, но и отгоняемо, вкупе с скомрахи и со иными прелукавыми и презлыми таковыми роды. Но токмо на мужество человеков подвизаемо и на храбрость всякими роды даров или мздовоздаянми, каждому по достоянию»{144}. Курбский очень высоко, в отличие от Грозного, ставил Сильвестра и Алексея Адашева, называя первого «блаженным презвитером», а второго — «благородным юношей»{145}. Разумея Русию, он вопрошает: «Что же сие мужие два творят полезное земле оной, опустошеной уже воистинну и зело бедне сокрушеной?» Курбский отвечает на свой вопрос, призывая читателя выслушать себя внимательно: «Приклони же уже уши и слушай со прилежанием! Сие творят, сие делают — главную доброту начинают: утверждают царя! И якого царя? Юнаго, и во злострастиях и в самоволствии без отца воспитанного, и преизлище прелютого, и крови уже напившися всякие, не токмо всех животных, но и человеческия! Паче же и согласных его на зло прежде бывших, овых отделяют от него (яж быша зело люты), овых же уздают и воздержат страхом Бога живаго. И что же еще по сем придают? Наказуют опасне благочестию — молитвам же прилежным ко Богу и постом, и воздержанию внимати со прележанием. Завещеваетоной презвитер и отгоняет от него оных предреченных прелютейших зверей (сиречь ласкателей и человекоугодников, над нихъже ничтоже может быти поветреннейшаго во царстве) и отсылает и отделяет от него всяку нечистоту и скверну, прежде ему приключшуюся от Сатаны. И подвижет на то и присовокупляет себе в помощь архиерея оного великого града, и ктому всех предобрых и преподобных мужей, презвитерством почтенных. И возбуждают царя к покаянию, и нечистив сосуд его внутренний, яко подобает, ко Богу приводят и святых непорочных Христа нашего тайн сподобляют, и в сицевую высоту онаго, прежде бывшаго окаянного, возводят, яко и многих окрестным языком дивитися обращение его к благочестию»{146}. Сопоставление упомянутых сочинений Грозного и Курбского обнаруживает в них, с одной стороны, согласие, а с другой — разноречивость. Согласие обоих авторов наблюдается преимущественно в сфере изложения фактов, тогда как разноречивость выявляется прежде всего в области истолкования и оценки этих фактов. В самом деле, и царь Иван и князь Андрей согласно говорят о появлении возле трона Сильвестра и Адашева в окружении советников, о приобретении ими огромного влияния на самодержца. Они оба рассказывают о том, как царские любимцы вместе со своими советниками лишили самостоятельности государя, так что без их совета (указания) он не мог ничего предпринять. Вместе с тем Курбский утверждает такое, во что очень трудно поверить. Например, он говорит, будто Сильвестр и Адашев «утверждают царя». Если под этим утверждением подразумевалось венчание на царство Ивана IV, то надо признать, что Курбский, случалось, перевирал факты. И все же многие из его сообщений находят подтверждение со стороны Ивана Грозного. Однако Грозный и Курбский решительно расходятся, когда надо охарактеризовать личности Сильвестра и Адашева или когда необходимо оценить их деятельность. Так, по Андрею Курбскому, Сильвестр — «блаженный презвитер», а по Ивану Грозному — «поп-невежа», Адашев, по Курбскому, — «благородный юноша», а по Грозному, — «собака». Радикальным образом расходятся наши информаторы в оценке деятельности Сильвестра и Адашева с «единомышленниками»: у царя она резко отрицательная, а у князя-изменника сугубо положительная. Кто из них прав? Как соотносятся их свидетельства с известиями других источников? Являлась ли Избранная Рада исторической реальностью или она есть фикция, изобретенная Андреем Курбским, как считают некоторые историки?{147} Пришло время ответить на эти вопросы. Однако сперва о термине «Избранная Рада» и его значении. * * *Этот термин, как известно, фигурирует в «Истории о великом князе Московском», принадлежащей Андрею Курбскому. Но не следует думать, будто Курбский изобрел названный термин, не имея перед собой каких бы то ни было современных лексических аналогий и, возможно, даже — прецедентов. Нельзя, во всяком случае, полностью игнорировать сообщение Курбского о том, что Избранной Радой называл советников, собранных Сильвестром и Адашевым, не кто иной, как Иван Грозный («И нарицались тогда оные советницы у него избранная рада». Следует далее сказать, что слово «рада» являлось вполне употребительным со стороны русских при их общении с людьми из Литвы и Польши. Еще В. О. Ключевский отмечал, что московские дипломаты, встречаясь с польско-литовскими послами, называли Боярскую Думу радой государя и своей господою{148}. Причем данное обстоятельство он связал с соответствующим терминологическим творчеством Курбского: ««Избранною радой» и кн. Курбский называет думу, составившуюся при царе Иване под влиянием Сильвестра и Адашева»{149}. В. О. Ключевский прекрасно понимал всю условность подобного словопроизводства. Историк писал: «Московские бояре хорошо знали литовскую раду и в переписке с ней даже себя звали «радой» своего государя. Но московская боярская дума мало похожа была на эту раду по своему политическому значению, как и по должностному составу»{150}. Развивая мысли знаменитого историка, можно сказать, что Избранная Рада по своему должностному составу была мало похожа на Боярскую Думу. Что же представляла собою Избранная Рада? В чем смысл терминов, составивших данное понятие? Со словом рада нет особых проблем. Это — совет, советники. Отсюда Избранная Рада есть избранный совет, избранные (лучшие) советники царя Ивана{151}, рекомендованные ему Сильвестром и Алексеем Адашевым. Необходимо, однако, заметить, что вопрос о советниках этим не исчерпывается, поскольку Грозный, как мы знаем, неоднократно говорит о «злых», «злобесовских» советниках, группирующихся вокруг Сильвестра и Адашева. Надо полагать, что между советниками государя и советниками его любимцев не было непреодолимой грани, и многие из советников Сильвестра и Адашева выступали также в роли советников Ивана. К ним и прилагалось определение избранные, т. е. лучшие, особенно ценимые{152}, что послужило основанием для их вхождения в число советников Ивана IV. Именно так изображает дело Курбский, характеризуя царских советников как «мужей разумных и совершенных», «благочестием и страхом Божьим украшенных», «предобрых и храбрых», «в военных и земских вещах по всему искусных»{153}. Не зря, полагает князь, их называли Избранной Радой, ибо «все избранное и нарочитое (лучшее и значительное, выдающееся{154}) советы своими производили»{155}. Перед нами похвала людям, так сказать, высшего сорта, в чем и состоит их избранность. Но тут, конечно, выражено личное отношение Курбского к членам Избранной Рады, и мы не знаем, насколько его столь высокие аттестации соответствовали действительным свойствам «радных» мужей. Не следует всех советников, составивших Избранную Раду, относить лишь к одной княжеско-боярской знати{156}. Принадлежность к Раде Сильвестра и Адашева{157}, людей вовсе неродовитых, характеризует ее в качестве надсословной организации (в рамках привилегированных сословий), представители которой присутствовали в различных правительственных учреждениях — Ближней Думе, Боярской Думе, приказах и пр. Эта организация не приобрела формальный статус государственного учреждения, являясь неформальным образованием, действующим приватно, еели не скрытно, то без широкой огласки. По нашему убеждению, остается до сих пор отчасти актуальным определение, данное Избранной Раде С. Ф. Платоновым. «Это был, — говорил ученый, — частный кружок, созданный временщиками для своих целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей»{158}. Весьма ценной является мысль С. Ф. Платонова о том, что Избранная Рада существовала не в виде государственного учреждения, а в виде частного кружка-собрания, поставленного Сильвестром и Адашевым рядом с царем Иваном. Надо только понять, что Сильвестр и Адашев прежде, чем стать временщиками, сами были сведены с юным царем придворными политиканами, плетущими интригу против русского самодержавства, что Избранная Рада есть видимая, как у айсберга, вершина достаточно многочисленной и довольно разветвленной организации, заявившей о себе еще в конце XV века и дожившей до середины XVI века, приспосабливаясь к меняющимся историческим условиям. И, конечно же, «советников», обступивших вместе с Адашевым и Сильвестром царский престол, нельзя рассматривать как доброхотствующих царю искренних друзей. То были замаскированные недруги русского царства и, следовательно, Ивана Грозного. Негативное их отношение к самодержавной власти отразилось, по нашему мнению, в самом названии Избранная Рада, приводимом Андреем Курбским. Правда, некоторые историки объясняют использование Курбским термина избранная рада тем, что беглый боярин писал свою Историю, рассчитывая якобы на польских и литовских читателей, и поэтому стремился обставить ее привычными и понятными для заграничной читательской аудитории словами{159}. Отсюда у него и этот полонизм. Однако более основательной представляется точка зрения Р. Ю. Виппера, обратившего внимание на то, что «Курбский очень характерно называет тесную думу, в которой он и сам участвовал, «избранной радой». Ни у кого другого этого названия не встречаем; а русский эмигрант, разумеется, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, «паны-рада». Представитель старинного княжеского рода, родня литовских и польских панов, естественно увлекается примером олигархии у западного соседа. Называя именем этой верхней палаты аристократической республики тесную думу при московском царе, Курбский только подтверждает правильность жалоб Ивана IV на то, что советники отстранили его от дел, «снимали его власть», приводили «в противословие» бояр, раздавали самовольно чины и земли и т. п.»{160}. Значит, не для удобства заграничных читателей князь Курбский прибегал к понятию избранная рада с целью подчеркнуть особую роль Избранной Рады, ограничивающей русское самодержавие и тем существенно отличающейся от традиционных политических институтов Руси, призванных укреплять самодержавную власть, а не сковывать ее действие. Вот почему Избранную Раду необходимо рассматривать как новое явление в политической системе Русского государства, ранее не известное и занесенное в Московское царство со стороны, с Запада. Это, собственно, и объясняет, почему А. М. Курбский воспользовался для его обозначения «иноземным» термином «Рада», позволяющим более точно (сравнительно с любым русским термином) определить функциональное предназначение Избранной Рады{161}. Не исключено, однако, что словосочетание Избранная Рада было в придворном политическом обиходе середины XVI века. Возможно также то, что оно звучало и в устах царя Ивана{162}, очарованного Сильвестром и Адашевым с их советниками. Степень этого очарования оказалась столь сильной, что царь Иван долго не мог понять, куда ведет путь, намечаемый Избранной Радой. Поэтому он длительное время не вступал с нею в конфликт. К тому же политика Избранной Рады была двойственной, что мешало царю до конца разобраться в замыслах Сильвестра и Адашева. С одной стороны, они выступали инициаторами реформ, в которых нуждалась страна, а с другой — вели скрытый подкоп под фундаментальные основы Святой Руси, а именно под самодержавие, православную веру и церковь. То была выработанная веками изощренная тактика тайных организаций, применяемая ими по сей день. Обманутый ею молодой государь находился в полном согласии с Избранной Радой. А. А. Зимин в этой связи писал: «В конце 40-х — начале 50-х годов XVI в. представления Ивана IV о путях преобразования государственного аппарата совпадали с предложениями Адашева и Сильвестра. Избранная рада не противостояла царю, а проводила единую с ним политическую линию. В какой мере при этом Иван IV находился под влиянием временщиков, установить гораздо труднее, но вопрос этот имеет значение скорее для изучения характера царя Ивана, чем для исследования самой сущности реформ середины XVI в.»{163} Думается, едва ли можно говорить о стихийном совпадении представлений царя насчет реформирования России с предложениями Адашева и Сильвестра. Временщики умели не только предложить Ивану IV ту или иную реформу, но и убедить его в обоснованности своих предложений или, во всяком случае, получить у него согласие на осуществление задуманных мер. В этом, помимо прочего, выражалось их влияние на государя, и оно, если судить по интенсивности реформаторской деятельности правительства середины XVI века, было весьма и весьма значительным, что подтверждают соответствующие свидетельства Грозного и Курбского. Влияние на Ивана Избранной Рады, ее руководителей Сильвестра и Адашева представляет интерес для исследователя не только со стороны изучения личного характера царя, но и с точки зрения сущности реформ конца 40-х — 50-х годов. Эти реформы, как уже отмечалось, не были едины в плане конечных целей. Некоторые из них (военная реформа, преобразования в области местного управления и др.) имели созидательный характер. Но они служили своего рода завесой реформам, разрушительным по своей направленности, бьющим по московскому «самодержавству», православной вере и церкви. * * *Важной вехой на пути к этим гибельным для Святой Руси реформам явился 1547 год. То был год венчания Ивана IV на царство и «великого пожара» в Москве, вызвавшего восстание черного люда, едва не завершившееся убийством молодого царя. Пытаясь понять душевное состояние Ивана, подчинившегося Сильвестру и Адашеву, а также другим деятелям Избранной Рады, историки нередко придавали особое значение впечатлениям, которые он вынес из столичных пожаров и народного бунта. По мнению В. О. Ключевского, например, царь сам отдался в руки своих советников, «испуганный событиями 1547 года»{164}. Другой исследователь русской старины, М. К. Любавский, говорил: «Страшный пожар и народный мятеж произвели сильное впечатление на молодого царя. Напоенный библейскими представлениями о царской власти, Иван пришел к заключению, что Бог покарал народ за его, царя, грехи, и сильно был удручен этим сознанием… Этим настроением, как мы знаем от Курбского, и воспользовалось духовенство и благомыслящая часть боярства. Нравственную поддержку удрученному царю оказал сначала придворный священник Сильвестр, а затем митрополит Макарий и другие мужи, «пресвитерством почтенные». К ним присоединился царский постельничий Алексей Адашев, а за ним и некоторые бояре…»{165}. На наш взгляд, и В. О. Ключевский и М. К. Любавский чересчур преувеличивают воздействие на психику царя Ивана событий, связанных с пожаром и восстанием москвичей лета 1547 года. Не отрицая их существенное значение во внутренних переживаниях государя, мы все-таки должны сказать, что не с этих событий начался его душевный переворот, сопровождаемый осознанием своего божественного предназначения как истинно православного царя. Венчание Ивана на царство в январе 1547 года, предпринятое им по собственному желанию и при активном содействии митрополита Макария, показывает, что это осознание уже пришло к нему. Поэтому летние события 1547 года, способствуя, безусловно, углублению самосознания самодержца, послужили преимущественно толчком к переходу его от умозрительных воззрений к практическому строительству русского православного царства. И в этом великом строительстве ему, конечно же, нужны были помощники. Душой Иван был открыт к сотрудничеству с ними. Этим состоянием царя и воспользовались умело Сильвестр с Адашевым, а также те, кто помогал им. Предварительно они убрали с политической сцены Глинских, спровоцировав против них мятеж московских черных людей. Молодой и неопытный государь приблизил к себе Адашева и Сильвестра, наделил этих людей огромной властью. Об этом, как мы знаем, сохранились свидетельства Ивана Грозного и Андрея Курбского. Но среди некоторых историков эти свидетельства слывут как тенденциозные, субъективные и недостоверные. Так, для А. А. Зимина тенденциозный характер высказываний царя Ивана о Сильвестре и Адашеве очевиден: «Иван IV хотел задним числом обосновать свою опалу на когда-то всесильных временщиков»{166}. Но и Курбский, по словам А. А. Зимина, «не менее субъективен, чем Грозный»{167}. Твердых оснований для подобного рода заключений, разумеется, нет. Есть лишь догадки, порожденные личными ощущениями историка, его интуицией. Во имя справедливости, однако, надо сказать, что А. А. Зимину хватило объективности, чтобы оценить данные свидетельства Ивана Грозного и Андрея Курбского как одинаково неудовлетворительные. Другие же исследователи, явно нерасположенные к Ивану IV, всю свою источниковедческую критику адресуют только ему, оставляя вне ее царского оппонента. С. Б. Веселовский, к примеру, находит у Курбского «чрезвычайно важные и достоверные сведения», тогда как высказывания Грозного, будучи полемическими, малозначимы и тенденциозны{168}. В аналогичном ключе рассуждает Д. Н. Альшиц. Он говорит: «Характеристика, данная Курбским правительству конца 40–50-х гг., в основном соответствует действительности. У Курбского нет причин искажать в данном пункте прошлое. Этого нельзя сказать об Иване Грозном, имевшем веские причины, для того чтобы вымарать дегтем своих бывших соратников. Царю нужно было оправдать тот крутой поворот, который он совершил в начале 60-х гг. от политики Избранной рады к политике опричнины{169}. Отсюда следует, что для выработки объективного взгляда на деятельность правительства конца 40–50-х гг. необходимо освободить изучение Избранной рады от влияния ее первого историка — царя Ивана Грозного»{170}. Логика, посредством которой Д. Н. Альшиц так эффектно «пригвоздил» царя Ивана, применима и к Андрею Курбскому, правда, с противоположным смыслом. В самом деле, если Грозному понадобилось очернить «своих бывших соратников», чтобы оправдать поворот к Опричнине, то Курбскому надо было возвысить сподвижников Ивана, чтобы осудить этот поворот. Как видим, и у того и у другого имелись веские причины исказить «в данном пункте прошлое». При таком логическом раскладе отдавать предпочтение Ивану Грозному или Андрею Курбскому — значит проявить предвзятость. Д. Н. Альшиц несколько поспешил, когда призвал «освободить изучение Избранной рады от влияния ее первого историка — царя Ивана Грозного». С тем же основанием можно взывать о необходимости освободить изучение Избранной Рады от влияния князя Курбского. Счет здесь, как говорится, по нулям. Куда важнее иное: совпадение фактов, приводимых Грозным и Курбским, что вызывает у отдельных историков некоторое замешательство. «Как это ни парадоксально, — замечал А. А. Зимин, — идейный противник Ивана IV — князь Андрей Курбский дает сходную с ним характеристику роли царя в проведении реформ середины XVI в.: царь выступает лишь как простое орудие предначертаний Сильвестра и Адашева, которые окружили его советниками…»{171}. По нашему мнению, тут нет ничего парадоксального, поскольку и царь Иван и князь Курбский описывали реально существовавший факт всевластия Сильвестра и Адашева. Их согласие в изложении фактов повышает доверие к тому, о чем они повествовали в своих сочинениях. Кроме того, существуют другие источники, подтверждающие правдивость Ивана Грозного и Андрея Курбского в передаче фактической стороны дела, касающейся властных полномочий Сильвестра и Адашева. * * *В Пискаревском летописце (первая половина XVII века) говорится об Адашеве следующее: «А как он был во времяни, и в те поры Руская земля была в великой тишине и во благоденстве и управе. А кому откажет, тот вдругорядь не бей челом: а кой боярин челобитной волочит, и тому боярину не пробудет без кручины от государя; а кому молвит хомутовкою, тот больши того не бей челом, то бысть в тюрьме или сослану. Да в ту же пору был поп Селивестр и правил Рускую землю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат»{172}. О. А. Яковлева, нашедшая и опубликовавшая в середине 50-х годов прошлого столетия этот летописный памятник{173}, говоря о предполагаемом авторе его, замечала: «В царствование Грозного человек этот был ребенком или подростком, так как описал это царствование в основном по рассказам людей более старшего, чем он, возраста и лишь в небольшой степени по своим собственным воспоминаниям… Сведения, сообщаемые москвичом-современником, его суждения и оценки, вошедшие в «Пискаревский летописец», имеют большую историческую ценность»{174}. Эти предположения О. А. Яковлевой вызвали сомнение у М. Н. Тихомирова, который писал: «Прежде всего вызывает сомнение само определение записей Пискаревского летописца как «воспоминаний» москвича, так как невозможно приписать одному и тому же автору разнородные по стилю и политической направленности летописные записи нашего источника. Перед нами текст, явно написанный разными людьми в разное время»{175}. И все же, что касается рассказа Пискаревского летописца об Алексее Адашеве, то перед нами, по словам М. Н. Тихомирова, «действительно, «воспоминание» москвича, записанное, однако, не по личным наблюдениям, а по рассказам»{176}. Но «это очень интересное припоминание, хорошо характеризующее Адашева как всесильного временщика, который «правил Русскую землю», заслонив собою царя»{177}. Иную позицию занимает А. И. Филюшкин, отрицающий доброкачественный характер известий Пискаревского летописца о политической деятельности А. Ф. Адашева. Рассмотрев сообщения Пискаревского летописца об этой деятельности, автор приходит к следующим выводам: «ПЛ — позднее по происхождению произведение компилятивного характера; его рассказ о деятельности правительства Адашева — Сильвестра содержит ряд фактических неточностей; он написан в соответствии с историографическими воззрениями, сходные (сходными?) с концепцией «Избранной Рады» Курбского, которая, возможно, в трансформированном виде (в качестве слуха, пересказа) была источником данной статьи ПЛ; вследствие этого известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра не может считаться безусловным свидетельством существования «Избранной Рады» и нуждается в подтверждении другими, независимыми источниками»{178}. Что можно сказать по поводу этих выводов А. И. Филюшкина? О том, что Пискаревский летописец является компилятивным произведением, что заключенный в летописце рассказ об Адашеве записан много лет позже описываемых в этом рассказе событий, известно давно, чуть ли не с момента издания памятника{179}. Однако названные особенности Летописца не помешали М. Н. Тихомирову отнести содержащиеся в нем известия о государственной деятельности Адашева к разряду чрезвычайно интересных и соответствующих исторической реальности{180}. Они также не стали помехой другим историкам, изучавшим служебную биографию Алексея Адашева, пользоваться сведениями этого источника{181}. Высокую оценку Пискаревскому летописцу как источнику, освещающему начальный период придворной жизни Адашева и Сильвестра, дал А. А. Зимин. «В изданном О. А. Яковлевой Пискаревском летописце начала XVII в. содержится новая характеристика деятельности Адашева и Сильвестра, раскрывающая обстановку начального этапа в истории «Избранной рады»{182}. Больше того, Пискаревский летописец, основанный, как показал Р. Г. Скрынников, на разнообразных источниках и вобравший в себя немало достоверных и наиболее полных сведений, имеет важное значение для изучения эпохи Ивана Грозного в целом{183}. При этом он содержит и отдельные фактические неточности, что, однако, не умаляет его ценность. Сходным образом аналогичные неточности рассказа об Адашеве, отмеченные А. И. Филюшкиным{184}, не должны, на наш взгляд, подрывать доверие ко всему рассказу. Тем более что факты, приводимые в Летописце, не однородны, ибо есть факт-событие и факт-явление. Легко на основе припоминаний ошибиться в передаче факта-события, перепутав, например, время поездки Адашева в Турцию или год его смерти и место упокоения. Но значительно труднее позабыть политическую роль, в которой открылся обществу тот или иной деятель, в частности А. Ф. Адашев. Эту трудность не обойти простой ссылкой на то, что рассказ Пискаревского летописца об Адашеве написан в соответствии с концепцией Избранной Рады Курбского, которая послужила якобы его источником, тем более что Адашев и Сильвестр изображены в Летописце очень похожими на Адашева и Сильвестра, вышедших из-под пера Ивана Грозного. Сходство иногда наблюдается даже в формулировках: «Тако убо и вы мнесте под ногами быти у вас всю Рускую землю…»{185}. Это очень напоминает выражение Пискаревского летописца «правил (правили) Рускую землю». Следовательно, при желании можно говорить о зависимости упомянутого рассказа Пискаревского летописца от сочинений Ивана IV, пусть даже через концепцию Избранной Рады князя Курбского. Но не слишком ли длинная получается цепь предполагаемых заимствований? И, вообще, зачем мудрить? Не проще ли и плодотворнее было бы признать, что сходство в изображении Адашева и Сильвестра царем Иваном, Курбским и автором соответствующей статьи Пискаревского летописца проистекает из того, что все они обращались к одним и тем же известным им фактам и явлениям политической истории Руси середины XVI века. Неуместным, по нашему мнению, является последний вывод А. И. Филюшкина о том, что «известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра не может считаться безусловным свидетельством существования «Избранной Рады». Неизвестно, откуда у А. И. Филюшкина взялось «известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра». Ведь в Летописце о таком правительстве не сказано ни слово. Там говорится о Сильвестре, который «заодин» с Адашевым «правил Рускую землю». Иными словами, речь в Пискаревском летописце идет об индивидуальных властных полномочиях Адашева и Сильвестра, которые автору летописного повествования кажутся настолько значительными, что сопоставимы с властью правителей{186}. Что же касается непосредственно Алексея Адашева, то в Летописце он представлен всесильным временщиком, грозой нерадивых бояр, которых он волен был заточить в тюрьму либо сослать, куда захочет. В руках Адашева мощный рычаг власти — прием и разбор челобитных с докладом государю, склонному безоговорочно поддержать своего любимца («а кой боярин челобитной волочит, и тому боярину не пробудет без кручины от государя»). Алексей такой же «всемогий», как и Сильвестр. В этом отношении автор летописного рассказа об Адашеве подтверждает высказывания о нем Ивана Грозного и Андрея Курбского. Другой независимый, по нашему убеждению, источник, рисующий А. Ф. Адашева в роли правителя Московского государства, связан с представлениями о нем за пределами Руси. В отчете московского посла к цесарю Луки Новосильцева сообщается о том, как он, Лука, обедал по пути в Вену (1585) у гнезненского архиепископа Станислава Карнковского, который был «в Польше другой король». Во время обеда зашел разговор о Борисе Годунове, а затем — об Алексее Адашеве. Архиепископ говорил послу: «Сказывали нам вязни наши: есть на Москве шурин государской Борис Федорович Годунов, правитель земли и милостивец великой и нашим вязнем милость казал, и на отпуске их у себя кормил и поил, и пожаловал всех сукны и деньгами, и как были в тюрьмах, и он им великие милости присылал; и нам то добре за честь, что у такого великого государя таков ближней человек разумен и милостив; а прежь сего был у прежнего государя Алексей Адашев, и он Государство Московское таково же правил, а ныне на Москве Бог вам дал такого же человека присужего»{187}. Новосильцеву не понравилось такое сравнение Годунова с Адашевым, и он заметил собеседнику: «Олексей был разумен, а то не Олексеева верста: то великий человек, Боярин и Конюшей, а Государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник»{188}. Историки по-разному воспринимают рассказ Ауки Новосильцева. Так, С. О. Шмидту этот рассказ послужил свидетельством, что за границей знали о «большом влиянии Адашева на правительственную деятельность». Поэтому «не случайно через 25 лет после смерти Адашева его сравнивали в Польше с царским шурином Борисом Годуновым»{189}. С. О. Шмидт, исходя из отчета русского посла, замечал, что «в представлении иностранцев А. Ф. Адашев был «правителем земли» и «ближним человеком» государя»{190}. Однако А. И. Филюшкин решительно выступил против такого рода интерпретаций. Имея в виду слова Станислава Карнковского, сказанные Ауке Новосильцеву, он пишет: «Данная речь часто используется исследователями в качестве «неопровержимого доказательства» обладания А. Ф. Адашевым реальной властью и статусом временщика, равным Борису Годунову. Но они не обращали внимания на ответ А. Новосильцева на слова С. Карнковского (например, С. О. Шмидт просто опустил его в своей публикации данного отрывка из посольских книг). А реакция русского посланника весьма примечательна. Дело в том, что он… категорически опроверг заявление С. Карнковского! Л. Новосильцев прокомментировал его следующим образом: «Олексей был разумен, а то не Олексеева верста, то великий человек, боярин и конюший… а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». Таким образом, с точки зрения русского дипломата, статус Адашева оказывается гораздо ниже статуса Годунова («не Олексеева верста»), то есть он не являлся временщиком. Он не был ни политически весомым («великим») человеком, ни «печальником о земле». Видеть же в словах «Олексей был разумен» что-либо, кроме признания незаурядных талантов государственного деятеля (коими, как мы знаем, Адашев, несомненно, обладал), будет некорректным. Фигура Адашева была хорошо известна в Литве из-за его дипломатической деятельности в 1559–1560 гг. и поэтому нет ничего удивительного, что о нем слышал гнезненский епископ. Источником же его трактовки роли Адашева как временщика, с нашей точки зрения, могла стать имевшая хождение в Литве и Польше ИВКМ»{191}. Мы намеренно привели столь пространную выдержку из книги А.И.Филюшкина, чтобы нагляднее продемонстрировать исследовательские приемы автора. Начнем с последнего утверждения его о том, что источником трактовки Станиславом Карнковским роли Алексея Адашева в качестве временщика могла стать известная в Литве и Польше «История о великом князе Московском» (ИВКМ) Андрея Курбского. Это допущение было бы уместным в том случае, если бы Карнковский не сказал, откуда он почерпнул сведения об Адашеве. Но он прямо указал на источник своей информации, упомянув в данной связи «вязней» (пленников), побывавших в плену у русских. Это они, «вязни», воротясь домой из плена, рассказывали своим соотечественникам об увиденном и услышанном в Москве, где еще хранили память об Адашеве, находя общее между ним и Годуновым. От этих бывших пленников Станислав Карнковский узнал о добродетелях Бориса Годунова и его сходстве в качестве правителя с Алексеем Адашевым, о чем гнезненский архиепископ поведал сам московскому послу Л. Новосильцеву. Вот почему иные предположения, на наш взгляд, здесь совершенно излишни. Однако важно отметить, что независимо от сочинения Курбского (ИВКМ) в Москве после смерти Ивана IV курсировали сведения об Алексее Адашеве, в которых он как правитель Руси уподоблялся Борису Годунову. Перед нами, следовательно, еще один, хотя и своеобразный, по-видимому, устный, но самостоятельный источник, подтверждающий правдивость характеристики правительственной роли Алексея Адашева, данной Иваном Грозным и Андреем Курбским. А. И. Филюшкин упрекает С. О. Шмидта, который якобы опустил невыгодный ему текст посольской книги, содержащий ответ посла Новосильцева архиепископу Карнковскому, попытавшемуся сравнить Адашева с Годуновым. Русский посол, оказывается, «категорически опроверг заявление С. Карнковского», указав ему на то, что «статус Адашева» «гораздо ниже статуса Годунова», что Адашев «не являлся временщиком» и не был «политически весомым («великим») человеком». Справедливы ли эти утверждения? Прежде всего, хотелось бы заметить, что А. И. Филюшкин, предъявив претензии С. О. Шмидту по части использования источника, сам, казалось, должен быть здесь, как говорится, на высоте. Но этого, к сожалению, не случилось. Он также «урезает» источник, причем в очень важном месте, содержащем ключ к пониманию смысловой направленности ответа Л. Новосильцева. У Филюшкина посол говорит, что Годунов — «не Олексеева верста»: «то великий человек, боярин и конюший… а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». В источнике, между тем, фигурирует еще одно высказывание Новосильцева о Годунове, опущенное А. И. Филюшкиным: «То великий человек, Боярин и Конюшей, а Государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». Фраза «а Государыне нашей брат родной» особенно наглядно показывает, в чем решительно, с точки зрения Луки Новосильцева и современников, уступал Алексей Адашев Борису Годунову. Он уступал ему породой и чином. В самом деле, Годунов был боярином и конюшим (высший придворный чин), тогда как Адашев — всего лишь окольничим. Годунов являлся родным братом царицы Ирины, тогда как Адашев — дальним родственником Захарьиных. Первый был родовитым, а второй — худородным. Именно по всему этому Борис Годунов «не Олексеева верста», но отнюдь не потому, что Годунов правил Московским государством, а Адашев не правил. Добавим к этому, что термины «в версту» и «не в версту» суть технические термины, применявшиеся при местнических счетах. Говоря о том, что Годунов «не Олексеева верста», царский посол стремился подчеркнуть очевидную для него мысль: «великий человек» Борис Годунов не ровня Алексею Адашеву и упоминание их имен рядом «невместно», несмотря на то, что оба они (Адашев в прошлом, а Годунов в настоящем) правили Московским государством. Надо полагать, Лука Новосельцев поправил Станислава Карнковского не только ради одной истины. Будучи официальным представителем московского правительства, он не мог допустить в своем присутствии порухи чести руководителя этого правительства, зная, какие неприятные последствия навлечет тем на себя по возвращении в Москву. Однако все это не дает оснований утверждать, будто Новосильцев оспорил Карнковского, — представившего Адашева «ближним человеком» Ивана IV, т. е. временщиком. Смысл возражений посланника иной: нельзя сравнивать Бориса Годунова с Алексеем Адашевым, поскольку с точки зрения знатности и чина это — несопоставимые политические фигуры. Таким образом, из отчета посла Луки Новосильцева следует, что в Москве середины 80-х годов XVI века, а также в Речи Посполитой того времени велись разговоры об Адашеве — правителе Московского государства времени Ивана IV. Перед нами еще один источник, свидетельствующий об огромной власти, которой обладал Алексей Адашев благодаря особому к себе отношению царя Ивана. О могуществе Адашева можно судить по некоторым обстоятельствам, всплывшим в ходе местнического спора князя А. Д. Хилкова с Ф. М. Ласкиревым. Последний в своей челобитной писал: «По недружбе Алексей Одашев отца моего послал в Казань в городничие, сковав»{192}. Отсюда С. О. Шмидт верно заключил: «А. Ф. Адашев был настолько всемогущ, что имел возможность неугодного ему служилого человека («по недружбе») назначить на низкую в местническом отношении должность и послать его туда силой («сковав»)»{193}. Не считаясь с местническими правилами, Алексей Адашев, пользуясь своим положением и властью, вносит в середине 50-х годов XVI века род Адашевых, доселе мало выдающийся, в «Государев Родословец», запечатлевший, можно сказать, цвет русской знати, к которой теперь «примазался» и адашевский род. С. О. Шмидт вполне правомерно усмотрел в этом, помимо прочего, подтверждение словам Ивана Грозного «об А. Ф. Адашеве и его советниках, что они «сами государилися, как хотели»{194}. Следует, наконец, сказать о непосредственном участии Алексея Адашева в распределении по службе служилых людей «государева двора», отраженном в Дворовой тетради 50-х годов XVI века{195}. Это давало возможность Адашеву с единомышленниками обзавестись сторонниками в придворной служилой среде и тем самым укрепить свое положение и власть. Итак, есть основания говорить о том, что Иван Грозный и Андрей Курбский, характеризуя Алексея Адашева как всесильного временщика, рисовали его реальный, а не вымышленный образ. И. И. Смирнов, изучавдшй политическую биографию А. Ф. Адашева, обратил внимание на два типа временщиков, властвовавших по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств. В деятельности временщика «мог преобладать или элемент исполнителя воли самодержавного государя, или, напротив, временщик-правитель мог фактически узурпировать права государя и, действуя формально от его имени, по существу сам выступать в роли носителя самодержавной власти централизованного государства»{196}. По мнению историка, «ярким представителем последнего типа временщика-правителя может служить Борис Годунов, не только правивший именем Федора Ивановича, но и фактически заменивший во главе государства слабоумного царя. Напротив, в отношении Адашева вряд ли можно его «правительство» рассматривать как некую личную диктатуру молодого костромского дворянина. И гораздо правильнее объяснить размеры власти Адашева и характер его влияния тем, что в своей деятельности Адашев выступал именно как доверенное лицо Ивана IV, как проводник той политики укрепления централизованного государства, идеологом и вдохновителем которой был сам Иван IV»{197}. Эти суждения И. И. Смирнова не являются, на наш взгляд, безупречными. В самом деле, если А. Ф. Адашев, как считает исследователь, был доверенным лицом царя и проводником его политики, то чем вызваны неоднократные обвинения в узурпации власти, обращенные Иваном к своему прежнему любимцу и его «согласникам»? Правда, ответ здесь у многих историков готов заранее: Иван Грозный несправедлив по отношению к Адашеву; он тенденциозен и субъективен в оценке деятельности Адашева. Эту заезженную пластинку историки старательно крутят не одно десятилетие. Но позволительно спросить, кто такой по сравнению с богоизбранным царем Иваном князь Курбский, чтобы государь в своем послании к нему юлил, изворачивался и лгал, т. е. внутренне унижался? Надо обладать безбрежной фантазией, чтобы вообразить подобную сцену между господином и холопом, каковым по отношению к Грозному и являлся Курбский. Разумеется, А. Ф. Адашев не сразу покусился на власть. Приближенный и обласканный царем, он какое-то время действительно выступал в качестве доверенного лица Ивана IV и проводника его политики. Вскоре, однако, Адашев вместе с Сильвестром и другими деятелями Избранной Рады, пользуясь расположением молодого и неопытного государя, перетянули высшую власть на себя, оставив за Иваном роль номинального или титульного правителя. В результате была установлена своеобразная групповая диктатура во главе с Адашевым и Сильвестром, ограничившая власть царя посредством сосредоточения ее в руках царских советников, о чем говорил в своих посланиях князю Курбскому Иван Грозный, а Курбский — в своей «Истории о великом князе московском». Слова Грозного об Алексее Адашеве подтверждаются другими источниками. Сложнее с попом Сильвестром, изучение политической деятельности которого связано с трудностями, состоящими в том, что источники сохранили очень мало данных, «относящихся к деятельности Сильвестра-политика и могущих лечь в основу решения вопроса о том, какова же в действительности была роль Сильвестра в правительстве Русского государства в 50-х годах XVI в.»{198}. * * *Скудость исторических сведений о Сильвестре-политике объясняется двумя, по крайней мере, обстоятельствами. Во-первых, Сильвестр являлся священником, которому по сану не положено было вторгаться в мирскую жизнь. Поэтому он предпочитал не афишировать свои занятия политикой. Во-вторых, благовещенский поп, будучи неформальным лидером группы, именуемой Избранной Радой, и влиятельной придворной персоной, имевшей прямой выход на государя, старался держаться в тени, чтобы не обнаружить свои подлинные замыслы относительно реформирования религиозно-политического строя Руси. Да и сам царь вряд ли был заинтересован в огласке столь необычного влияния, которое оказывал на него рядовой придворный священник. Вот почему, надо полагать, о Сильвестре сохранилось так мало данных. Но кое-что все же до нас дошло. Отзывы Ивана Грозного о политических устремлениях Сильвестра мы уже слышали. Государь решительно осуждал его за претензии на мирскую власть и узурпацию ее вместе с Адашевым. Пискаревский летописец, как мы знаем, также рассказывает о Сильвестре, который правил Русской землей вместе с Адашевым, сидя «в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат»{199}. Исследователи по-разному оценивают это сообщение летописца. А. Н. Гробовский и А. И. Филюшкин отказывают ему в независимости, полагая, что здесь Пискаревский летописец воссоздает образы Сильвестра и Адашева, сошедшие со страниц переписки Грозного с Курбским и других публицистических произведений{200}. Знаток же русского летописания М. Н. Тихомиров находил в этом сообщении вполне реальные черты и даже высказал предположение насчет времени, когда образовалось «полое место межу полат», т. е. пустое место, «где стояла изба у Благовещенского собора, в которой сидели Алексей Адашев и поп Сильвестр». Оно возникло в результате летнего пожара 1571 года{201}, вызванного нападением на Москву крымского хана, запалившего русскую столицу, вследствие чего Кремль выгорел так, что в нем «не осталось ни единые храмины». Известия Пискаревского летописца С. О. Шмидт воспринимал как свидетельство о существовании особой Челобитной избы, которой ведали Адашев и Сильвестр{202}. Историк, следовательно, придавал этим известиям реальное значение. К признанию обоснованности догадки С. О. Шмидта склонялся А. А. Зимин{203}, тогда как И. И. Смирнов возражал ему{204}. Но это не значит, что И. И. Смирнов скептически относился к самому рассказу Пискаревского летописца о совместном правлении Русской землей Адашевым и Сильвестром. Согласно исследователю, «характеристика Сильвестра в Пискаревском летописце представляет большой интерес… Сообщаемая Пискаревским летописцем деталь — то, что Адашев и Сильвестр «сидели вместе в избе у Благовещения», — позволяет более конкретно представить себе, как осуществляли Адашев и Сильвестр свое «правительство», и не исключено, что, например, обсуждение дела Башкина Иваном IV с участием Адашева, Сильвестра и благовещенского протопопа Андрея происходило как раз в «избе у Благовещения» (равно как и то, что приходивший к Сильвестру для «проверки» перед поставлением в Троицкие игумены старец Артемий встречался с попом Сильвестром именно здесь)»{205}. Доверял Пискаревскому летописцу и такой осторожный в обращении с источниками ученый, как В. Б. Кобрин. Он писал: «Есть сообщения так называемого «Пискаревского летописца», не официального, а частного происхождения, в котором собраны разнообразные придворные слухи. В этом источнике говорится, что Сильвестр «правил Русскую землю» с Адашевым «заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат». Таким образом, соправительство Сильвестра совершенно неоспоримо»{206}. По мнению Р. Г. Скрынникова, политической фигурой благовещенский поп сделался не сразу: «Лишь сближение с главным деятелем реформ А. Адашевым открыло перед Сильвестром более широкое поле деятельности. Об их сближении упоминается не только в Переписке Грозного с Курбским, но и в Пискаревском летописце. Вопреки мнению А. Гробовского, нет доказательств того, что автор названного летописца черпал сведения из писем Грозного или «Истории» Курбского. Летописец знал такие подробности о жизни названных лиц (например, о поездке Адашевых в Турцию), которые отсутствуют в сочинениях царя и Курбского. Пискаревский летописец подтверждает сведения о дружбе двух царских советников: «В ту пору был поп Сельвестр и правил Рускую землю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения». Воспоминания, записанные летописцем, не отличались точностью. Сильвестр служил, как и положено попу, в Благовещенском соборе, а Адашев судил в приказной избе, стоявшей напротив названного собора. Однако основной факт — тесное их сотрудничество — летописец, по-видимому, уловил верно»{207}. Надо заметить, что не все приведенные суждения Р. Г. Скрынникова одинаково равноценны. Важным является признание исследователем возможности использования Пискаревского летописца в качестве независимого источника, запечатлевшего реальные моменты политической истории Руси середины XVI века. Но сказать о том, что Пискаревский летописец подтверждает сведения о дружбе и тесном сотрудничестве двух царских советников (Адашева и Сильвестра), — значит, задержаться на полуслове. Ибо главное, о чем сообщает летописец, заключается в совместном правлении Адашева и Сильвестра Русским государством{208}. Таким образом, Пискаревский летописец наделяет Сильвестра ролью одного из двух правителей Русской земли{209}. И у нас нет веских оснований, чтобы подвергать сомнению этот рассказ летописца. Если Пискаревский летописец рисует обобщенный образ Сильвестра-правителя, то так называемая Царственная книга, близко отстоящая от описываемых ею событий{210}, детализирует этот образ: «Бысть же сей священник Селиверст у государя в великом жаловании и в совете духовном и в думном, и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никтоже смеяше ни в чемъже противитися ему ради царского жалования: указываше бо и митрополиту и владыкам и архимандритом и игуменом и чрънцом и попом и бояром и дияком и приказным людям и воеводам и детем боярским и всяким людем; и, спроста рещи, всякия дела и власти святителския и цръския правяше, и никтоже смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владяше обема властми, и святителскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имеяше святительского и царьского, но поповское имеяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем с своими съветники»{211}. Приведенный летописный текст, являясь фрагментом приписок к Царственной книге, написанных несколько позже трактуемых ими событий{212}, долгие годы не вызывал у историков (как, впрочем, и приписки в целом) сомнений относительно своей подлинности и достоверности. Ситуация существенно переменилась, когда С. Б. Веселовский, по каким-то причинам явно не симпатизирующий Ивану Грозному, опубликовал в 1947 году статью «Последние уделы в Северо-Восточной Руси», где автор утверждал, что «все поправки, приписки и интерполяции Царственной книги, сделанные одним почерком и одним лицом, позднего происхождения; они сделаны лет восемнадцать-двадцать спустя после болезни царя в 1553 г. при непосредственном близком участии самого царя и с определенной тенденцией — оправдать царя в казни старицких князей в 1569 г.»{213}. С. Б. Веселовский подготовил также работу «Интерполяции так называемой Царственной книги о болезни царя Ивана 1553 г.», увидевшую свет лишь в 1963 году. В летописном рассказе о болезни царя историк нашел «злобную карикатуру на попа Сильвестра»{214}, принадлежащую автору приписок к Царственной книге — царю Ивану. И еще: «Самую решительную тенденциозность интерполятор проявил относительно попа Сильвестра и старицких князей… Сильвестр, насколько известно, появился в Москве не ранее 1547 г. Между тем, интерполятор без смущения говорит неправду, будто старицкие князья были освобождены и получили удел потому, что о них «промышлял» Сильвестр. В связи с этой ложью интерполятор дает гиперболическую характеристику всемогущества Сильвестра, которую историки принимали на веру»{215}. Но если благовещенский поп, рассуждает С. Б. Веселовский, «был так всемогущ у царя, то почему он не принимал никакого участия в суматохе о присяге? Далее, если Сильвестр скомпрометировал себя в глазах царя своей близостью к старицким князьям, то непонятно, почему царь продолжал держать его у себя в приближении еще шесть лет после выздоровления»{216}. Трудно уяснить, почему С.Б.Веселовский говорит о «злобной карикатуре на попа Сильвестра». В Царственной книге Сильвестр изображен как «всемогий» (всемогущий) и находящийся в близких отношениях с князьями старицкими — Владимиром и его матерью Ефросиньей. Но разве это карикатурное изображение да еще к тому же злобное? Едва ли. Так кто же злобствовал: царь Иван или историк Степан? Вопрос, пожалуй, риторический… «Сильвестр, насколько известно, появился в Москве не ранее 1547 г.», — безапелляционно заявляет С. Б. Веселовский. Позволительно спросить, кому это известно? Похоже, прежде всего, самому С. Б. Веселовскому, поскольку вопрос о времени появлении Сильвестра в Москве дискуссионный. Исследователи предлагали различные его решения, о чем, несомненно, знал С. Б. Веселовский, но почему-то сделал вид, будто не знает. Между тем, есть основания относить приезд Сильвестра в Москву к концу 30-х годов XVI века. Если это так, то становятся надуманными и несправедливыми упреки во лжи, обращенные Веселовским к Ивану Грозному, который будто бы соврал, говоря, что «промышлением» Сильвестра князь Владимир и княгиня Ефросинья Старицкие вышли из-под стражи на свободу. Как показывает анализ соответствующих данных, именно по инициативе Сильвестра был поднят вопрос об освобождении старицких князей. А это означает, что, вопреки утверждению С. Б. Веселовского, Иван-интерполятор дал «характеристику всемогущества Сильвестра» вне связи с какой бы то ни было ложью. Другое дело, являлась ли царская характеристика попа Сильвестра, как выразился С. Б. Веселовский, «гиперболической» и насколько. Здесь есть еще какой-то предмет для обсуждений, хотя и сомнительный, на наш взгляд{217}. Не согласуется с рассказом Царственной книги и другое утверждение С. Б. Веселовского о том, что Сильвестр якобы «не принимал никакого участия в суматохе о присяге» наследнику престола младенцу Дмитрию. На самом деле это было не так, хотя действительно мы не видим Сильвестра среди тех, кто должен был целовать крест Дмитрию, что, впрочем, естественно, поскольку Сильвестр, будучи священником, не имел думного чина и потому формально не входил ни в Ближнюю Думу, ни в большую Боярскую Думу, а значит, не мог участвовать в присяге. Но он активно содействовал старицкому князю Владимиру в его стремлении сесть на московский трон, дойдя до открытого столкновения с теми боярами, которые оставались верными Ивану и Дмитрию, и вынудил их объясняться с собой. Чтобы решиться на такое, благовещенскому попу надо было обладать немалым влиянием и реальной властью{218}. Иначе не понять, что позволило ему консолидировать вокруг себя группу советников, т. е. бояр, подобно своему лидеру настроенных в пользу старицкого князя. С. Б. Веселовский не в силах понять, как могло такое случиться, что взявшего сторону Владимира Старицкого и тем скомпрометированного Сильвестра царь Иван продолжал держать у себя не один год в приближении. С точки зрения рациональной это объяснить, конечно, трудно. Но если вспомнить о душевном состоянии Ивана IV, глубоко религиозного человека, охваченного чувством всепрощения и объятого желанием «свести всех в любовь», то невольно возникает вопрос: не простил ли государь провинившегося Сильвестра? Митрополит Иоанн имел основания утвердительно ответить на этот вопрос: «Царь всех простил! Царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха»{219}. Так выявляются некоторые чисто субъективные мотивы событий царствования Ивана Грозного. В этой связи необходимо заметить, что получившие широкое распространение в исторической науке представления о тенденциозности сочинений царя Ивана, об отступлении их автора от правды в угоду собственным, далеко не всегда верным взглядам, а также ради оправдания совершенных им жестокостей и просчетов, нуждаются в комментарии. Современные историки никак не могут хотя бы чуть-чуть проникнуться мироощущением наших предков и забывают главное: Иван IV — Богоизбранный, Богоданный и Боговенчанный Царь, разумеющий Царское предназначение, состоящее в служении Богу и ответственности его перед Богом не только за себя, но и за своих подданных: «Аз убо верую, о всех своих согрешениях вольных и невольных суд прияти ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подовластных дати ми ответ, аще что моим несмотрением погрешится»{220}. Царь Иван верил, что единственный ему судия — это Бог, который все видит, все знает. Так стал бы он оправдываться перед своими подданными, за которых он сам ответствен, или изворачиваться и лгать, выгораживая себя? Вряд ли. Такое могли придумать лишь позднейшие историки, не вникающие в психологию людей прошлого и модернизирующие ее. Кроме С. Б. Веселовского и независимо от него проблему интерполяций Царственной книги вообще и применительно к событиям 1553 года в частности изучал Д. Н. Альшиц{221}. Его работы прочно вошли в обиход исторической науки и были положительно оценены известными специалистами. Среди них был, естественно, С. Б. Веселовский{222}. Одобрительно отозвался об исследованиях Д. Н. Альшица и другой знаток истории Руси XVI века, А. А. Зимин, который говорил: «Одним из основных источников для изучения политической истории 40–50-х годов XVI в. являются вставки в Лицевой летописный свод, содержащий красочный рассказ о мятеже 1553 г., восстании 1547 г., выступлении пищальников 1546 г. и некоторые другие интересные сведения. Д. Н. Альшиц благодаря тонкому источниковедческому анализу выяснил, что составителя всех этих приписок следует искать в канцелярии Ивана Грозного. Он также убедительно показал, что приписки имеют тенденциозную направленность, связанную с событиями 60–70 годов XVI в.»{223}. К чести Д. Н. Альшица нужно сказать, что он, доказывая авторство приписок Ивана Грозного к Лицевому своду (в том числе касающихся событий 1553 г.), не стал на путь полного отрицания их как важного исторического источника, несмотря на то, что в своих приписках царь, по словам исследователя, «нередко сбивается с летописной манеры изложения, и рассказы его приобретают характер острых памфлетов», в которых нарушается действительная связь и последовательность событий. Ибо «при всем том объективная правота Грозного в его борьбе обеспечила общую правильность его оценок событий и деятелей. К тому же… было бы неправильно делать вывод, что все приписки Грозного неверно передают исторические факты, которым они посвящены. Приписок — много десятков, но лишь некоторые могут быть признаны искажающими действительность. Большинство приписок Грозного является результатом его работы с документами и отражает своим содержанием подлинные документы того времени. Даже множество мелких поправок к тексту летописи свидетельствует о том, что главное направление его редакторской деятельности вело к восстановлению правильности изложения, к уточнению истины»{224}. Д. Н. Альшиц специально отмечает, что в своем исследовании останавливается лишь на приписках Грозного, искажающих действительность, «а не на тех, которые верно передают факты»{225}. Это замечание имеет для нас существенное значение, поскольку, надо полагать, проясняет отношение автора к тексту приписки, где Сильвестр охарактеризован как «всемогий». Д. Н. Альшиц не останавливается на данном тексте. Не следует ли это понимать так, что исследователь признает правильной такую характеристику? Не отвергал ее и Смирнов, полагавший, что содержащаяся в Царственной книге характеристика Сильвестра «находит свое подтверждение в объективных данных источников. Так, важнейшее заявление Царственной книги о том, что Сильвестр был у государя «в совете духовном и думном», вполне отвечает тем наблюдениям, которые вытекают из рассмотрения послания Сильвестра кн. Горбатому-Шуйскому (которое очень ясно говорит об отношении Сильвестра к «думному совету») и материалов о Башкине (сохранивших картину государева «совета» с участием Сильвестра). То же можно сказать и о словах Царственной книги о том, что Сильвестр «всякие дела и власти святителския и царския правяше». Мы видели, что диапазон деятельности Сильвестра был весьма широк — от обсуждения вопросов казанской политики до переговоров с Иоасафом по делам Стоглавого собора; от дел, связанных с судьбой опальных бояр, до руководства работами по восстановлению икон и росписей кремлевских соборов и дворцов; от инструкций по проведению в жизнь решений Стоглавого собора (в письме Горбатому-Шуйскому) до весьма тесных связей с таможенными делами и финансовыми операциями (в которых Анфим Сильвестров выступает вряд ли самостоятельно или независимо от своего отца). Источники сохранили определенный материал, позволяющий комментировать и слова Царственной книги о том, что Сильвестр «указываше» митрополиту, владыкам, игуменам, попам, боярам, дьякам, воеводам, детям боярским «и всяким людям». Мы видели, что среди лиц, о сношениях с которыми Сильвестра имеются данные источников, есть и митрополит (правда, бывший) Иоасаф, и будущий новгородский архиепископ Серапион Курцов (вместе с которым — тогда еще игуменом Троице-Сергиева монастыря — Сильвестр ездил к Иоасафу), и кандидат в троицкие игумены Артемий, и поп Симеон (авторитарный характер отношений к которому со стороны Сильвестра очень ярко отражен в «жалобнице» Симеона). Не менее выразителен и перечень светских лиц, к которым можно отнести слова Царственной книги о том, как «указывал» Сильвестр, включающий в себя и кн. Горбатого-Шуйского, и не названного по имени опального боярина (из письма к нему Сильвестра), и такого приказного деятеля, как дьяк Висковатый…, и казначей Хозяин Тютин, и даже «сын боярский» Матвей Башкин. Наконец, в источниках сохранились данные и о «советниках» Сильвестра, в том числе и об Алексее Адашеве (в «совете» с которыми Сильвестр участвовал в обсуждении дела о ереси Башкина)»{226}. После столь тщательно рассмотрения И. И. Смирновым элементов, из которых составлена характеристика Сильвестра, имеющая, как справедливо утверждает автор, реальную основу, он вдруг дает ход назад, заявляя: «Однако взятая в целом, эта характеристика, напротив, никак не может быть призвана отвечающей той действительной роли, которую Сильвестр играл в политической жизни Русского государства 40–50-х годов, ибо элементы реального, имеющиеся в характеристике Царственной книги, содержатся в ней в столь гиперболизированной форме, что это привело к полному нарушению пропорций и перспективы, в результате чего и получился образ Сильвестра — всемогущего, держащего в своих руках всю власть в государстве, и «святительскую», и «царскую», и «владеяше всем». В этом искажении реальных пропорций и отношений с сознательной целью чрезмерного преувеличения размеров власти и степени влияния Сильвестра и заключается основная, враждебная Сильвестру тенденциозность рассказа Царственной книги»{227}. И. И. Смирнов полагает, будто «образ «всемогущего» Сильвестра, нарисованный Царственной книгой, опровергается прямыми показаниями источников, позволяющими определить степень влияния Сильвестра и составить себе представление о реальных масштабах его власти»{228}. В качестве доказательства историк ссылается на поездку Сильвестра к бывшему митрополиту Иоасафу, организованную во время работы Стоглавого собора, а также на испытание старца Артемия перед назначением его игуменом Троице-Сергиева монастыря. Эти факты, по Смирнову, «скорее рисуют Сильвестра как доверенного исполнителя, чем как руководителя и вдохновителя правительства»{229}. Следует, однако, не забывать, что названные поручения особого свойства. В них очень был заинтересован не кто иной, как Сильвестр. Это лишь по форме царские поручения, а по сути — предприятия самого Сильвестра. К Иоасафу он ездил, чтобы заручиться авторитетной поддержкой инициируемого реформаторами нестяжательского проекта, застопорившегося на Стоглавом соборе. Сильвестр имел основания надеяться на успешный исход своего свидания с экс-митрополитом, поскольку Иоасаф разделял взгляды нестяжателей{230}. К тому же между Иоасафом и Сильвестром давно установились добрые отношения, о чем можно судить по истории освобождения из-под стражи Владимира и Ефросиньи Старицких. Участие Сильвестра в судьбе старца Артемия тоже говорит о многом. Известно, что Артемий принадлежал к радикальному направлению нестяжателей{231}. Это он, Артемий, обращался к Стоглавому собору с призывом «села отнимати у манастырей»{232}. Кроме того, Артемий, как установил церковный собор 1553–1554 гг., сочувствовал еретикам и даже сам был заражен ересью{233}. Во всяком случае, его богословские взгляды «давали возможность для критики официальной церкви»{234}. Все это в Артемии привлекало Сильвестра, и он, присмотревшись к старцу, рекомендовал его на пост игумена Троице-Сергиева монастыря{235}. Как видим, Сильвестру давались поручения, в которых он был непосредственно заинтересован и, надо думать, по собственной инициативе взялся их исполнить, хотя внешне это выглядело как задание царя и собора. Следовательно, «реальные масштабы власти» и влияния Сильвестра являлись таковыми, что позволяли ему брать в свои руки любое дело, если того требовали интересы Избранной Рады. Еще один момент, опровергающий, согласно И. И. Смирнову, идею всевластия благовещенского попа, — «это общая незначительность количества сведений о Сильвестре. Слишком уж мало для «всемогущего» правителя государства отложилось в источниках следов его деятельности»{236}. Однако Сильвестр, по нашему убеждению, действовал в рамках неформальной власти, приводя в движение других людей, посредством которых добивался поставленных целей. Вынашивая планы, не подлежащие оглашению, Сильвестр старался держаться в тени, предпочитая скрытность открытости, тайное явному. Поэтому источники так скупы на сведения о нем. Данное объяснение применимо к некоторым частным фактам, привлекаемым И. И. Смирновым для опровержения характеристики, данной Сильвестру Царственной книгой. Речь идет о факте «отсутствия Сильвестра в списке лиц, получивших пасхальные подарки от новгородского архиепископа в 1548 г.». И. И. Смирнов полагает, что «неофициальный характер этого списка, превращавший его… в своего рода барометр, чутко реагирующий на изменения в политической обстановке в стране после ликвидации боярского правления, казалось бы, делал само собою разумеющимся включение Сильвестра в подарочный список. И тем не менее Сильвестр подарков от новгородского архиепископа не получил, хотя в подарочном списке значатся не только представители высшей церковной иерархии, вроде тверского епископа Акакия, но и такие лица, как симоновский архимандрит Трифон, духовник Ивана IV протопоп Яков и даже келейник митрополита Макария Селиван»{237}. Отсутствие Сильвестра в подарочном списке новгородского архиепископа Феодосия было истолковано И. И. Смирновым (кстати сказать, и другими учеными) как указание на ограниченное политическое влияние Сильвестра, его достаточно скромную роль в придворной жизни{238}. Но эту версию историка нельзя считать единственно возможной. Можно также предположить, что Сильвестр не попал в число лиц, получивших пасхальные подношения, по причине сравнительной незначительности своего духовного чина. Являясь по должности церковным попом, он с точки зрения служебного положения уступал и симоновскому архимандриту Трифону, и духовнику царя Ивана протопопу Якову, и даже келейнику митрополита Трифону. Не исключено здесь, впрочем, и другое: неразглашение усиливающегося влияния Сильвестра на молодого государя, вследствие чего новгородский архиепископ не знал пока ничего о подлинной роли благовещенского священника и потому не включил его в список одариваемых. Но ближе к истине, на наш взгляд, третье, к чему почти подошел Е. Е. Голубинский, который отсутствие имени Сильвестра в списке Феодосия понял так, что в 1547 году Сильвестр «еще не был приближенным к государю»{239}. Точка зрения Е. Е. Голубинского нуждается, по нашему мнению, в некотором коррективе. Ведь, например, келейник митрополита Трифон тоже «не был приближенным к государю». Но в список новгородского владыки он все-таки попал. Значит, вопрос не в том, был ли на момент составления списка Сильвестр «приближенным к государю» или нет. Вопрос скорее в том, обладал ли Сильвестр властью, пользовался ли влиянием на царя к этому моменту и каковы масштабы того и другого. Судя по всему, Сильвестр вошел в круг приближенных Ивана IV после событий, связанных с «великим пожаром» в Москве в июне 1547 года. Но «всемогим» он стал не сразу, а по мере того, как входил в доверие к государю и подчинял его своему влиянию. Перед нами процесс становления Сильвестра в роли всевластного временщика. К пасхальному празднику 1548 года Сильвестр только начинал свое восхождение на вершину власти. Тогда благовещенский поп был еще малозаметной придворной фигурой. Видимо, поэтому в списке Феодосия нет его имени. Но в начале 50-х годов XVI века Сильвестр превращается во всесильного правителя, властвовавшего вместе со своим собратом по Избранной Раде Алексеем Адашевым. Иное мнение у И. И. Смирнова, который пишет: «Если от 1548 г. продвинуться несколько вперед, к началу 50-х годов — к тому отрезку времени, в котором можно видеть период наибольшей политической активности Сильвестра, то и здесь источники дают основание говорить в гораздо более ограничительной форме о степени и размерах политического влияния Сильвестра, чем это сделано в Царственной книге»{240}. И. И. Смирнов вспоминает историю с дьяком И. М. Висковатым, на протяжении трех лет публично («вопил и возмущал народ») обвинявшим Сильвестра в ереси. Эта история укрепила сомнения исследователя насчет «всемогущества» Сильвестра. И. И. Смирнов говорит: «Казалось бы, — если стоять на позициях формулы Царственной книги о «всемогущем» Сильвестре, — Сильвестру не предстояло никакого труда пресечь действия дьяка-возмутителя и расправиться с ним. Однако «поношение» Сильвестра Висковатым никак не отразилось на политической карьере Висковатого, который именно в 1551–1554 гг. играет особенно крупную роль и в дипломатической деятельности, и в делах общегосударственного характера. Больше того, в борьбе Висковатого с Сильвестром роль нападающей стороны принадлежала не попу, а дьяку, и Сильвестру пришлось даже давать специальные объяснения собору 1554 г., отводя от себя обвинения со стороны Висковатого»{241}. Есть, однако, другая сторона вопроса, оставляемая И. И. Смирновым без внимания: степень эффективности обвинений Висковатого. Иными словами, возымели ли действие громогласные разоблачения Сильвестра в ереси, упорно повторяемые Висковатым. Казалось бы, столь тяжкие обвинения должны были очень навредить Сильвестру. Но этого не произошло. Сильвестр не только не пострадал, но, напротив, достиг своего политического зенита, что могло состояться лишь при наличии у него мощных рычагов власти. И только тогда, когда пик власти им был пройден{242}, а ересь приобрела угрожающий для Руси характер, у Сильвестра потребовали объяснений, в результате чего наказанию подвергся не он, а Висковатый, хотя обвинения последнего не являлись, как мы знаем, беспочвенными. Подобный ход событий свидетельствует, на наш взгляд, о том, что Сильвестр обладал такой властью и влиянием, о которые разбились все попытки Висковатого убрать его с политической сцены. Наскоки И. М. Висковатого на Сильвестра, незыблемость позиций последнего, несмотря на эти наскоки, отражают, по-видимому, напряженную придворную борьбу, сопровождавшую деятельность Избранной Рады, у которой среди придворных имелось, несомненно, немало противников, стоявших за сохранение и упрочение русского самодержавия, чистоту православной веры и нерушимость святой апостольской церкви. В ряду этих противников Избранной Рады Висковатый выделялся незаурядными способностями, волевым характером и решительностью, почему представлял для Сильвестра «со товарищи» серьезную опасность. И они поступили разумно, перетянув Висковатого на свою сторону, о чем можно судить по совместной дипломатической работе посольского дьяка с Алексеем Адашевым в период Ливонской войны, дающей примеры предательства государственных и национальных интересов России. И. И. Смирнов полагает, что источником власти Сильвестра являлось благоволение к нему Ивана IV. «Степень веса и влияния Сильвестра как политика, — говорит он, — должна быть поставлена в прямую связь и зависимость с тем, что в своих действиях Сильвестр опирался на авторитет царской власти, действуя от имени этой власти»{243}. Это верно, но отчасти, поскольку И. И. Смирнов, как нам кажется, фиксирует лишь один из моментов превращения Сильвестра во всемогущего временщика. Необходимо понять, что Сильвестр и Адашев всесильными стали не сразу, а пройдя несколько этапов на пути к своему могуществу. Сначала надо было ближе познакомиться с царем, попасть в его окружение, вызвать у него расположение к себе и стать царским любимцем. Затем наступало время, когда государь поручал избранникам исполнение от своего имени тех или иных дел. На этом этапе поручения исполнялись в строгом соответствии с инструкциями и указаниями самодержца. И только потом исполнитель, выступая формально от лица царя и якобы по его велению, вносил элемент самостоятельности в осуществление власти, концентрируя ее в собственных руках, что превосходно выражено в известной формуле Ивана Грозного: «Посем же… от прародителей наших данную нам власть себе отъяша». Следовательно, перед нами не одноактное действие, а целый процесс постепенного освоения высшей власти Сильвестром и Адашевым. В источниках данный процесс запечатлен по-разному: в одном случае фрагментарно, т. е. в виде отдельных этапов, а в другом — целостно, с описанием всех ступеней отторжения власти от царя. Так, Хрущевская Степенная книга рассказывает о двух начальных этапах проникновения во власть Адашева — о приближении его к себе царем Иваном{244} и поручении ему, которое открывало перед царским избранником огромные властные перспективы{245}. Царственная же книга, минуя предшествующие этапы продвижения Сильвестра к власти, характеризует благовещенского священника как уже состоявшегося всесильного правителя, пребывающего у государя «в великом жаловании» и вершащего государевым именем все дела, «святительские и царские», правителя, повелевающего всеми людьми, церковными и светскими. Есть, однако, источники, где завладение властью Сильвестром и Адашевым представлено в полной последовательности. В первую очередь здесь надо назвать переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским, где царь напоминает беглому князю, как приблизил к себе Адашева и Сильвестра, «чая» от первого «прямые службы», а от второго — «совета духовного». Вынашивая далеко идущие планы, они служили государю, но притворно («не истинно, а лукавым советом»). Затем, войдя в тайный сговор («и начаша советовати отаи нас»), Адашев и Сильвестр со своими советниками посягнули на самодержавную власть, низвели Ивана до роли председателя в Боярской Думе, удостоив чести царя по названию, государя на словах, а не на деле. Так представитель «священства» (Сильвестр) и представитель «рядничества» (Адашев) стали «государиться», лишив царя Ивана полноты власти. Аналогичную картину трехступенчатого восхождения Адашева на вершину власти рисует и Пискаревский летописец, повествуя о том, как царь Иван приблизил к себе Алексея Адашева после возвращения его из поездки в Турцию, как государь поручил ему рассмотрение челобитных и контроль за своевременным ответом властей на жалобы подданных, как Адашев, в конце концов, выступил в роли властителя, правившего вместе с Сильвестром Русской землей. Пора, однако, вернуться к Царственной книге в части ее характеристики Сильвестра. Под влиянием исследования И. И. Смирнова и особенно работ С. Б. Веселовского в современной исторической науке сложилось нечто вроде стереотипа в оценке политической характеристики Сильвестра, данной Царственной книгой. «Исследователи справедливо отмечают, что эта характеристика полна тенденциозных преувеличений», — говорит новейший автор труда об Иване Грозном{246}. Полагаем, однако, что высказанные нами соображения позволяют признать исторически достоверным образ Сильвестра, запечатленный Царственной книгой. Быть может, в ней кое-что и преувеличено. Но главное, а именно то, что Сильвестр обладал властью, стесняющей власть самодержца и ограничивающей ее, Царственная книга уловила верно{247}. Важно отметить, что Сильвестр, по рассказу летописца, «владеяше всем» не единолично, а в компании со «своими советники», т. е. вместе с группой лиц, именуемых Избранной Радой. Если Пискаревский летописец и Царственная книга недвусмысленно и прямо свидетельствуют о могуществе Сильвестра, то некоторые другие источники содержат косвенные указания на сей счет. К ним относится послание Сильвестра казанскому наместнику князю А. Б. Горбатому-Шуйскому, отправленное адресату где-то в конце 1552 года или в начале (январь — февраль) 1553 года, скорее всего до марта 1553 года, т. е. до болезни царя Ивана{248}. Это послание кремлевского попа являлось ответом на письмо к нему Горбатого-Шуйского, в котором наместник просил Сильвестра сообщить ему, как оценивает царь его службу в Казани, о которой он извещал Ивана IV в специальном послании-отчете. В ответ Сильвестр писал: «А еже убо издалека зрех и овогда слышах благоразумное твое и премудрое писание к Царю и к ближним твоим, насладихся сего и порадовахся, и всячески удивихся многим твоим трудом и великим подвигом, иже строеши и утвержаеши град и живущих в нем, по Царскому наказу, и по своему, Богом дарованному, разуму. Велми о сем Государь и вси ближний благодарят твоего разума делу о всем. И о воинстве також устраяеши»{249}. Отсюда следует, что Сильвестр был в курсе вопросов, связанных с управлением страной. Он имел даже доступ к служебной переписке, в частности к посланиям, приходящим на царское имя. Однако Сильвестр старался не выпячивать эти необычные для священника (пусть даже священника домового храма Благовещения в Кремле) возможности. Видимо, поэтому он говорит Горбатому, что его «премудрое писание к царю» не читал, а иногда только слышал о нем и «зрех издалека». Той же цели камуфляжа подлинной роли Сильвестра при царе Иване служит уничижительная риторика, присутствующая в его послании Горбатому-Шуйскому: «благовещенский поп», «последняя нищета», «грешный», «неключимый», «непотребный раб Сильвестришко» и пр{250}. Обращает внимание знакомство «раба Сильвестришки» с письмами казанского наместника своим родичам («ближним»). Это можно понять лишь в том смысле, что родственникам А. Б. Горбатого Сильвестр казался человеком, обладавшим большой властью и влиянием да к тому же расположенным к членам их семейства и конкретно, в частности, к «ближнему», несущему службу в Казани{251}. Следует сказать, Сильвестр выставляет главными героями взятия Казани воевод, в особенности А. Б. Горбатого-Шуйского: «Еже соверши граду сему Казанскому царским повелением, а вашим храбрьством и мужеством, наипаче твоим крепким воеводством и сподручными ти»; «царь и великий князь Иван Васильевич… град Казань разори своим благородием и вашим храбрьством… купно же и вашим подвигом мужествене пособствующу ему…»{252}. По И. У. Будовницу, здесь «царь уже не выступает единоличным вершителем судьбы, действующим как божий посланец. Наоборот, тут всячески подчеркивается подвиг воевод, без которых царь бессилен»{253}. Сильвестр, полагает Р. Г. Скрынников, в послании «без обиняков заявлял, что Горбатому принадлежит главная заслуга в покорении Орды»{254}. А. А. Зимин услышал в приведенных словах Сильвестра «новые нотки» в отношении к царской власти{255}. Историк заметил, что, согласно Сильвестру, сподвижники царя дополняют власть монарха{256}, образуя полномочный совет при нем{257}, т. е. ограничивают власть государя, лишая ее самодержавных начал. Оценивая послание в целом, И. У. Будовниц замечает, что в нем «Сильвестр, правда в несколько завуалированном виде, развивает мысль об ограниченности царской власти»{258}. Скажем больше: Сильвестр решается даже на откровенный выпад против царя, заявляя, что «добродетель есть лутчы всякого сана Царскаго»{259}. Во всем этом благовещенский поп выступает как проводник идей Избранной Рады, нацеленной на изменение самодержавного строя Руси. Сильвестр в своем письме к Горбатому вторгается в «широкий круг вопросов, связанных с положением в Казани и Казанском крае, а также с деятельностью казанского наместника и других представителей властей»{260}, высказывая при этом нечто вроде предписаний по управлению покоренной земли. Подобные вещи имел, наверное, в виду Грозный, когда говорил о Сильвестре: «И тако вместо духовных, мирская нача советовати». И конечно же, Сильвестр в своих внушениях казанскому наместнику предстает перед нами весьма важной персоной в московских правящих кругах середины XVI века. Это подтверждает и тот факт, что послание Сильвестра носило далеко не частный характер. Не случайно Сильвестр рекомендует Горбатому-Шуйскому прочесть его «прочим Государьским Воеводам, советным ти о Государеве деле, и священному чину, и Христоимянитому стаду»{261}. Следовательно, в компетенцию Сильвестра-правителя входили все российские подданные, находящиеся в Казани. Наставления и рекомендации, адресованные Сильвестром князю Горбатому-Шуйскому, касались не только светских, но и духовных дел. По этому поводу И. И. Смирнов писал: «Особо выделен в послании вопрос о деятельности церкви, причем, указывая Горбатому-Шуйскому на то, что на нем как наместнике лежит обязанность наблюдения и руководства деятельностью церковных властей в крае, Сильвестр, можно сказать, прямо инструктирует Горбатого-Шуйского, указывая, что он должен действовать в церковных вопросах «по Соборному Уложению, а та книжка соборная [Стоглав] есть списана в новом городе в Свияжском у протопопа»{262}. Сильвестр, стало быть, считает себя вправе вмешиваться в церковное управление Казанским краем. Ему даже известна такая деталь, как наличие у свияжского протопопа копии Стоглава. Сильвестр, следовательно, был осведомлен насчет обеспечения епархий этим новым соборным документом, по которому надлежало строить жизнь церкви на местах. Важным элементом религиозной политики Москвы являлось отношение к населяющим Казанский край нехристианским народам. Сильвестр затронул и этот весьма щекотливый вопрос, призвав своего адресата к насильственной христианизации жителей Поволжья, хотя и под внешне благовидным предлогом: «Зело бо хощет сего Бог, дабы вся вселенная наполнилася православиа»{263}. Характерно и то, что инструментом принудительного обращения неверных в православную веру Сильвестр считает царскую власть, а не мирную проповедь миссионеров, убеждающих иноверцев в истинности православия. «Ни что же бо тако пользует православных Царей, яко же се, еже неверных в веру обращати, аще и не восхотят…», — писал он, выбрасывая явно провокационный лозунг{264}. Чтобы понять меру его провокационности, надлежит вспомнить мятежную обстановку в Поволжье после взятия Казани»{265} и политику Ивана IV в отношении народов Поволжья, подчинявшихся ранее татарам. Царь, как известно, «разослал по всем улусам черным ясачным людям жалованные грамоты, писал, чтоб шли к нему без страха, он их пожалует, а они платили ему ясак, как и прежним казанским царям»{266}. Государь здесь придерживался старой, оправданной жизнью практики русских князей, оставлявших внутренний уклад жизни (в том числе и верования) подвластных племен нетронутым и довольствовавшихся исправной выплатой дани{267}, в отличие от западных завоевателей, которые утверждали католическую веру в покоренных землях жестокой силой. Что касается обращения в православную веру поволжских людей, то Иван уповал на волю «милосердного Бога», моля его, чтобы он «в граде казанском» утвердил «благоверие, истинный закон христианьской, и неверных бы обратил ко истинному христианьскому закону»{268}. Наставления же Сильвестра по части насильственного обращения в православие населения бывшего Казанского ханства шли, как видим, вразрез с политикой царя Ивана, «лаской» привлекавшего поволжских инородцев под «высокую государеву руку», и больше соответствовали западным, нежели отечественным приемам распространения христианства. Эти наставления были особенно опасны в обстановке мятежных настроений местных племен, то и дело поднимавших войну против русских. Своими призывами к насильственной христианизации Казанского края Сильвестр мог лишь усилить мятежный дух народов Поволжья и тем самым осложнить процесс освоения присоединенных к Руси земель. Осознавал ли Сильвестр вредоносность для Русского государства предлагаемых им принудительных мер при осуществлении религиозной политики в Поволжье — вот в чем вопрос. На наш взгляд, благовещенский поп не был столь простодушен, чтобы не понимать этого. Политический вес и значение Сильвестра вполне определенно проецируются в самом факте обращения к нему А. Б. Горбатого-Шуйского. В историографии на это уже обращалось внимание. Так, И. И. Смирнов замечал, что «для характеристики положения, занимавшегося Сильвестром, чрезвычайно показателен самый факт обращения к нему Горбатого-Шуйского. То, что кн. Горбатый-Шуйский, занимавший по своему весу и значению одно из первых мест среди боярства, действует именно через Сильвестра, стремясь, таким образом, обеспечить себе поддержку при обсуждении царем и его ближними людьми деятельности казанского наместника, свидетельствует, конечно, об очень большом политическом весе попа Сильвестра»{269}. И. И. Смирнов тут, конечно, прав. Затронул данный сюжет и Б. Н. Флоря, который говорил, что «деятельность Сильвестра далеко выходила за рамки того, что мог позволить себе рядовой священник, даже если бы он и являлся царским духовником. В этом плане весьма показательно, что один из наиболее знатных представителей московской аристократии (его род уступал по своему значению только близким родственникам царя по отцу — князьям Бельским и Мстиславским), князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, первый наместник покоренной Казани, счел нужным обратиться к Сильвестру с просьбой о совете, как управлять покоренным краем, и Сильвестр написал ему подробные рекомендации по разным вопросам. Само послание Сильвестра заканчивалось предложением прочесть его текст «прочим государьским воеводам… и священному чину и христоименитому стаду». Все это дает основание говорить о Сильвестре как о человеке, пользующемся особым доверием царя (иначе казанский наместник не стал бы обращаться к простому священнику) и погруженном в обсуждение разных проблем конкретной политики»{270}. Не отрицая «особого доверия», которым Сильвестр пользовался со стороны царя Ивана, необходимо все-таки заметить: благовещенский поп на определенном этапе своей придворной карьеры выступал в качестве самодостаточного государственного деятеля, ведущего собственную политическую игру, что явствует из содержания его послания Горбатому, где встречаем высказывания, противоречащие, как мы уже убедились, установкам государя. Послание попа Сильвестра кн. А. Б. Горбатому-Шуйскому позволяет говорить о его авторе как о человеке, обладавшем большой властью, которая простиралась на широкий круг государевых подданных, включая как светских лиц, так и людей духовного звания. Оно, стало быть, согласуется с рассказом Ивана Грозного о том, что поп Сильвестр сосредоточил в руках своих мирскую и духовную власть. В этой связи необходимо отметить, что в концовке письма Сильвестра к Горбатому-Шуйскому есть одна очень существенная деталь, не привлекшая должного внимания исследователей. В состоянии непомерного самомнения автор послания называет свое сочинение «божественным писанием» и даже — «святым»{271}, считает его богоугодным, для мирян и «священного чина» душеполезным, душеспасительным и учительным: «нескрый сего святаго писания… да со вниманием прочетше на пользу душам своим, и начнут вся сия творити и учити, яже есть писано, Господу поспешествующу и слово утвержающю, и велию благодать обрящете от Бога вкупе, и многим душам спасение получите, во оставление грехов и жизнь вечную»{272}. Говорить такие слова мог позволить себе человек, претендующий на духовную власть, если не превосходящую, то равную святительской власти. Данные слова, принадлежа самому Сильвестру (в чем их огромная ценность), подтверждают правдивость сообщения Ивана Грозного о «восхищении» благовещенским попом «святительского сана». Эти слова, обращенные не только к Горбатому, но ко всему «христоимянитому стаду» в Казани, согласуются также с Царственной книгой, извещающей о том, что Сильвестр «указываше бо и митрополиту и владыкам и архимаритом и игуменом и черньцем и попом и бояром и дияком и приказным людем и воеводам и детем боярским и всяким людем…». Слухи относительно властных возможностяй Сильвестра, его влиянии при дворе московского царя доходили до русского общества того времени. На это указывает послание Максима Грека Сильвестру. Уже одно подобострастное обращение к адресату, открывающее письмо «Святогорца», говорит о многом: «Честнейшему во Иереях Вышнего, и всякими цветы добродетельными преукрашенному, и во искустве и разуме Богодухновенных Писании изящному разсудителю, Господину Селивестру и благодетелю моему, неключимый чернец он сице, смея и не смея много челом бью до земли»{273}. Максим пишет Сильвестру, что о его милосердии и содействии «требующим помощи» слышал «от всех»{274}. И вот теперь и он, Максим, просит Сильвестра похлопотать перед государем о вдове и детях одного умершего князя, оказавшихся в бедственном положении: «Сего ради и аз с добрым упованием смею и бью челом твоему благоутробию, дабы еси пожаловал поминал благоверному Царю и Самодержцу всея Русии о детях покойника Никиты Борисовича, чтобы Государь умилосердился и показал милость к ним, в великой скудости и нужде живущим. Се долг мног, се три сестры, да нечим отдати их. Умилосердися Бога ради, простри руку помощи, по твоему обычному Богоугодному милосердию. Ей, молю тя, честнейший Иерей! помози многоскорбной вдове и сиротам ея, угаси росою благоутробия твоего горькия слезы безпрестани изливаеми. Буди вдовам предстатель и сиротам отец, по оному праведному многострадальцу»{275}. Данная просьба Максима Грека не оставляет сомнений в том, что Сильвестр пользовался в общественных кругах репутацией придворного, в высшей степени влиятельного во власти, имеющего прямой выход на государя («дерзновение к державному») и способного своим заступничеством облегчить судьбу любого человека, даже провинившегося перед царем. В письме Максима отражен именно такой случай, поскольку был связан с Никитой Борисовичем, которого архимандрит Леонид отождествил с князем Ростовским-Приимковым{276}, причастным к государственной измене своего родственника князя Семена Ростовского. Летописец сообщает, что в июле 1554 года побежал в Литву князь Никита Ростовский, но на пути туда в пограничном Торопце был схвачен детьми боярскими и приведен к царю Ивану, который велел спросить беглеца, «отчего побежал». Князь Никита ответил, что «его отпустил в Литву боярин князь Семен Ростовской к королю сказати про себя, что он к королю идеть, а с ним братия его и племянники…»{277}. Государь приказал «поймать князя Семена и выпросить его», т. е. допросить. Наряду с прочим Семен Ростовский показал, что «с ним ехати хотели… Ростовские князи, Лобановы и Приимковы, и иные клятвопреступники»{278}. В числе князей Приимковых, изготовившихся к бегству в Литву, был, по всей видимости, и Никита Борисович, сурово за то поплатившийся{279}. За его вдову и детей хлопочет, как видим, Максим Грек, взявшись за дело довольно щекотливое, поскольку речь шла о семье государственного изменника. Но Грек, судя по всему, знал, к кому обращался. Он знал, по-видимому, не только о всесилии Сильвестра, но также о его расположении к Семену Ростовскому и родственникам князя, о чем с негодованием говорил Иван Грозный впоследствии Курбскому: «Поп Селивестр и с вами, своими злыми советники, того собаку (Семена Ростовского. — И.Ф.) учал в велице брежение держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, но и всему его роду»{280}. Примечательно то, что Максим Грек, не опасаясь за свои слова, называет Никиту Борисовича «праведным многострадальней» (значит, невинным), становясь, следовательно, как бы в оппозицию царской власти и надеясь, вероятно, что найдет понимание у Сильвестра… Итак, рассказы Ивана Грозного и Андрея Курбского о Сильвестре и Алексее Адашеве как о всевластных советниках, ограничивающих вместе с другими членами Избранной Рады русское «самодержавство» середины XVI века, находят убедительное подтверждение в некоторых независимых источниках, рассмотренных нами выше. Практическая деятельность Сильвестра и Адашева является ярким свидетельством их доминирующей роли в политической жизни Руси обозначенного времени. * * *Сильвестр и Адашев вряд ли достигли бы столь значительной власти, не осуществи они «кадровой перетряски», преследующей цель внедрения своих агентов в правительственные сферы. Едва войдя в доверие к царю Ивану, эти деятели кардинальным образом изменили состав Боярской Думы. Большой интерес в этой связи представляют наблюдения А. А. Зимина, который пишет: «Состав Думы резко увеличился: вместо 12 человек бояр, входивших в нее в 30-х годах XVI в., в Думе к концу 1549 г. насчитывалось 32 боярина, причем характерно, что десять бояр получили свои звания уже после февраля 1549 г., в их числе был ряд сподвижников главы правительства Алексея Адашева. О князе Дмитрии Ивановиче Курлятеве как о «единомысленнике» князя Курбского и его «приятелей» говорит сам Иван Грозный. Близок к Адашеву был и Иван Васильевич Шереметьев, постриженный позднее в цитадели нестяжательства — Кирилло-Белозерском монастыре, который поддерживал Сильвестра. Входил в Избранную раду Михаил Яковлевич Морозов. Всего боярами стали после московского восстания 1547 г. 18 человек, т. е. больше половины состава бояр Думы в конце 1549 г. получило свои звания после восстания… Сходная картина наблюдается и при изучении состава окольничих. Из девяти человек шестеро получили свои звания в 1549 г., двое в 1547 г. (в годы боярского правления было всего 2–3 окольничих)»{281}. Перед нами настоящая, так сказать, кадровая революция, произведенная теми, кто спровоцировал народные волнения в Москве летом 1547 года, кто воспользовался в своих интересах душевным состоянием Ивана IV, возжелавшего править подданными во имя правды, любви и согласия. А. А. Зимин полагает, что «увеличение в три раза численности состава Думы свидетельствовало о стремлении правительства ослабить политическое влияние нескольких аристократических фамилий, монопольно распоряжавшихся Думой в малолетство Ивана Грозного»{282}. Быть может, А. А. Зимин прав, но лишь отчасти. Основной смысл столь решительных перемен в количественном составе Боярской Думы заключался, на наш взгляд, в стремлении создать Сильвестру и Адашеву опору большинства в этом высшем государственном учреждении страны. Цель здесь ясна: усиление власти Сильвестра и Адашева, необходимое для успешного проведения намеченных Избранной Радой реформ. Следует согласиться с А. И. Филюшкиным, что в данном случае надо вести речь о приходе в правительство будущих реформаторов{283}. Их значительный приток в Боярскую Думу расширил фактические прерогативы и степень участия этого правящего органа в государственных делах{284}. Прав, таким образом, и А. Г. Кузьмин, верно уловивший «тактический характер расширения состава Думы»{285}. Однако не следует забывать, что за этим в придворной игре тактическим ходом скрывалась политика, затрагивающая основы Русского государства в его прошлом, настоящем и будущем. Поэтому следует согласиться с И. И. Смирновым, который говорил, что изменения в составе Боярской Думы после 1547 года «носят отчетливо выраженный политический характер»{286}. В этой общей постановке вопроса И И. Смирнов, безусловно, прав. Но с ним нельзя солидаризоваться в определении конкретных политических причин, вызвавших радикальные изменения в составе Боярской Думы. Исследователь уверен, будто все эти изменения «стоят в прямой связи с общим характером политики правительства Ивана IV — политики, обращенной своим острием против «великих родов» княжеской знати, и вместе с тем свидетельствуют о выдвижении на первый план политической сцены представителей тех кругов, которые поддерживали эту политику»{287}. Не следует преувеличивать степень борьбы правительства царя Ивана против «великих родов», хотя нельзя не признать того, что она велась, стимулируемая дурными воспоминаниями государя о времени боярского правления. И все же борьба против родовитого боярства, призванная подорвать политическое могущество отдельных аристократических фамилий, не могла быть сокрушающей, поскольку наталкивалась на местничество, имеющее глубокие и прочные корни в московской жизни той поры. А. А. Зимин, говоря о резком увеличении в конце 40-х — начале 50-х гг. численного состава Боярской Думы как меры по ослаблению политического влияния «нескольких аристократических фамилий», замечал, что «в силу существования системы местничества это мероприятие было половинчатым: в Думу попадали новые лица, но все же из знатнейших боярских и княжеских фамилий»{288}. Трудно поверить, что Сильвестр и Адашев, склонившие Ивана к обновлению и увеличению состава Боярской Думы, не понимали слабой в условиях существования местничества эффективности этих перемен в борьбе против «великих родов» русского боярства. Значит, дело было не столько в аристократических родах, сколько в конкретных лицах, которым доверяли и на которых полагали опираться Сильвестр и Адашев. Отсюда следует, что поп Сильвестр с Алексеем Адашевым могли убеждать Ивана IV произвести решительные перемены в составе Боярской Думы, играя на негативном со времен боярского правления отношении царя к «великим родам» княжеской знати, тогда как на самом деле думали о том, как расширить Думу за счет своих реальных и потенциальных сторонников, чтобы таким образом укрепить собственное политическое положение. И они сумели добиться желаемого, перехитрив молодого, а потому неопытного и доверчивого царя. А. Л. Хорошкевич делит обновленную Думу на две группы — сторонников царя и приверженцев прежнего, боярского правления{289}. Но боярское правление — явление исключительное, возможное при чрезвычайных обстоятельствах: пустующем троне или малолетстве государя. В середине XVI века не было ни того, ни другого, и вопрос о боярском правлении не стоял. Правда, он, было, обозначился во время тяжелой болезни царя в марте 1553 года, но очень скоро по выздоровлении государя потерял реальный смысл. Поэтому правильнее, на наш взгляд, предполагать наличие в измененном составе Думы групп сторонников Ивана IV и приверженцев («советников») политического тандема Сильвестр — Адашев. Доброхоты временщиков, как показали дальнейшие события, господствовали в Боярской Думе. Кстати, нелишне было бы напомнить о том, что схожую картину рисовал также Иван Грозный, рассказывая о том, как Сильвестр и Адашев верховодили в Думе, «припустив» в нее своих людей. Следовательно, царь в данном случае, как и во множестве других, воспроизводил не вымышленные, а действительные факты. Кадровые перемены коснулись не только Боярской Думы, но и других правительственных учреждений. Произошли, в частности, изменения и в персональном составе дворцовых учреждений{290} и приказов{291}. Можно думать, что так было повсюду, во всех властных структурах. Не зря Иван Грозный потом скажет, что Сильвестр и Адашев с «единомысленниками» своими «ни единыя власти оставиша, идеже своя угодники не поставиша»{292}. Одних людей они привлекали на свою сторону членством в Боярской Думе{293} и разными должностями, а других — всякого рода пожалованиями, в том числе земельными («почали причитати к вотчинам и ко градом и к селом; еже деда нашего великого государя уложение, которые вотчины у вас взимати и которым вотчинам еже несть потреба от нас даятися, и те вотчины, ветру подобно раздаяли неподобно, и то деда нашего уложение разрушили, и тем многих людей к себе примирили»){294}. При этом Сильвестр и Адашев старались привлечь к себе «молотчих детей боярских», надеясь на их поддержку{295}. Но это не значит, что временщики отдавали безусловное предпочтение дворянам перед боярами. Стремление Сильвестра и Адашева обновить кадры во всех звеньях государственного управления свидетельствует, на наш взгляд, о том, что для них борьба с боярской аристократией являлась если не вовсе незначимой, то, во всяком случае, второстепенной. Главную задачу они видели в том, чтобы подчинить своему влиянию властные структуры Русского государства. Но разрешить эту задачу можно было лишь при содействии представителей «великих родов». Сильвестр и Адашев, конечно же, пользовались услугами высшей знати, имея в ее рядах немало сторонников. Р. Г. Скрынникову кажется, что перемены в составе правящих верхов, происшедшие после Московского восстания и падения Глинских в июне 1547 года, не имели принципиального значения{296}. «Сколь бы существенными ни были перемены в составе придворных группировок, не они определяли ход и направление преобразований», — утверждает историк{297}. По нашему мнению, это — ложный взгляд, уводящий в сторону от действительного развития событий. Растянувшиеся на некоторое время радикальные изменения в кадровом составе правящей верхушки необходимо рассматривать как некое подобие ползучей революции, направленной на ликвидацию сложившегося в России к середине XVI века церковно-политического строя. Эта направленность обнаруживается в практической деятельности новой власти. * * *В 1549 году истекал срок перемирия между Русью и Польско-Литовским королевством, заключенный семью годами раньше. Князь Д. Ф. Бельский и другие бояре напомнили об этом царю Ивану и просили («били челом») снестись с королевскими панами, чтобы начать переговоры о продлении перемирия. И вот в Москву в январе 1549 года прибыло посольство панов радных в составе витебского воеводы Станислава Кишки, маршалка Яна Камаевского и писаря Глеба Есмана (Есмановича). С русской стороны для ведения переговоров были определены дьяк Бакака Карачаров и подьячий Иван Висковатый — доверенное лицо государя{298}. Переговорный процесс оказался на грани срыва из-за несогласия иноземных послов включить в договорные документы царский титул Ивана IV и упорства русских дипломатов, настаивавших на этом включении. И тут обнаружилось, что у государя нет достаточной власти, чтобы разрешить возникшую проблему самостоятельно. Он вынужден был обратиться к боярам: «Царь и великий князь о том говорил много с бояры, пригоже ли имя его не сполна написати». А. Л. Хорошкевич по этому поводу замечает: «Примечателен сам факт такого обсуждения. Царь, которого в историографии ничтоже сумняшеся называют самодержцем, в решении весьма существенного для него и для судеб страны титулатурного вопроса обращается к мнению бояр»{299}. Действительно, Ивана в этой истории можно назвать самодержцем с большой натяжкой. Видимо, за время, прошедшее с момента июньских потрясений 1547 года, придворная партия Сильвестра и Адашева сумела укрепиться и несколько ограничить власть государя. Однако в итоге консультаций царя с боярами возобладала точка зрения Ивана, настаивающего на включении царского титула в текст перемирия{300}. Похоже, обсуждение вопроса проходило не просто. Царю пришлось долго убеждать бояр, что, по нашему мнению, отражено в словах «царь и великий князь о том говорил много с бояры». Но буквально через считаные дни Дума качнулась в противоположную сторону. И теперь Иван услышал иное: «Тако писати (без царского титула. — И.Ф.) пригоже для покою христьянского и для того, что крымской и казанской в великой недружбе»{301}. Свое мнение бояре мотивировали тем, что «против трех недругов стояти вдруг истомно), что «которые крови христианские прольютца за одно имя, а не за земли, ино от Бога о гресе сумнительно». Отстранив от ведения переговоров неуступчивых Карачарова и Висковатого{302}, проводивших линию Ивана IV, Боярская Дума, несмотря на сопротивление царя, сообщила польско-литовским послам «о своей воле заключить перемирие на очередные пять лет и об отказе Ивана от требования указать в литовском документе царский титул…»{303}. При этом бояре, желая, видимо, подсластить государю пилюлю, поманили его возможностью разрешить вопрос по-своему в будущем: «Вперед с крымским дело поделаетца, а с Казанью государь переведаетца ж, ино вперед с королем за то крепко стояти и дела с ним никакого не делати»{304}. Но Иван IV не поддался на дешевый соблазн и, вопреки заявлению бояр о его отказе внести в литовский документ свой царский титул, твердо стоял на прежней позиции: «И нам ныне которое име Бог дал от нашего прародителя, царя и великого князя Владимера Мономаха, и нам в том своем имени и быти, а без того нам своего имени ни в миру, ни в перемирье быти нельзя»{305}. Что же случилось? Чем объяснить такое колебание Думы? Конечно же, тем, что среди бояр развернулась острая борьба по данному вопросу, в которой верх одержала думская фракция, управляемая Сильвестром и Адашевым. И тут надо заметить, что А. Л. Хорошкевич, изучавшая ход январско-мартовских переговоров 1549 года, пришла к выводу о причастности Сильвестра к составлению боярского приговора 5 февраля 1549 года, отвергшего требование Ивана IV относительно необходимости включения царского титула в «перемирную грамоту»{306}. Основанием для этого вывода ей послужила аргументация позиции Боярской Думы, имеющая нравственный, религиозный характер, запечатленный приговором 5 февраля 1549 года{307}. Этот приговор, считает А. Л. Хорошкевич, «и содержанием, и тоном, и стилистикой резко выделяется среди всех официальных документов эпохи. Ни в предшествующих (XV — первая половина XVI в.), ни в последующих (вторая половина XVI–XVII в.) сообщениях посольских книг подобной аргументации внешнеполитической позиции Боярской думы — нравственной, религиозной (а не прагматической) — не встречается. В связи с этим напрашивается предположение, что к составлению приговора 5 февраля 1549 г. оказалось причастным духовное лицо (или лица), но мыслящее, впрочем, как истинный политик и легко отказывающееся от упреков в богопротивности войны как таковой… Имя одного из тех, кто совмещал политическую деятельность с духовным саном, достаточно хорошо известно. Это благовещенский поп Сильвестр»{308}. Развивая догадку А. Л. Хорошкевич, можно сказать, что причастность Сильвестра к составлению боярского приговора выдает явно сквозящее в нем нежелание воевать с западным соседом. Особенно наглядно оно проявится позднее, в период Ливонской войны, когда Сильвестр и Адашев всеми силами старались воспрепятствовать началу и продолжению войны, прибегая, помимо прочего, к религиозным доводам о греховности пролития христианской крови, будто с той, западной, стороны никто никогда не воевал с русскими, проливая кровь православного люда и разоряя святые храмы. Царя, хорошо знакомого с чувством христианской любви, настолько раздражали нравоучения на сей счет, что однажды он в сердцах воскликнул: «Ныне же вемы, в тех странах несть христиан, разве малейших служителей церковных и сокровенных раб Господних»{309}. Однако Грозный все же понимал определенную правоту своих оппонентов, поскольку ему хорошо было известно, что на русских землях, оказавшихся в составе Литвы и Польши, проживает немалое количество православных христиан, которые, несомненно, пострадали бы, случись война между Русью и Польско-Литовским королевством. Поэтому много позднее, в июне 1570 года, он по поводу заключения перемирия в 1549 году с Литвой и Польшей говорил послам Речи Посполитой: «Мы, как есть государи правые христьянские, жалея о христьянстве и не хотячи видети розлития крови христьянские, будучи в терпении и на себя для христьянства поступаясь, и для бояр своих челобитья, послов есмя брата своего воротити велели и потому с ними перемирье по прежним обычаям зделали»{310}. А. Л. Хорошкевич следующим образом прокомментировала эти слова Ивана Грозного: «Здесь нет и речи о той сложной международной обстановке, в которой находилась Россия в момент заключения перемирия. Зато настойчиво звучит мотив христианской любви, что, конечно, к 1570 г. стало очень актуальным для тирана, утопавшего в крови собственных подданных. Иван IV рассматривал этот акт как уступку боярам… Царь проявлял якобы образец долготерпения («на себя поступаясь»), смирения, платой за которое стали зверские казни 1570 г.»{311}. Сказывается здесь неприязнь к Ивану Грозному, переполняющая А. Л. Хорошкевич. Будь иначе, она вспомнила бы о том, что Грозный являлся глубоко религиозным, православным человеком, для которого чувство смирения и любви к ближнему не являлось чем-то неведомым и чуждым. Во всяком случае, А. Л. Хорошкевич, наверное, припомнила бы, что именно во время переговоров о перемирии с королевскими послами, обнаруживших интригу Сильвестра и дерзкое неповиновение Боярской Думы царю Ивану, в Москве состоялся (конец февраля 1549 года) «Собор примирения», где государь воочию показал свою способность к смирению и проявлению действенной христианской любви{312}. Понятно, почему Грозный говорил о своей уступке боярам. К 1570 году он значительно продвинулся в восстановлении самодержавия и мог теперь позволить себе такие речи. Пора, впрочем, вернуться к Сильвестру «с товарищи». Факты, связанные с январско-мартовскими 1549 года переговорами в Москве, убеждают нас в том, что негативное отношение Сильвестра к войне Русского государства с Западом, сочетающееся с идеей необходимости военных действий Руси против Востока, возникло отнюдь не в связи с подготовкой к Ливонской войне. Оно было свойственно Сильвестру с самого начала правительственной деятельности в качестве временщика и отражало, судя по всему, его положительное отношение к странам Запада как родственным Руси по вере и более привлекательным в сфере политического устройства. Царь же Иван придерживался совсем другого взгляда, полагая, что западные народы, пребывающие в «папежской» схизме и зараженные «лютеровой прелестью», отошли от истинной Христовой веры, и только русский народ во главе со своим богоизбранным государем является носителем и хранителем ее. Отсюда расхождения царя с попом Сильвестром в вопросах внешней политики. Это расхождение отмечает и А. Л. Хорошкевич. «Теперь, — пишет она, — можно сказать, что взгляд Сильвестра на внешнюю политику отличался от царского. Он пренебрегал престижем и достоинством государя, все помыслы которого были направлены на самоутверждение в качестве царя, и при этом удачно играл на религиозных чувствах членов Думы, предостерегая их от опасности впасть в грех в случае борьбы лишь за «имя». Это с пониманием было воспринято боярами, вовсе не заинтересованными в изменении баланса сил, определявших международные отношения России, и понимавшими невозможность борьбы с несколькими противниками»{313}. Надо заметить, что не все положения А. Л. Хорошкевич для нас одинаково убедительны. Не вызывают возражений ее утверждения о различии взглядов на внешнюю политику Сильвестра и царя Ивана, о пренебрежительном отношении Сильвестра к «престижу и достоинству государя». Но нельзя согласиться с ней в том, что помыслы Ивана были направлены только «на самоутверждение в качестве царя» и борьбу лишь за царское «имя». Это поверхностный и упрощенный взгляд, восходящий к Сильвестру, интриговавшему в Думе. На самом же деле все обстояло значительно сложнее. Нельзя забывать, что к моменту приезда литовских послов в Москву прошло всего два года, как в русской столице произошло событие величайшего государственного значения — венчание Ивана IV на царство. Непосредственное участие в этом событии принимал митрополит Макарий, бывший одним из инициаторов провозглашения Ивана царем. Именно он совершил обряд венчания. Венчание на царство, таким образом, принимало церковно-политический характер. Но это не все. Обряд венчания включал элемент Помазания на царство — некое подобие Таинству Помазания. В итоге венчание на царство превращалось в религиозно-церковно-государственный акт, завершающий этап становления самодержавия на Руси и начинающий новую эпоху в истории Российского государства. Но вот являются послы из страны, погрязшей в схизме, послы от правителя, божественное происхождение власти которого под большим вопросом. И эти послы требуют от богоизбранного государя отказаться от царского титула. Что это означало? В принципе это означало признание недействительности царского венчания с вытекающим отсюда пренебрежением к православной вере и церкви, а также умалением чести русского государя и митрополита как внутри Святорусского царства, так и вне его. Требование послов отказаться от титула царя при составлении договора о перемирии ставило вообще под сомнение царское достоинство Ивана IV и тем поощряло московских противников самодержавия к дальнейшей крамоле. Вот почему государь долго говорил в Думе, убеждая бояр не отступать от недавно провозглашенного русского царства. Казалось, бояре поняли всю ответственность решения, которое им предстояло принять, и согласились с доводами царя, но затем перевернулись, поддержав «непризнание царского титула со стороны Сигизмунда II Августа»{314}, т. е. став фактически на сторону иноземного властителя. Это походило на коллективную измену бояр царю Ивану. Сильвестр же, извратив суть дела, подал все происходившее в Думе как тщеславную борьбу Ивана «за имя», а современные историки бездумно приняли поповскую версию. Сильвестр к этому времени обладал уже столь сильным влиянием и властью, что сумел переубедить Думу и склонить ее принять решение о необходимости писать в договоре о перемирии с Великим княжеством Литовским государево имя «несполна», опустив царский титул Ивана. А. Л. Хорошкевич в связи с этим пишет: «Таким образом, бояре отказались поддержать собственного государя в том вопросе, который задевал его честь. И это несмотря на то, что в составе Боярской думы к этому времени оставалось лишь четверо получивших звание бояр до 1547 г., а 18 человек… стали боярами после восстания 1547 г. Кроме того, к этому же времени относится возвышение А. Ф. Адашева, который был близок к царю. Казалось бы, все новые члены думы должны были поддерживать Ивана IV в его начинаниях, в том числе и внешнеполитических, однако этого не случилось. Основным принципом внешнеполитической позиции боярства было стремление избежать войны на два или даже на три фронта»{315}. Думается, здесь не все так очевидно, как представляется А. Л. Хорошкевич. И потому тут есть необходимость кое в чем разобраться. Бояре, за которыми стоял Сильвестр и его вдохновители, готовы были воевать с двумя недругами — ханами крымским и казанским. Но драться с тремя врагами (крымским ханом, казанским ханом и польско-литовским королем) они не хотели, ибо стоять против трех неприятелей одновременно им представлялось «истомно». Вопрос, однако, в том, насколько тогда реальной являлась война с польско-литовским соседом. А. Л. Хорошкевич со ссылкой на историка Я. Ясновского говорит: «Невольные союзники — литовский великий князь и король польский и русские бояре — были единодушны… в нежелании воевать друг с другом. Объясняя позицию литовской стороны в этом вопросе, Я. Ясновский ссылается на горький опыт так называемой Тридцатилетней войны (то есть серии войн конца XV — начала XVI вв. между княжествами всея Руси и Литовским), приведшей не только к потере восточных земель Литовского княжества, но и к его общему ослаблению. Нежелание Сигизмунда Августа воевать с Россией объясняется сложностью внутриполитического положения в объединенных личной унией государствах (Литва и Польша), долгой неопределенностью в отношении второго брака молодого короля на Барбаре Радзивилл со стороны польской и литовской знати, набегами крымских татар, отсутствием денег в королевской казне…, трудностями сбора серебщизны для обороны территории панств»{316}. Не думаем, чтобы многое из того, о чем пишет А. Л. Хорошкевич, не было известно московским боярам и в особенности — Сильвестру, осведомленному, надо полагать, в такого рода вещах. К тому же сами литовские послы не лучшим образом сыграли свою роль, выдав собственную тревогу (если не страх) в связи с возможностью войны Руси с Литвой и Польшей. Правда, они не раз угрожали покинуть Москву в том случае, если русские не откажутся от требования внести в составляемый договор царский титул Ивана. Но послы блефовали, а потому легко откликались на просьбу бояр повременить и не уезжать домой. Весьма показательно, что они, соглашаясь остаться, говорили боярам «с великим умиленьем», чтобы те били челом царю Ивану о непролитии христианской крови{317}. Когда же русские выражали готовность их отпустить восвояси, «Кишка и Камаевский сами потребовали новых переговоров»{318}. Литовско-польская сторона, следовательно, воевать на тот момент с Россией явно не желала. Все это склоняет нас к мысли, что идея о войне на три фронта, изобретенная, по нашему мнению, Сильвестром и внушенная им боярам в качестве аргумента в споре с государем, служила завесой подлинных причин, побуждавших его действовать в интересах иностранного государства. Эти причины были внешнего и внутреннего порядка. Относительно внешних причин надо сказать, что Сильвестр в силу своих политических и религиозных взглядов симпатизировал Великому княжеству Литовскому и поэтому являлся противником войны с западным соседом Руси. Что касается внутренних причин, то они были связаны с отрицательным отношением Сильвестра к русскому «самодержавству», которое он вместе со своими единомышленниками стремился ограничить. Такова подоплека рассуждений в Думе об опасности войны на три фронта, не разгаданная, к сожалению, А. Л. Хорошкевич. По сути, перед нами не столько позиция Боярской Думы, сколько политический умысел Сильвестра и его советников, скрывавших свои действительные планы. «Бояре отказались поддерживать собственного государя в том вопросе, который больно задевал его честь», — заявляет А.Л.Хорошкевич. Это правильно, однако совершенно недостаточно. Боярская Дума задевала не только честь государя, но также международный престиж Русского государства, достоинство митрополита, святость и непререкаемость православной веры и церкви, задевала потому, что игнорировала акт венчания великого князя Ивана на царство, где концентрировались все названные моменты. Непонятно, почему А. Л. Хорошкевич кажется, что «новые члены Думы должны были поддерживать Ивана IV в его начинаниях». Как раз наоборот: бояре, которых Сильвестр и Адашев, по лексике Ивана Грозного, «припустили» в Думу, должны были противодействовать самодержавию царя Ивана, осуществляя реформаторскую политику Избранной Рады. И они в данном случае сделали то, что от них ожидали Сильвестр, Адашев и Ко, поступив самоуправно, вопреки воле самодержца. Согласно А. Л. Хорошкевич, «в 1549 г. в отношениях царя и бояр обозначилась первая трещина…»{319}. Думается, что в плане субъективном до «трещины» в отношениях государя с боярами дело пока не дошло, хотя некоторая настороженность у Ивана к своим «друзьям» (Сильвестру и Адашеву) могла все же возникнуть. Однако если рассматривать поведение Боярской Думы с точки зрения объективной, то надо, очевидно, признать: перед нами первое после венчания на царство Ивана IV организованное выступление противников русского самодержавия. Чем ответил своим недругам Иван IV? Он взошел на Лобное место и призвал всех подданных к христианскому примирению, всепрощению и любви. Созван был «Собор примирения», принципы которого государь старался воплотить в жизнь. Сильвестр же, Адашев и другие восприняли миролюбие царя и его любовь к ближнему как проявление слабости. И они поспешили закрепить свой успех. С этой целью ими (формально, разумеется, с «согласия» царя) производится новое расширение состава Думы. По наблюдениям А. И. Филюшкина, в 1549 году «происходит второй рывок в пополнении состава Боярской думы, по масштабам сравнимый с 1547 г.»{320}. В 1549 году, как и в 1547-м, имели место кадровые изменения и в других правящих учреждениях{321}. «В результате кадровых перемен 1547–1549 гг., — говорит А. И. Филюшкин, — в высших правительственных кругах был в основном сформирован тот состав аппарата, который и начал первый приступ к реформаторству 1550-х гг.»{322}. Иными словами, Сильвестр, Адашев и их сторонники создали кадровую основу для осуществления своих планов. Впрочем, И. Граля, замечая, что «1549 г. был богат пожалованиями в бояре в невиданном до сих пор масштабе», говорит: «Дождь пожалований, пролившийся на особ, близких ко двору, способствовал как усилению влияния царской фракции в думе, так и ограничению самостоятельной политической роли думы»{323}. В действительности все было наоборот: расширение состава Боярской Думы способствовало упрочению в ней позиций Сильвестра и Адашева, а также усилению ее самостоятельной политической роли. Судебник 1550 года служит, кажется, тому подтверждением. * * *В этом Судебнике наше внимание привлекает ст. 98, гласящая: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, а как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати»{324}. В исторической науке эта статья породила многолетние споры, вращавшиеся вокруг вопроса о политическом статусе Боярской Думы в России середины XVI века. Еще В. О. Ключевский, имея в виду данную статью Судебника 1550 года, утверждал: «В XVI в. было формально утверждено политическое значение думы: боярский приговор был признан необходимым моментом законодательства, через который должен был проходить каждый новый закон, прибавлявшийся к Судебнику»{325}. Н. А. Рожков, рассматривая период с конца XV века до половины XVI столетия как «первый, зачаточный период развития самодержавной власти русских государей», пришел к выводу о том, что «этот период закончился временным торжеством боярской олигархии, выразившимся не только в том определяющем влиянии, какое принадлежало «избранной раде» до шестидесятых годов XVI века, но и в юридической норме, внесенной в Судебник 1550 года, по которому новые законы должны были устанавливаться «с государева указа и со всех бояр приговора»{326}. По Н. А. Рожкову, следовательно, и Боярская Дума, и Избранная Рада — органы боярской олигархии, взявшей в середине XVI века верх над самодержавной властью, что было юридически оформлено Судебником 1550 года. Согласно В. И. Сергеевичу, «организованный Сильвестром и Адашевым совет похитил царскую власть, царь был в нем только председателем, советники решали все по своему усмотрению, мнения царя оспаривались и отвергались; должности, чины и награды раздавались советом. Это говорит царь, это подтверждает и противник его, кн. Курбский. Но избранная рада не ограничилась одной практикой, ей удалось оформить свои притязания и провести в Судебник ограничения царской власти». В. И. Сергеевич ссылается на ст. 98 Судебника 1550 года, предлагая следующий ее комментарий: «Для дополнения Судебника новыми законодательными определениями требуется приговор «всех бояр». Это несомненное ограничение царской власти и новость: царь только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов. Жалобы Грозного были совершенно основательны. Требование Судебника о приговоре «всех бояр» относится к будущему и, конечно, никогда не было приведено в исполнение; в настоящее же время царя ограничивал не совет всех бояр, а только некоторых». В. И. Сергеевич задается вопросом: «Из кого же состоял этот совет, продиктовавший ограничение царской власти?» И отвечает: «Судя по тому, что Курбский называет его «избранной радой», надо думать, что в состав его входили не все думные люди, а только некоторые из них, избранные. Во главе этого совета стояли поп Сильвестр и окольничий Алексей Адашев»{327}. Построения В. И. Сергеевича в довольно мягкой форме оспорил С. Ф. Платонов, который по поводу утверждения ученого о том, что Сильвестр с «угодниками» провел в Судебник ограничение царской власти, замечал: «Осторожнее на этом не настаивать, но возможно и необходимо признать, что для самого Грозного боярская политика представилась самым решительным покушением на его власть»{328}. Более энергично и определенно с критикой взглядов В. И. Сергеевича выступил М. Ф. Владимирский-Буданов. Он исходил из убеждения, что Боярская Дума «есть учреждение, не отделимое от царской власти; поэтому, подобно правам этой последней, права Думы не были определены законом, а держались как факт бытовой, на обычном праве»{329}. По мнению исследователя, ко времени Сильвестра и Адашева «относятся самые мудрые меры ограничений боярского произвола», а отнюдь не самодержавной власти{330}. М. Ф. Владимирский-Буданов приводил факты, которые, как ему казалось, вели к «неизбежности совсем отказаться от идеи об ограничении царской власти Судебником»{331}. Критические замечания последовали и со стороны М. А. Дьяконова: «Ограничение царской власти, бесспорно, крупный исторический факт, который должен быть подготовлен предшествующими историческими условиями. Но каковы же эти условия? Проф. Сергеевич не приводит никаких новых указаний и ограничивается лишь общеизвестными выдержками из переписки Курбского с Грозным в довольно обычном ее освещении. Немногие его замечания могут показаться и не вполне последовательными»{332}. Отвечая на вопрос о том, что же означает формула Судебника 1550 года «с государева докладу и со всех бояр приговору», М. А. Дьяконов утверждал: «Она означает то же самое, что и другая формула — «государь указал и бояре приговорили», т. е. совместное решение вопроса государем и всеми наличными членами боярской думы, и ничего более»{333}. Несмотря на эту критику, идеи В. И. Сергеевича не заглохли. В работе М. Н. Покровского «Боярство и боярская дума» они приобрели еще более радикальный характер, Статью 98 царского Судебника 1550 года М. Н. Покровский именовал «феодальной конституцией середины XVI в.»{334}. Главный смысл ее заключался в том, что «московский великий князь, только что ставший царем, не мог издавать никаких законов без согласия боярской думы». М. Н. Покровский, подобно Н. А. Рожкову, в статье 98 видел «высший момент торжества феодальной знати»{335}. Когда в конце 30-х гг. XX века историческая концепция М. Н. Покровского была низвергнута с научного пьедестала, подверглись критике и эти его представления о Боярской Думе середины XVI века. К. В. Базилевич, принимавший участие в борьбе против, как тогда выражались, «антиленинских, антиисторических взглядов М. Н. Покровского», писал: «Еще в начале XVI в. Боярская дума не могла помешать великому князю решать важнейшие дела «сам третей у постели». Было бы ошибочным рассматривать законодательные функции Боярской думы как ограничение законодательных прав царской власти. Появление ст. 98 Судебника 1550 г. не помешало Ивану IV действовать в ближайшие годы после принятия этого Судебника независимо от боярского приговора в важнейших вопросах внутренней политики»{336}. И. И. Смирнов поставил М. Н. Покровского в один ряд с В. О. Ключевским и В. И. Сергеевичем, поскольку все они «единодушны в понимании содержания ст. 98 и оценке ее политического значения как закона, утверждающего господствующую роль Боярской думы, боярства в верховных органах власти»{337}. Одно из важнейших обстоятельств, препятствующих такому пониманию, И. И. Смирнов усматривал в том, «если ст. 98 Судебника 1550 г. знаменует собой «момент высшего торжества феодальной знати», то очевидно, что Судебник 1550 г. не может являться антибоярским кодексом, направленным на ограничение роли боярства в управлении и имеющим целью укрепление аппарата власти и управления централизованным государством»{338}. Более обоснованной И. И. Смирнову показалась точка зрения М. Ф. Владимирского-Буданова и М. А. Дьяконова: «Аргументация, развитая М. Ф. Владимирским-Будановым и М. А. Дьяконовым, с достаточной убедительностью доказывает ошибочность трактовки ст. 98 Судебника 1550 г. как конституционного закона, внесшего коренное изменение в характер государственной власти Русского государства. Основной их вывод, — что ст. 98 говорит об обычном порядке, в каком происходило издание новых законов в Русском государстве, — является совершенно верным и должен быть принят»{339}. И. И. Смирнова, правда, не удовлетворила позитивная часть построений М. Ф. Владимирского-Буданова и М. А. Дьяконова{340}. Что предложил он взамен? Историк говорит: «Боярская дума во второй половине XVI в. представляла собой одно из звеньев в государственном аппарате Русского централизованного государства, и хотя аристократический состав Думы давал ей возможность занимать позицию защиты княжеско-боярских интересов, но как учреждение Дума являлась царской Думой, собранием советников царя, к выяснению мнений которых по тем или иным вопросам обращался царь, когда он считал это нужным. Поэтому видеть в обсуждении закона в Боярской думе нечто похожее на обсуждение закона в парламенте — значит совершенно произвольно переносить на Боярскую думу Русского самодержавного государства черты законодательных учреждений конституционного государства. По тем же самым основаниям нельзя видеть в обсуждении законов в Боярской думе ограничения царской власти»{341}. Что касается ст. 98 Судебника 1550 года, то она «не дает никаких оснований для вывода об ограничении Судебником власти царя. Подобная интерпретация ст. 98 не имеет под собой объективных данных и историографически может быть лишь истолкована как одно из выражений либеральной идеологии историков направления В. О. Ключевского»{342}. Приступая к комментированию ст. 98 Судебника 1550 года, Б. А. Романов замечал: «Эта статья, смысл которой с первого взгляда представляется совершенно ясным, породила, однако, целый историографический спор, взявший у его участников много труда на дополнительные далеко идущие исследования»{343}. Б. А. Романов полагал, что повод к данному спору подала «писательская манера составителя Судебника»{344}, которая прежде всего отразилась в формуле «с государева докладу и со всех бояр приговору». Исследователь не исключал в будущем возможности установления в этой «литой формулировке» некой толики словотворчества составителя. Подобные признания свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что Б. А. Романов, понимал определенное несоответствие содержания упомянутой формулы ст. 98 тому ее истолкованию в историографии, с которым ему пришлось согласиться. А согласился он с толкованием И. И. Смирнова, чье исследование, как ему казалось, «ликвидирует спор, возникший вокруг ст. 98 по вопросу, к которому она сама по себе никакого отношения не имеет, и отвечает именно на тот вопрос, который поставлен в ст. 98 самим ее автором»{345}. Б. А. Романов несколько поспешил с заявлением о том, будто исследование И. И. Смирнова положило конец спору по поводу ст. 98 царского Судебника 1550 года. Точно такую же поспешность проявил и В. М. Панеях, когда утверждал, будто «исследованиями И. И. Смирнова и Б. А. Романова спор (по ст. 98 Судебника. — И.Ф.) можно считать исчерпанным: участие бояр в законодательном процессе не дает оснований «говорить о дуализме законодательных органов Русского государства», а только о том, что к собранию советников царь обращался для выяснения их мнения «по тем или другим вопросам <…>, когда <…> считал это нужным»{346}. Согласно В. М. Панеяху, «думные чины, участвовавшие в подготовке законов, не могли ограничить и не ограничивали самодержавную власть царя»{347}. По словам В. М. Панеяха, ст. 98, «интерпретация которой стала предметом многолетних дискуссий, не внесла принципиальных изменений, а только кодифицировала сложившуюся практику…»{348}. Вопреки заявлениям В. М. Панеяха, историографическое направление, восходящее к В. О. Ключевскому и В. И. Сергеевичу, продолжало развиваться. С. В. Бахрушин в книге об Иване Грозном, опубликованной в 1942 году и переизданной в 1945 году, замечал, что Избранная Рада, внушавшая Ивану IV чувство послушания своим мудрым советникам, «внесла даже в «Судебник» особую статью, согласно которой все добавления к нему делаются царем лишь «по приговору всех бояр», т. е. Боярской думы»{349}. В связи с этим законодательством Избранной Рады С. В. Бахрушин говорит о «боярской теории двоевластия царя и его советников»{350}. А. Г. Поляк в историко-правовом обзоре к Судебнику 1550 года, изданному в серии «Памятники русского права», писал: «Судебник вводит постановление об издании законов «с государева докладу и всех бояр приговору», то есть указывает на необходимость санкционирования закона представителями господствующего класса», а также «на необходимость участия в выработке закона представителей господствующего класса»{351}. «Большинство новых законов, — говорит А. Г. Поляк, — принималось царем совместно с боярской думой. Это показывает, что хотя норма ст. 98 о совместном законодательствовании царя и боярской думы и не была безусловно обязательной для царя, но весьма возможно, что у составителей Судебника было стремление сделать ее таковой»{352}. А. А. Зимин в соответствии со своей концепцией политики компромисса Избранной Рады замечал: «Чрезвычайно интересна статья 98 Судебника, устанавливавшая, что законы должны были приниматься («вершатца») «с государева докладу и со всех бояр приговору». Двойственная природа Судебника в этой формуле отразилась как нельзя лучше: дела должны были сначала докладываться государю, после чего принимался приговор при участии Боярской думы. Судебник и в этой заключительной статье отражает компромисс между растущим дворянством, сторонником укрепления царского самодержавия, и феодальной знатью, цеплявшейся за права и прерогативы Боярской думы»{353}. Позднейшие комментаторы подчеркивают новизну ст. 98 Судебника. Так, С. И. Штамм пишет: «Впервые в истории русского законодательства определяется порядок издания и опубликования новых законов. При отсутствии в законе указания на порядок решения того или иного дела оно вершится вышестоящей инстанцией — Боярской Думой. Такой прецедент становится по существу новой законодательной нормой»{354}. Очень важной и необычной представлялась ст. 98 А. Г. Кузьмину: «Поистине историческое значение имеет статья 98 Судебника, уникальная во всем российском законодательстве. Статья предусматривает, что «которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатца, и те дела в сем Судебнике приписывати», смысл этой статьи позднее прокомментировал сам Иван Грозный, заодно разрешив спор историков: выполняли ли советники его поручения, или он озвучивал подготовленные ими тексты»{355}. Всем ходом своих рассуждений А. Г. Кузьмин склоняется к последнему варианту, принимая, таким образом, точку зрения В. О. Ключевского, В. И. Сергеевича и Н. А. Рожкова. А. Л. Янов в статье 98 Судебника Ивана IV обнаружил «попытку Правительства компромисса ограничить в 1550-е годы власть царя»{356}. Историк рассматривает ее как «конституционное ограничение» царской власти, возрождая в некотором роде идеи М. Н. Покровского. Свои соображения насчет статьи 98 Судебника 1550 года высказала А. Л. Хорошкевич. По ее мнению, «статья 98 закрепила верховную власть Думы: впредь законы и установления должны были приниматься, а дела «вершитца» «з государева докладу и со всех бояр приговору». Избранная рада этой статьей судебника достойно увенчала свою деятельность, несколько изменив роли царя и Думы»{357}. Судебник, утверждает А. Л. Хорошкевич, «отводил царю лишь совещательную роль»{358}. Более того, в Судебнике, по словам А. Л. Хорошкевич., «предусматривалась возможность «приговора» одних только бояр. В случае вызова на суд наместника, боярина или сына боярского «запись велят дати бояре, приговоря вместе» (ст. 75). Видимо, «заслуга» в подобном изменении баланса внутриполитических сил принадлежала ближайшим сподвижникам царя — членам Избранной рады — А. Ф. Адашеву и дьяку И. М. Висковатому»{359}. Согласно Судебнику 1550 года, полагает А. Л. Хорошкевич, «изменилось соотношение сил царя и бояр»{360}. Она подчеркивает, что в толковании ст. 98 Судебника солидаризуется с мнением В. О. Ключевского, В. И. Сергеевича и М. Н. Покровского{361}. Таковы суждения отечественных историков о статье 98 царского Судебника 1550 года. Длительные расхождения и споры в исторической литературе по данному вопросу свидетельствуют о его сложности, порожденной неоднозначностью сведений, содержащихся в источнике. Поэтому здесь могут быть только догадки, более или менее обоснованные, различающиеся большей или меньшей степенью убедительности. Для нас наиболее вероятной является версия В.И.Сергеевича. Почему? По ряду обстоятельств. Необходимо сразу же отметить: статья 98 — новая{362}, отсутствующая в великокняжеском Судебнике 1497 года. Это, по-видимому, означает, что появление ее в законодательном кодексе (Судебнике 1550 года) обусловлено историческими реалиями, приобретшими особую общественную значимость и политическую актуальность между 1497–1550 годами, т. е. между временем издания великокняжеского и царского Судебников. К разряду этих реалий в первую очередь следует отнести самодержавную власть московских государей, сложившуюся фактически и юридически в сравнительно короткий срок (конец XV — середина XVI в.). Отношениям нового института самодержавной власти с традиционным властным учреждением, олицетворяемым Боярской Думой, и посвящена статья 98 Судебника 1550 года. Поэтому едва ли правильным является утверждение, будто данная статья «не внесла принципиальных изменений, а только кодифицировала сложившуюся практику»{363}. Вернее было бы сказать, что она и «внесла» и «кодифицировала». Однако новации в ней — все-таки главное. Ст. 98 представляла собой попытку законодательно оформить отношения самодержца с Боярской Думой в сфере правотворчества, определить их роль и место в законотворчестве. Нетрудно догадаться, какие «преференции» должна была получить Дума, если учесть, что составление Судебника 1550 года совпало со временем могущества Сильвестра, Адашева и возглавляемой ими Избранной Рады. Как и следовало ожидать, в статье 98 реформаторы попытались ограничить самодержавную власть в пользу Думы. И здесь В.И.Сергеевич, на наш взгляд, прав. Ведь что означает обязательное участие Боярской Думы в законодательстве наряду с государем, участие, которое самодержец не в силах отменить? Это означает отсутствие полноты самодержавной власти, ее разделение между Боярской Думой и царем, утратившим право править государством самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. Здесь тот самый случай, о котором Иван Грозный говорил: «Како же и самодержец наречется, аще не сам строит?» Но это еще не все. Статья 98 сформулирована так, что допускает возможность двойственного толкования содержащегося в ней текста, т. е. составлена таким образом, что заключает в себе некоторую двусмысленность, выгодную Боярской Думе, но не государю. Видимо, Б.А.Романов имел в виду данную особенность ст. 98, когда говорил о словотворчестве составителя Судебника 1550 года. Трудно, однако, поверить, что тот внес в Судебник пусть даже «некую толику» личного творчества или в неудачных выражениях записал текст интересующей нас сейчас статьи. Это полностью исключено, поскольку запись законов осуществляли высококлассные, вышколенные специалисты. Статья 98, надо полагать, задумывалась именно в том виде, в каком записана в Судебнике 1550 года. И тут, конечно, центральной является формула с государева докладу и со всех бояр приговору. Может показаться, что смысл названной формулы прост и ясен. Но это только кажется. Обычно за словосочетанием с государева докладу исследователи видят доклад государю по тому или иному делу, требующему законодательного приговора Боярской Думы. Так, А. А. Зимин в качестве иллюстрации подобной практики привел доклад князя И. А. Булгакова царю о татебных делах: «Лета 7064-го (1555) ноября в 26 день докладывал царя государя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии боярин князь Иван Андреевич Булгаков… И ноября в 28 день сего докладу царь государь князь великий Иван Васильевич всеа Русии слушав, и велел указ учинити»{364}. Но языковое построение фразы с государева докладу и со всех бояр приговору вершается позволяет сделать два, по крайней мере, предположения. Первое предположение заключается в том, что за этой фразой скрывалось единое действие, не разорванное во времени и состоящее из двух актов — государева доклада и приговора всех бояр. Второе предположение касается формулы с государева докладу и состоит в толковании этой формулы не как доклада государю, а как доклада государя. Если последнее предположение верно, то получается, что статья 98, устанавливая порядок дополнения Судебника 1550 года новыми законами, предусматривает совместное заседание царя и Боярской Думы, на котором государь (или кто-нибудь из приказных людей от его имени) произносит доклад по вопросу об издании нового закона, а Дума своим приговором утверждает его, и затем производится соответствующая дополнительная запись в Судебнике. Чтобы понять подлинный смысл законодательной процедуры, вводимой ст. 98 Судебника 1550 года, надо вспомнить значение термина доклад, принятое в то время. В академическом Словаре русского языка XI–XVII вв. приведены три значения слова доклад: 1) Изложение дела вышестоящему лицу для решения; 2) Разбирательство судебного дела в вышестоящей инстанции; 3) Официальное утверждение (сделки, акта, документа){365}. Как видим, термин доклад предполагал обращение докладчика к вышестоящей инстанции. Получается, таким образом, что в статье 98 Судебника царь был поставлен ниже Боярской Думы, которая, являясь теперь высшим органом власти, принимала окончательное решение «с государева докладу» в важнейшей и определяющей области государственной жизни — законодательстве. Спрашивается, как могло такое случиться? Как удалось вписать в Судебник положение, производящее переворот во властных структурах Русского государства? Удалось все это благодаря огромному политическому влиянию реформаторов-законотворцев, а также их юридической изобретательности и хитрости/Вступление закона в силу они отнесли на будущее{366}, что в значительной мере сглаживало остроту «законодательной инициативы», исходящей от них. Аналогичное впечатление должны были произвести используемые в ст. 98 традиционные выражения и формулы. Вместе с тем закон ими был сформулирован так, что давал возможность, как уже отмечалось нами выше, двоякого его толкования. Достигалось это посредством применения привычных понятий, наполняемых новым содержанием. Конечный же результат зависел от реального соотношения сил. Реформаторы круга Сильвестра и Адашева надеялись, судя по всему, на полную узурпацию власти. Но напрасно. Самодержец все-таки удержал власть в своих руках. Поэтому, надо думать, ст. 98 Судебника 1550 года никогда не была приведена в исполнение{367}. Характерна, однако, попытка узаконить главенство Боярской Думы в системе власти на Руси середины XVI века, попытка придать Думе статус, схожий со статусом Рады соседнего Великого княжества Литовского, стоящей над королем и обладающей реальной властью{368}. Для Русского государства, теснимого врагами со всех сторон, такой порядок был не только неприемлем, но и губителен, поскольку разрушал общественную дисциплину и ответственность, особенно в высшем сословии княжеско-боярской знати, в силу исторических обстоятельств поставленной в положение правящей элиты страны. Это хорошо видно на примере поведения князя Андрея Курбского в Литве, куда он бежал, изменив своему природному государю. Оно характеризует амбиции и замашки русской знати, которую пришлось вразумлять Ивану Грозному. Будучи в Литве, Курбский отличался властолюбием и непокорством королю. Так, получив королевский приказ, повелевающий ему дать удовлетворение одному тамошнему магнату за разбой и грабеж своих крестьян в Смедыне, он в присутствии свидетелей вызывающе ответил: «Я-де у кгрунт Смедынский уступоватися не кажу; але своего кгрунту, который маю з'ласки Божое господарское, боронити велю. А естли ся будут Смедынцы у кгрунт мой Вижовский вступовать, в тые острова, которые Смедынцы своими быть менят, тогды кажу имать их и вешать»{369}. Суд и расправу Курбский и его люди творили самовольно. Случилось так, что урядник нашего князя Иван Калымет по жалобе крещеного еврея Лаврина на бегство его должника Агрона Натановича велел схватить жену бежавшего и двух за него поручителей, Юска Шмойловича и Авраама Яковича, посадить в яму с водой, кишащую пиявками, а дома их и лавки опечатать. Соплеменники бросились спасать своих, обратившись к местному подстаросте с просьбой послать к Калымету и потребовать от него ответа, по какой причине он, в нарушение прав и вольностей, дарованных королем, велел схватить ни в чем не повинных евреев и посадить их в жестокое заключение. И вот поветовый возный, окруженный выборными людьми, приехал в Ковель к замку князя, но уперся в закрытые ворота. Привратник объявил прибывшим, что «пан Калымет вас в замок пустити не казал». Долго стоял представитель власти у замковых ворот. Он слышал несущиеся из-за стены вопли несчастных, посаженных в жуткую яму. «Терпим везенье и мордованье окрутное бесправие и безвинне», — кричали те. Наконец Калымет соблаговолил выйти. Его спросили: «За что поймал и посадил в заключенье евреев ковельских?» «За поручительство по Агрону Натановичу», — невозмутимо ответил княжеский урядник и внушительно добавил: «Чи невольно подданных своих не тылько везеньем, або чим иншим, але и горлом карати? А я што чиню, теды за росказаньем пана моего, его милости князя Курбского: бо пан мой, князь Курбский, маючи тое именье Ковельское и подданных в моцы своей, волен карати, як хочет. А король его милость и нихто инший до того ничего не мает. А иж ся Жидове королем сзывают, нехай же их король оборонит; а я их з'везенья не пущу, ниж пять сот коп грошей Лавринови». Так безрезультатно окончились первые хлопоты о заключенных. На следующий день приехал в Ковель по своим делам урядник Каширский. Сердце сжалось у него, когда он увидел страдальцев в яме. Урядник просил Калымета о милосердии. И тот, казалось, сжалился. «Он за просьбою нашею, — доносил потом сострадатель, — их при нас выпустил, которых мы видели есмо кровавых, што пьявки смоктали (сосали)». Но едва каширский урядник уехал, люди вновь оказались по приказу Калымета в яме. Дошло дело до короля, который выдал декрет об освобождении арестованных. Но Калымет проигнорировал королевский декрет. Тогда его специальным королевским мандатом вызвали в суд. Он мандат не взял, велев прочитать документ перед собой, а затем сказал нарочному: «Для чего до мене мандат носишь королевский? Бо я королю не служу, служу я князю, пану своему». Лишь через полтора месяца Курбский по ходатайству великого канцлера коронного и пана великого маршалка распорядился освободить невинных евреев и отпечатать их дворы и лавки{370}. Эти и другие эпизоды жизни Курбского{371}, именуемого некоторыми новейшими историками «князем-диссидентом», «первым русским диссидентом»{372}, показывают, о каком «правовом обществе» мечтали его сподвижники на Руси, утверждению какого «правового порядка» способствовала ст. 98 Судебника 1550 года. Понимали ли это соратники Грозного? Данный вопрос обращает нас к одному безымянному посланию, адресованному царю Ивану. * * *Анонимное «Послание царю Ивану Васильевичу», дошедшее до нас в так называемом Сильвестровском сборнике (т. е. в книге, принадлежавшей предположительно некогда попу Сильвестру), вызывает у исследователей большие затруднения как по части установления автора этого сочинения, так и относительно времени его написания. Высказывались мнения о принадлежности Послания перу митрополита Даниила{373}, епископа Вассиана Топоркова{374}, старца Артемия{375}, митрополита Макария{376}, попа Сильвестра{377} и, наконец, либо митрополита Макария, либо попа Сильвестра{378}. Нет уверенности и в том, когда было составлено Послание царю Ивану Васильевичу: одни исследователи этого письма называют 1547 год{379}, другие — 1550 (1551) год{380} или год 1552-й{381}, а третьи относят его составление к временам Опричнины{382}. Материя, как видим, темная. Впрочем, количественное сопоставление исследователей, изучавших Послание, показывает, что их большая часть связывает авторство памятника с именем Сильвестра. Но это не означает, что они на сто процентов правы, поскольку научные проблемы не разрешаются посредством голосования. Мнение большинства, насколько известно, не является в науке критерием истины. Авторская атрибуция, проделанная находящимся в меньшинстве И. И. Смирновым, нам кажется более предпочтительной, несмотря на то, что такой авторитетный ученый, как А. А. Зимин, решительно отверг ее. «Крайне неудачным, — писал он, — является предположение И. И. Смирнова о том, что Послание написано митрополитом Макарием»{383}. Какие доводы, вызвавшие несогласие А. А. Зимина, привел И. И. Смирнов в пользу своего предположения? Он пишет: «Против авторства Сильвестра прежде всего говорит то, что мало вероятным является, чтобы Сильвестр, претендовавший (вместе с Алексеем Адашевым) на роль ближайшего советника царя, мог главный огонь в послании царю направить именно против «советников» из числа «ближних людей», причем даже без противопоставления, скажем, неразумным советникам советников «мудрых», «добрых» и т. п. Второе соображение, говорящее против того, что автором послания царю был Сильвестр, является тон послания, резко контрастирующий своей авторитарностью и независимостью в обращениях к царю тем риторическим формам, которые употребляет Сильвестр, например, в послании кн. Горбатому-Шуйскому («Благовещенский поп, последняя нищета, грешный, неключимый, непотребный раб Сильвестришко» и т. д.)»{384}. А. А. Зимин, возражая И. И. Смирнову, утверждал: «Прежде всего не убедительны доводы этого исследователя против авторства Сильвестра, который, во-первых, не мог выступать против советников царя, поскольку сам принадлежал к ним, а во-вторых, не мог писать царю в столь авторитарной форме, тогда как его Послание боярину А. В. Горбатому составлено в более мягких тонах. Однако Сильвестр осуждал отнюдь не всех, а только лживых советников (осифлян), как позднее делал кн. Андрей Курбский, восхвалявший советников мудрых. Независимый тон вполне соответствует всем тем сведениям об отношениях Сильвестра к царю, которые нам сообщают источники (Послания Грозного, Курбский и др.)»{385}. Надо сказать, что идеи И. И. Смирнова ослабил, как ни странно, не столько А. А. Зимин своими возражениями, сколько сам И. И. Смирнов собственными рассуждениями насчет датировки Послания. Разойдясь с И. Н. Ждановым, относившим составление Послания к 1550 году, он заявляет: «Если исходить из предложенной И. Н. Ждановым датировки времени написания послания царю 1550 г., т. е. временем, непосредственно предшествующим созыву Стоглавого собора, то в этом случае в неразумных советниках следовало бы видеть новых руководителей правительства Ивана IV. Но такая интерпретация темы о «советниках» исключается как потому, что новые советники царя не могли нести ответственности за события 1547 г., так и по общей политической направленности послания, идеологической основой которого являлась защита самодержавной власти царя, т. е. обоснование той самой политики, которая нашла свое выражение в реформах, проводившихся после ликвидации боярского правления новым правительством. Однако тема о неразумных советниках приобретает совершенно новый смысл, если отказаться от датировки послания царю кануном созыва Стоглавого собора, а датировать его временем непосредственно после «великих пожаров» и июньского восстания 1547 г. В этом случае «неразумными советниками» оказываются те, кто являлись «ближними людьми» накануне июньских событий 1547 г., т. е. Глинские и их окружение, а призыв к царю порвать с неразумными советниками приобретает характер требования довести до конца борьбу за ликвидацию боярского правления. В пользу такого понимания послания царю можно дополнительно сослаться на следующее место послания. Указав на то, что в числе «казней», посланных на Русскую землю богом, было «пленение» «погаными» (т. е. татарами) русских людей, автор продолжает: «А оставльшихся сильнии сами своих плениша и поругаша, и всякими насилии, лукавыми коварствы мучиша». В этих «сильных», занимавшихся насилиями и мучениями «своих», т. е. русских же людей, нетрудно угадать княжат и бояр, стоявших у власти в годы боярского правления»{386}. Построения И. И. Смирнова обнаруживают, на наш взгляд, ряд фактических и хронологических нестыковок. Что бы историк ни говорил о «советниках»{387}, он все же должен признать, что «проблема советников», ставшая предметом оживленного обсуждения в русской публицистике, возникла в середине XVI века в связи с деятельностью Сильвестра, Адашева и руководимой ими Избранной Рады, объединенных в неформальную группу, плотным кольцом окружившую царский трон. Это с полной ясностью вытекает из сочинений Ивана Грозного и Андрея Курбского. Следовательно, политическую остроту, порожденную борьбой за власть, данная проблема приобрела не «после ликвидации боярского правления», в частности падения Глинских и их окружения, как считает И. И. Смирнов{388}, а по мере нарастания противоречий между царем Иваном и Избранной Радой во главе с Адашевым и Сильвестром, стремившимися к ограничению самодержавной власти. И. И. Смирнов, по нашему мнению, ошибается, утверждая, будто идеологической основой Послания, защищавшего «самодержавную власть царя», являлось «обоснование той самой политики, которая нашла свое выражение в реформах, проводившихся после ликвидации боярского правления новым правительством»{389}. В основе этой ошибки И. И. Смирнова лежит, как нам кажется, убеждение исследователя в том, что «самодержавие московских государей представляло собой формулу, выражавшую сущность нового типа государственной власти, закономерно связанного со складывающимся централизованным государством»{390}. На наш взгляд, между утверждением самодержавной власти и государственной централизацией не было жесткой взаимозависимости. Развитие централизованного государства отнюдь не всегда предполагало самодержавную форму правления. Наглядным примером здесь служит политика Избранной Рады, направленная на формирование централизованного государства{391}, с одной стороны, и на ограничение самодержавия в пользу расширения прав сословий — с другой. Однако вследствие того, что к началу деятельности Избранной Рады самодержавие на Руси уже сложилось и фактически и юридически, причем с богатым опытом построения централизованного государства, между самодержцем и вождями Рады, Сильвестром и Адашевым, возник острейший конфликт, разрешившийся падением временщиков. Но это случится позже, а в самом начале 50-х годов XVI века было еще неизвестно, кто пересилит: царь Иван или Сильвестр с Адашевым. Понятно, почему деятельность советников, обступивших государя после свержения Глинских, вызывает у автора Послания к царю Ивану Васильевичу тревогу за судьбу русского «самодержавства». И он счел необходимым напомнить о божественной природе власти Ивана IV, который, будучи «Богом утвержен», есть «Царь Великий. Самодержец Христианстей области, скипетры царствиа великаго державу по закону прием крестною силою Царя Царем и Господа Господем»{392}. Иван «в православной своей области Богом поставлен и верою утвержен, и огражен святостию, глава всем людем своим, и Государь своему царствию, и наставник крепок людем своим, и учитель, и ходатай к Богу, и тепл предстатель…»{393}. Факт такого прославления царя, которое И. И. Смирнов правильно понимает в смысле защиты самодержавной власти, весьма и весьма симптоматичен. Перед нами, несомненно, реакция на попытки ограничения этой власти царскими «ближними людьми», подающими государю «чужие» и «неразумные» советы. Причем это — не осуждение «плохих советников», противопоставляемых «хорошим советникам», как можно подумать, следуя за А. А. Зиминым{394}, а резко отрицательная оценка деятельности лиц, окружавших царя Ивана на тот момент, когда составлялось письменное обращение к нему. «И тебе, Великому Государю, — резонно спрашивает автор Послания, — которая похвала в таковых чюжих мерзостех? В гнилых советах неразумных людей, раб своих, сам себе хощеши обесчестити перед враги своми»{395}. Эта реакция составителя письма к Ивану IV на попытки ограничения самодержавной власти государя его «советниками» имеет, по нашему убеждению, явственные атрибутивные признаки как хронологического, так и авторского свойства. По времени она ведет к годам правления временщиков Сильвестра и Адашева, покушавшихся на самодержавие царя Ивана. Глинские здесь, вопреки доводам И. И. Смирнова, отпадают, поскольку они, будучи наряду с митрополитом Макарием инициаторами венчания Ивана IV на царство, являлись сторонниками укрепления самодержавной власти, сулившей им как родичам государя несомненные выгоды. А вот что касается авторства Послания к царю Ивану Васильевичу, то И. И. Смирнов прав: автором Послания был митрополит Макарий. Зря только историк датировал написание Послания 1547 годом, мотивируя эту датировку тем, что новые советники царя, возглавляемые Сильвестром и Адашевым «не могли нести ответственности за события 1547 г.»{396}. Неизвестно, из чего И. И. Смирнов заключил о том, будто автор Послания возлагает на кого-то «ответственность за события 1547 г.». Он вспоминает об этих и других событиях как о наказании Господнем за грехи: «Какии казни и всякиа наказаниа Господь наведе, грех ради наших…»{397}. Точно так же вспоминали о них и при иных обстоятельствах, к примеру, на Стоглавом соборе в речи царя Ивана{398}. Совершенно очевиден назидательный характер такого рода воспоминаний. Надо заметить, что автор Послания не ограничивается перечнем «казней» и «наказаний» за грехи, содеянные в недавнем прошлом. Он рисует картину самых что ни на есть последних грехопадений русских людей: «Возста убо в нас ненависть, и гордость, и вражда, и маловерие к Богу, и лихоимство, и грабление, и насилие, и лжа, и клевета, и лукавое умышление на всяко зло, паче же всего блуд и любодеяние, и прелюбодеяние, и Содомский грех, и всякая скверна и нечистота. Преступихом заповедь Божию, возненавидихом, по созданию Божию, свой образ, и строимся женскою подобою, на прелесть блудником, главу и браду и усе бреем, ни по чему не обрящемся крестьяне: ни по образу, ни по одеянию, ни по делом, кленемся именем Божиим во лжу, к церквам Божиим не на молитву сходимся… несть на нас истиннаго крестного знамения, по существу, персты управити по чину, вообразити Господне древо и животворящий крест, и Троица: Отца, и Сына, и Святаго Ауха, и показати божество и человечество, и крещение, покаяние, Ердань, и Спас, и Предтеча, и вся сия святолепно в руце устроив, назнаменовати крест Христов: первее на челе, потом на персех, на сердци, таж на правую плещу и на левую, ино, по существу крест воображен, телу на здравие, а души на спасение, рукою себя перекрестити, а телом поклонитися Господу Богу, а умом молитися от всея душа и от всего помышления…»{399}. Многое из того, что здесь упомянуто, было весьма злободневно в начале 50-х годов XVI века и потому стало предметом обсуждения и соответствующих постановлений Стоглавого собора 1551 года. Это — и неправый суд, сопряженный с насилием{400}, и «маловерие к Богу» (еретичество){401}, и клятва Божьим именем{402}, и немолитвенное поведение в церкви{403}, и бритье головы, бороды и усов{404}, и ношение одежды иноверцев{405}, и содомский грех{406}. В свое время И. Н. Жданов обратил внимание на то, что заключительная часть Послания «представляет большое сходство с некоторыми местами в царских посланиях и вопросах, предложенных на соборе 1551 г.»{407}. Выявляется словесное совпадение наставлений Послания и Стоглава относительно правильного возложения крестного знамени.
О чем говорят подобного рода текстуальные совпадения? По-видимому, о временной близости составления текстов Послания и Стоглава. Следовательно, соответствующий текст Послания царю Ивану Васильевичу был написан незадолго до 1551 года, т. е. в преддверии работы Стоглавого собора. Данный вывод, полагаем, можно распространить на все Послание в целом. Помимо формальных хронологических привязок, в Послании имеются довольно выразительные событийные намеки, обозначающие примерное время написания Послания. Рассказав о том, как великий князь Владимир «великое православие, яко на камени, непоколебимо утверди», автор Послания говорит: «И ныне малым некоим небрежением поколебася, и всяко ослабе и распадеся, велико некое безаконие внезапу восташа, и мнози помрачишася безумием…»{410}. Эти «мнози», по его словам, «уклонишася вкупе» и «вооружившеся и возшаташа на Бога, и хотяща им утаити сия»{411}. Они «убо мудрьствуют паче, хотяще превратити истину Господню во лжу»{412}. Составитель Послания не раз вопрошает царя Ивана Васильевича: «И тебе, великому государю, которая похвала: в твоей великой области множество Божиих людей заблудиша? На ком то ся взыщет?»{413}; «А се тебе, великому государю, которая похвала? В твоей области православный веры толико множество Божиих людей заблудиша, и Господню зданию диявол посмехаетца…»{414}. Он ожидает от царя решительных действий: «И не подобает ли тобе, великому государю, праведную добродетель исполнити, и осквернившееся очистити и заблудившееся на рамо взяти и ко Христу привести…»{415}. В Послании, таким образом, описывается ситуация, характеризуемая распространением еретических учений («мудрьствуют, хотяще превратити истину Господню во лжу») на Руси в середине XVI века. Как и раньше, еретики были организованы в кружки и объединения («уклонишася вкупе»), собиравшиеся тайно («хотяща им утаити сия»). Вскоре, однако, их деятельность выплеснулась наружу, что засвидетельствовал летописец, сообщив под 1553 годом: «Прозябе ересь и явися шатание в людех в неудобных словес о божестве»{416}. Состоялись церковные соборы «на еретики», осудившие отступников и подвергшие их суровому наказанию. Нельзя сказать, что православные христиане до этого не замечали проявления еретических настроений в обществе. Еще за три года до того (т. е. в 1550 г.) дьяк Иван Висковатый прилюдно обвинял Сильвестра в еретичестве{417}. И с еретиком Матвеем Башкиным он «брань воздвигл, слыша от него нов хуления глагол на непорочную нашу веру христианскую»{418}. Кстати сказать, о Башкине еще до соборов 1553–1554 гг. ходила «недобрая слава»{419}. Следовательно, первые тревоги по поводу вновь явившейся ереси возникли в самом конце 40-х — начале 50-х годов XVI века. А это означает, что Послание к царю Ивану Васильевичу едва ли может быть датировано ранее названного срока. Но его нельзя отнести и к 1553 году, когда вожди еретиков были арестованы и предстали перед соборным судом, нельзя потому, что в Послании содержится призыв очистить скверну и вернуть заблудших на путь истины, что свидетельствует об отсутствии на момент его написания каких-либо серьезных мер со стороны власти против отступников от православия. Итак, с учетом сказанного выше правильнее было бы, на наш взгляд, датировать Послание к царю Ивану Васильевичу 1550 годом, т. е. временем незадолго, по всей видимости, перед Стоглавым собором, заседавшим, как считает ряд исследователей, в январе — феврале 1551 года{420}. Эта датировка определяет предполагаемых авторов Послания, сводя их к двум, собственно, лицам — митрополиту Макарию или попу Сильвестру. Свой выбор мы останавливаем на святителе Макарии. Однако прежде чем привести доводы в пользу нашего утверждения, коснемся аргументации исследователей, усматривающих в Сильвестре автора Послания к царю Ивану Васильевичу. Для обоснования своей версии авторства Послания они прибегают к палеографическим и текстологическим наблюдениям. Еще Н. Коншин, знакомясь с Сильвестровским сборником, где, наряду с Поучением митрополита Фотия и Посланием митрополита Даниила, заключено Послание безымянного автора, писал: «От 358 до 382, на 24-х листах, находится предмет величайшего любопытства для современности, без всякого заглавия и нераскрашенный (отсюда киновари не являются уже до конца книги), прямо из текста, с начала страницы, на обороте 358 листа начинающийся: Послание к Царю Ивану Васильевичу, в коем изложено бедственное растление нравов Двора, и он, угрожаемый Богом-мстителем, умоляется искоренить разврат»{421}. Н. Коншин, исходя из убеждения в принадлежности рукописного сборника Сильвестру, сделал вывод, согласно которому «благовещенский иерей» на оставшихся «белых листах вписывал для себя, собственно свое, не удостаивая расцвечивать то краскою, не делая никаких заглавий и не ставя при начале очередной цифры: последняя цифра стоит при последнем Послании Данииловском»{422}. Но отсутствие киновари не может служить неоспоримым аргументом для вывода об авторской принадлежности Сильвестру нераскрашенного теста рукописи. Это невольно подтвердил Д. Н. Альшиц, добавив к наблюдению Н. Коншина, как он выразился, «еще одно»: «Последняя киноварная заглавная буква поставлена в рукописи за пятнадцать строк до начала послания «Царю Ивану Васильевичу». И начинает эта буква служебное слово — «Паки». В послании, начинающемся на обороте того же листа обращением «Царю», заглавная буква «Ц» написана теми же обычными чернилами, что и весь текст. Далее, ни в этом послании, ни в двух других сочинениях, бесспорно принадлежащих Сильвестру, киновари нет. Если бы послание к царю принадлежало митрополиту Макарию, оно, надо полагать, было бы оформлено так же, как послания двух других митрополитов. Поскольку же оно палеографически приравнено к сочинениям владельца сборника Сильвестра, помещенным вслед за ним, — следует заключить, что это послание также принадлежит ему»{423}. Надо заметить, что Д. Н. Альшиц не добавляет к наблюдению Н. Коншина «еще одно», а уточняет наблюдение, высказанное предшественником. Н. Коншин, оказалось, допустил неточность, заявив, будто нерасцвеченный текст Сильвестровского сборника начинается непосредственно с Послания царю Ивану Васильевичу, тогда как на самом деле это имеет место за пятнадцать строк до начала данного Послания. Но такой поворот меняет существо дела, во всяком случае, требует объяснения. К сожалению, Д. Н. Альшиц не приводит разъяснений на сей счет, зароняя, таким образом, сомнение относительно справедливости своих палеографических доказательств. В арсенале сторонников идеи авторства Сильвестра есть некоторые соображения текстологического порядка. Уже Н. Коншин говорил: «В слоге этого Послания (царю Ивану Васильевичу. — И. Ф.) я не усомнился: это слог Сильвестра, один и тот же и в Послании к сыну Анфиму, уцелевшему при Домострое, и в Послании к князю Александру Борисовичу, и в последнем, в конце прописанном»{424}. Н. Коншин не конкретизировал эти общие слова сопоставлением текстов названных им сочинений. Более убедительными, казалось бы, выглядят текстологические построения Д. Н. Альшица, согласно которым «и в послании царю, и в посланиях Сильвестра князьям — Горбатому-Шуйскому и Ростовскому — есть много мест, сходных текстуально. Более того, и автор писем князьям, и автор послания царю опираются на один и тот же источник XV в.»{425}. Здесь историк имеет в виду «Послание владычне на Угру к великому князю», направленное в 1480 году Ивану III ростовским архиепископом Вассианом Рыло. Следует, однако, заметить, что Послание на Угру ростовского владыки было хорошо известно митрополиту Макарию. Святитель не только знал это Послание, но и пользовался им при написании своих сочинений{426}. Кроме того, хотелось бы напомнить заключение И. Н. Жданова о том, что ни сходство слога Послания к царю Ивану Васильевичу с Посланием благовещенского попа князю Горбатому-Шуйскому, ни помещение подряд этих Посланий в Сильвестровском сборнике «не имеют решающей силы» для утверждения мысли об авторстве Сильвестра{427}. Как бы там, однако, ни было, но против отождествления Сильвестра с автором Послания царю Ивану Васильевичу можно выставить несколько достаточно серьезных, на наш взгляд, соображений. О чем речь? О стиле Послания. И. Н. Жданов, склонный видеть в авторе Послания священника Сильвестра, отмечал, что Послание Ивану написано «человеком, очень близким к царю, очень влиятельным», говорящим «смело, даже фамильярно»{428}. «Авторитарность и независимость в обращениях к царю», как уже говорилось, отмечал в Послании И. И. Смирнов{429}. Этот авторитарный и независимый тон, по справедливому мнению исследователя, резко контрастирует «тем риторическим формам, которые употребляет Сильвестр, например, в послании кн. Горбатому-Шуйскому («Благовещенский поп, последняя нищета, грешный, неключимый, непотребный раб Сильвестришко» и т. д.)»{430}. Данное обстоятельство было одним из тех, что убедили И. И. Смирнова в несостоятельности предположения о Сильвестре как авторе Послания царю Ивану Васильевичу. И в этом случае историк, на наш взгляд, был прав. Но он, к сожалению, не развил свое наблюдение и не воспользовался его познавательными возможностями. Возникает вопрос, мог ли Сильвестр в 1547 году (после июньских событий в Москве), когда он только что приблизился к Ивану IV и вступил в непосредственное с ним общение, писать государю «смело, даже фамильярно», в «авторитарном и независимом тоне»? Вряд ли. Подобная ситуация, по нашему убеждению, исключена полностью. К тому же Сильвестр, насколько известно, сразу же избрал устную проповедь и беседу в качестве главного средства воздействия на царя. Обращаться к Ивану письменно у него не было никакой надобности, поскольку он имел возможность сказать государю при личной их встрече все, что хотел или считал нужным. Впрочем, не в этом главное, а в том, повторяем, что в 1547 году Сильвестр, еще не приобретший власть и силу, не мог писать Послание царю Ивану в стиле, столь не соответствующем своему реальному положению. Но не стало ли невозможное в 1547 году возможным несколько позже, скажем, в 1550–1551 гг., т. е. в то время, когда Сильвестр превратился во всесильного временщика. Так думал, как мы знаем А. А. Зимин, который, датируя Послание к царю Ивану Васильевичу 1550 годом{431}, полагал, что независимый тон этого Послания «вполне соответствует всем тем сведениям об отношениях Сильвестра к царю, которые нам сообщают источники…»{432}. Этому утверждению А. А. Зимина противоречат данные, характеризующие стиль посланий Сильвестра другим лицам, написанных в период его политического могущества при дворе. Например, в послании А. Б. Горбатому, что уже отмечалось И. И. Смирновым, Сильвестр прибегает к уничижительной лексике, именуя собственную персону «непотребным рабом Селивестришко» и называя себя «последней нищетой, грешным», а свой разум — «скудным» и пр{433}. Утешительное послание неизвестному лицу, написанное предположительно Сильвестром, содержит сходные по характеру выражения: «требуюши помощи от моея худости, и яз, грубый, не уразумею, что отвещати тебе»{434}. Обращаясь к митрополиту Макарию и Освященному собору, Сильвестр пишет: «Благовещенский поп Селиверстишко челом бьет»{435}. Стало быть, если стать на точку зрения А. А. Зимина, то получится, что Сильвестр в своих письменных обращениях к митрополиту, церковным иерархам и к боярам пользуется заискивающей риторикой, а в послании, адресованном царю, говорит «смело» и «фамильярно», «авторитарно и независимо». Кто — как, а мы не верим в такие чудеса и потому автором Послания к царю Ивану Васильевичу считаем вместе с И. И. Смирновым митрополита Макария. Другое соображение И. И. Смирнова против авторства Сильвестра, уже приводившееся нами, состоит в том, что вряд ли Сильвестр, претендовавший «на роль ближайшего советника царя, мог главный огонь в послании царю направить именно против «советников»{436}. А. А. Зимин, возражая И. И. Смирнову, говорит совсем некстати о том, будто «Сильвестр осуждал отнюдь не всех, а только лживых советников (осифлян)»{437}. Во-первых, неизвестно, когда и где Сильвестр осуждал лживых советников — иосифлян. Во-вторых, в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века главными советниками царя, вытеснившими остальных советников, были те, кто входил в Избранную Раду. И поэтому выступление против царских советников того времени означало выступление против (и тут И. И. Смирнов прав) Сильвестра, Адашева и других членов Избранной Рады. Приписать такое Сильвестру как автору Послания царю Ивану Васильевичу можно лишь в состоянии чрезмерной, так сказать, ученой ажитации. Куда естественнее видеть за критикой советников Послания царю митрополита Макария, встревоженного политикой новых придворных консультантов, ставших стеной между самодержцем и святителем. С. О. Шмидт полагает, что Сильвестр «похитил у митрополита долю влияния на государя»{438}. Однако вернее было бы сказать, что Сильвестр, перехватив влияние Макария на Ивана IV вскоре после июньских событий в Москве 1547 года, постарался оттеснить его от государя и на некоторое время, кажется, преуспел в этом. Не потому ли митрополит, лишенный непосредственного (один на один) выхода на царя Ивана, вынужден обратиться к нему письменно? Во всяком случае, факт письменного обращения Макария к Ивану примечателен и может быть истолкован так, что митрополит либо не имел тогда возможности получить аудиенцию у государя вообще, либо, добившись встречи с царем, окруженным советниками, не мог быть с ним вполне откровенным. Иное дело Сильвестр, пользующийся расположением и полным доверием царя Ивана, «имущий ко Государю дерзновение». Ему незачем было писать пространные послания монарху, поскольку любой вопрос он мог обсудить с ним устно. Это, конечно, не значит, что митрополит Макарий был полностью отторгнут от власти и потерял какое-либо политическое значение. Отчасти по инерции, отчасти в результате борьбы за власть, обострившейся в то время, он сохранял властные права, хотя и все более ущемляемые набирающей политический вес Избранной Радой во главе с ее «начальниками» Сильвестром и Адашевым. Известно, например, что Иван IV, выступая в декабре 1547 года в Казанский поход, оставил в Москве для управления государственными делами группу бояр во главе с Владимиром Старицким. При этом «о всех своих делах царь и великий князь велел князю Володимеру Андреевичу и своим бояром приходити к Макарью митрополиту»{439}. В этой связи Р. Г. Скрынников замечал, что после пожара Москвы влияние Макария «на дела управления заметно усилилось. Отправляясь под Казань в конце 1547 г., Иван поручил брату Владимиру Андреевичу и боярам «ведать» Москву, приказав им со всеми своими делами «приходити к Макарью митрополиту»{440}. Более предпочтительной нам представляется другая формулировка: после пожара Москвы влияние Макария на дела управления некоторое время еще сохранялось. Ведь то, что повелел царь Иван остающимся в Москве Владимиру Старицкому и боярам, сопоставимо с тем, как государь «по великому пожару» приезжал к митрополиту в Новинский монастырь на думу «со всеми бояры»{441}. Следовательно, царь, уходя в поход, повелел Владимиру Старицкому и боярам советоваться по вопросам управления с митрополитом, тогда как правили делами они сами в соответствии с принятой ранее практикой. Нельзя, по-видимому, согласиться и с И. И. Смирновым, который истолковал поручение царя в том смысле, будто «Макарий занимал во время отсутствия Ивана IV в Москве положение своего рода наместника — правителя государства, которому были подотчетны во всех делах по управлению государством как бояре, так и Владимир Старицкий»{442}. Вместо себя царь Иван в данном случае оставил все-таки князя Старицкого, а не Макария, которому отводилась роль высшего советника и наставника, освящавшего своим авторитетом правительственную деятельность оставленных в Москве Владимира Старицкого и бояр. И здесь Иван не вводил каких-либо новшеств, невиданных раньше. Наконец, продолжением начатой в 1547 году канонизации русских святых, имевшей важное государственное значение, был церковный собор 1549 года. Оба собора — детища митрополита Макария. Но из всего этого не следует, что в 1547–1549 гг. положение Макария укреплялось{443}. Теснимый новыми советниками царя (Сильвестром и Адашевым), он вынужден был сдать некоторые позиции и уйти в оборону. Началась борьба «за душу» Ивана. Митрополит Макарий, чтобы вернуть свое былое влияние на царя и ослабить влияние попа Сильвестра, сделал в конце 1549 — начале 1550 года близкого себе человека священника Андрея (Афанасия) протопопом Благовещенского собора и, следовательно, царским духовником, переведя его в Москву из Переяславля Залесского{444}. Но сделать это было, по всей видимости, не просто. Достаточно сказать, что Федор Бармин, предшественник Андрея, оставил место протопопа Благовещенского собора и ушел в монахи 6 января 1548 года{445}. Миновал, стало быть, целый год, прежде чем освобожденное Барминым место благовещенского протопопа было прочно занято Андреем, сменившим промежуточную фигуру какого-то иерея Якова{446}. Видно, по поводу протопопского места шла «пря» и развернулась борьба, в которой Сильвестр, похоже, фактически присвоил себе функции царского духовника. Вспомним в связи с этим слова кн. А. Курбского о Сильвестре, который душу Ивана «от прокаженных ран исцелил и очистил был и развращенный ум исправил, тем и овым наставляюще на стезю правую»{447}. Курбский говорит, в сущности, о духовном окормлении царя Ивана, входившем в обязанности духовника. В другой раз он прямо называет «презвитера» Сильвестра «исповедником» Ивана{448}. Красноречиво в данном случае и признание Ивана Грозного в том, что он «приях попа Селивестра совета ради духовного, и спасения ради души своея»{449}. Только вот какая незадача: Сильвестр так и не стал протопопом Благовещенского собора, прослужив до конца своей политической деятельности рядовым соборным священником{450}, т. е. не получил официальное право на статус царского духовника, санкционированное русской православной церковью. Как это объяснить? По нашему мнению, тут далеко не последнюю роль сыграл митрополит Макарий, вступивший в борьбу с новыми советниками и заблокировавший церковную карьеру Сильвестра. Едва ли это нравилось Сильвестру и тем, кто управлял им. Ведь его поставили попом Благовещенского собора с явным прицелом на место соборного протопопа и царского духовника с вытекающей отсюда возможностью оказывать влияние на государя. Но Сильвестр дальше должности священника не пошел. Его мог остановить лишь митрополит Макарий, вызывавший и без того злобное недовольство в определенных кругах. Насколько напряженной и даже опасной для Макария являлась политическая ситуация, сложившаяся в конце 40-х — начале 50-х годов, можно судить по концовке Послания к царю Ивану Васильевичу, где читаем: «Сие убо писание прочет, и разсуди себе, и умолчи до времени»{451}. Конфиденциальность Послания выдает обеспокоенность его отправителя за себя и за успех предлагаемых им мер по наведению порядка в стране, очищению общества от всякой скверны, освобождению государя от влияния неразумных советников. Царь обманут своими советниками, и ему надлежит хорошенько подумать над тем, о чем говорится в Послании («рассуди себе»). Автор Послания верит в государя, но просит его сохранить в тайне содержание своего письма до лучших времен, дабы не навредить делу. Таким образом, Послание к царю Ивану Васильевичу следует рассматривать как документальное свидетельство борьбы митрополита Макария с царскими советниками, возглавляемыми Сильвестром и Адашевым. Об этой борьбе сообщают и другие источники. До нас дошло несколько писем Максима Грека митрополиту Макарию, относящихся, по мнению И. И. Смирнова, к 1547–1548 годам{452}. В одном из них речь идет о противниках Макария, противящихся «священным поучениям» митрополита, о чем Грек слышит «во вся дни»{453}. В другом письме Максим говорит о «воздвизаемых» на митрополита «не праведно стужаний от непокоряющихся по безумию священным твоим наказанием…»{454}. Но особую ценность в данном отношении представляет анонимное публицистическое сочинение «Повесть некоего боголюбивого мужа»{455}. По словам И. И. Смирнова, «к созданию «Повести» имел прямое отношение Макарий, и она адресовалась непосредственно Ивану IV»{456}. Повесть предостерегает царя от неверных «синклит» (советников), могущих увлечь его чародейскими книгами, написанными «по действу диаволю»{457}. Согласно П. А. Садикову, под видом советников-чародеев «Повесть» прозрачно разумела сотрудников царя по Избранной Раде и стремилась «доказать необходимость для него и государства осуществления подлинного, ни от кого не зависимого «самодержавства»{458}. Итак, Послание митрополита Макария царю Ивану IV, дополненное другими источниками, приобретает чрезвычайную важность как документ, характеризующий политическую обстановку, сложившуюся на Руси в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века. В этом Послании обозначены болевые точки Русского государства той поры, названы фундаментальные религиозно-политические институты Святорусского царства, находящиеся в опасности. Сделано это в несколько завуалированном виде, в форме обращения, открывающего Послание: «Царю и Государю Великому Князю Ивану Васильевичи) всеа Русии Самодержца вечна, православныя веры истиннаго наставника, на Божиа враги крепкаго борителя, Христови Церкви столпа непоколебимаго и основание недвижимо и стена непобедимая…»{459}. Данное обращение Макария показывает, на чем сконцентрировано внимание святителя. Это — Царь, Православная Вера и Христова Церковь, т. е. основания, на которых поднялась Святая Русь. Всем дальнейшим содержанием своего послания митрополит старается убедить государя в том, что все эти основания поколеблены: Самодержавие — «чужими», «неразумными» и «гнилыми» советами; Православие и Церковь — ересью («мудрьствуют») и маловерием к Богу, неправдами, пороком и содомским развратом. Государь должен с помощью Бога истинного отвести беду, постигшую Русь: «Ты ж убо, Благоутробный Царю, пролей слезы теплыя к Создателю своему и воздай молитву от всея души и помышления, яко да наставит тя исправити сие, и заблужших души на покаяние привести, и от вечныя муки избавити, и Божию милость получити, со всеми рабы своими, о Христе Исусе и о Господе нашем, ему же слава и держава со Отцем, Сыном и Святым Духом. Аминь»{460}. Иван IV внимательно и вдумчиво прочел Послание митрополита Макария. Он прислушался к тому, о чем писал святитель, и трезвым взглядом посмотрел на своих любимцев-советников — Сильвестра с Адашевым и на Избранную Раду в целом. Начиналось медленное прозрение государя. Иван мало-помалу стал понимать, кто ему друг, а кто — недруг. Возвращалась прерванная на короткое время былая власть и влияние митрополита. Убедительной иллюстрацией тому служат события, связанные с Казанским походом 1552 года. * * *Царь принимает решение идти на Казань, посоветовавшись с митрополитом Макарием и всем Освященным собором{461}. Митрополичье Послание обострило, очевидно, в нем чувство ответственности и вины за неустройства и беды, вновь посетившие Русь. Недаром он, воротившись из похода, скажет встречающим его священнослужителям, что несчастья, пережитые Русью и православным людом, случились «грех ради наших, наипаче же моих ради согрешений»{462}. Да и сам поход государь воспринимал в личном плане как жертвенный поступок и способ пострадать за православную веру и церковь. Перед отъездом он, прощаясь с женой своей Анастасией, говорил: «Аз, жено, надеяся на Вседръжителя и премилостиваго и всещедраго и человеколюбиваго Бога, дерзаю и хощу итти против нечестивых варвар и хощу страдати за православную веру и за святые церкви не токмо до крови, но и до последняго издыхания. Сладко убо умрети за православие; ни есть смерть еже страдати за Христа, се есть живот вечный…»{463}. Государь наказывал царице: «Тебе же, жено, повелеваю никамо о моем отшествии скорбети, но пребывати повелеваю в велицых подвизех духовных и часто приходити к святым Божиим церквам и многы молитвы творити за мя и за ся и многу милостыню убогим творити, и многых бедных и в наших царских опалах разрешати повелевай и в темницы заключимые испущати повелевай, да сугубу мьзду от Бога примем, аз за храбръство, а ты за сиа благая дела»{464}. Речь Ивана была столь искренней и неподдельной, настолько назидательной и внушительной, что с Анастасией приключился обморок, но «царь свою супружницу своими рукама удръжал, хотяше бо пастися на землю, и на мног час безгласна бывши…»{465}. Но самое важное для нас распоряжение царь отдал митрополиту: «Ты же, господине отець мой Макарий митрополит всея Русии, подщися, елико тобе Бог дасть, во всем береги царства сего Владыку нашего Христа моли: брата же нашего на благодарныа дела поучай, такожде и бояр оставших зде, въ всем наказуй; такоже, господине, и жену мою царицу Анастасию, непраздну сущу, духовне въ всем побереги»{466}. Помимо этого летописного сообщения, существует еще одно известие, касающееся поручения Ивана IV митрополиту Макарию накануне Казанского похода. Оно принадлежит Исааку Массе (1587–1635), голландскому купцу и торговому резиденту в Москве, писавшему о событиях в Русском государстве начала XVII века. Рассказывая об отъезде Ивана Васильевича к войску, стоявшему под Казанью, Исаак Масса говорит, что в Москве царь «оставил вместо себя митрополита Макария»{467}. Несмотря на ряд неточностей и анахронизмов, содержащихся в рассказе голландца, И. И. Смирнов признал его достоверность в той части, где извещается «об оставлении Иваном IV на время своего отсутствия, «вместо себя», т. е. наместником, митрополита Макария»{468}. Относительно же летописной записи речи царя перед митрополитом И. И. Смирнов говорит, что эта «речь Ивана IV обязывает Макария: 1) выполнять свои обязанности главы церкви; 2) «поучать» царева брата, кн. Юрия Васильевича; 3) «наставлять» во всем оставленных Иваном IV в Москве бояр; 4) беречь царицу Анастасию. Из этих четырех пунктов, составляющих содержание царской речи, основным и центральным является, конечно, пункт третий, определявший отношение Макария к боярам, оставленным в Москве для управления государством во время отсутствия в столице царя»{469}. И. И. Смирнов приходит к выводу, что митрополиту Макарию в период пребывания царя за пределами Москвы была определена «роль наместника-правителя, замещающего в качестве высшей власти в государстве отсутствующего в данный момент царя»{470}. Соглашаясь с основными положениями И.И.Смирнова, попытаемся все же несколько уточнить и детализировать проблему наместничества митрополита Макария в отсутствие на Москве государя. Вопрос заключается в том, с ограниченными ли полномочиями был оставлен в Москве Макарий или же как полновластный правитель. Иными словами, являлся ли митрополит представителем находящегося в отлучке государя или же сам в определенной мере олицетворял высшего властителя. Мы склоняемся ко второму варианту, полагая, что митрополит Макарий, оставаясь в Москве, принял светскую власть полностью, без каких-либо изъятий, заменив всецело государя. Со стороны царя эта мера была естественной и осмысленной, поскольку никто не мог поручиться, чем закончится военный поход и вернется ли из него Иван живым и невредимым. Самодержец отдавал власть в руки надежного человека, которому верил, как себе. Он передал на попечение митрополита то, чем дорожил больше всего на свете, — любимую жену Анастасию, приуготовлявшуюся принести ему, как он, очевидно, надеялся, наследника. Полноту власти митрополита, призванного править в отсутствие государя, подтверждают некоторые летописные сведения. И. И. Смирнов, на наш взгляд, прав, выделяя в качестве основного и центрального пункт речи Ивана IV, «определявший отношения Макария к боярам, оставленным в Москве для управления государством во время отсутствия в столице царя». Неясно только, как понимать слова бояр во всем наказуй. Можно так, как у И. И. Смирнова: наставляй во всем бояр. Но можно, а по нашему мнению, и нужно связывать с термином наказуй другое значение — повелевай, приказывай{471}. Отсюда следует, что остающийся в Москве митрополит вместо ушедшего в Казанский поход царя Ивана наделялся властью, аналогичной власти самодержца. Это вытекало из религиозно-политических представлений о симфонии (гармонии) духовной и светской властей, о теократическом характере русского «самодержавства», разделяемых царем Иваном и митрополитом Макарием. В основе подобных представлений лежала идея, которую в чеканной форме выразил Иван IV в своем послании из похода митрополиту Макарию: «А царство бы наше, порученное Богом тебе и нам, въ время отшествия нашего и впредь покрыл благодатию своею…»{472} Здесь заключена мысль об известном равенстве двух средоточий власти — святительской и царской и, следовательно, о соправительстве митрополита и царя. Поэтому царь Иван именует митрополита Макария отцом, господином и государем{473}. Поход 1552 года принес Русскому государству, как известно, долгожданную победу: Казанское ханство пало, открыв путь нашим на Астрахань. Оставались считаные годы до того времени, когда великая Волга на всем своем тысячеверстном протяжении стала русской рекой, в бассейне которой проживали многочисленные иноверцы, вошедшие в круг подданных московского государя. Началось движение Руси к Российской империи. И начало этому движению положил царь Иван Васильевич Грозный. Иван IV возвращался в Москву как национальный герой, победивший «супостаты». Летописец рассказывает: «И прииде государь к царьствующему граду Москве, и стречаху государя множество народа. И толико множество народа, — и поля не вмещаху их: от рекы от Яузы и до посада и по самой град по обе страны пути бесчисленно народа, старии и унии, велиими гласы вопиющий; ничтоже ино слышати, токмо: «многа лета царю благочестивому, победителю варварскому и избавителю христианьскому»{474}. В «Казанской истории» неизвестного автора середины XVI века (очевидца событий) наблюдаем такую же, но усиленную некоторыми деталями и подробностями картину: «И позвоне весь великий град Москва, изыдоша на поле за посад в сретение царя и великого князя князи и велможи его и вси старейшины града, богатии и убозии, юноша и девы, и старцы со младенцы, черньцы и черницы, и спроста все множество бесчисленное народа московского, и с ними же вси купцы иноязычныя, турцы, и армены, и немцы, и литва, и многия странницы. И встретиша за 10 верст, овии же за 5, овии же за 3, овии же за едино поприще, оба полы пути стояще со единаго, и угнетающися и стесняющися; и видевше самодержца своего… и возрадовашася зело хваляще и славяще и благодаряще его <…> Овии же народи московстии, возлезше на высокия храмины и на забрала и на полатныя покровы, и оттуду зряху царя своего, овии же далече наперед заскакаше, и от инех высот некиих, лепяше-ся, смотряше, да всяко возмогут его видети. Девица же чертожныя и жены княжия и болярския, им же нелзе есть в такая позорища великая, человеческаго ради срама, из домов своих изходити и ни из храмин излазити не полезне есть, и где седяху и живяху яко птица брегоми в клетцах, — они же сокровенне приницающе из дверей и из оконец своих, а в малыя скважницы глядяху и наслажахуся многаго видения того чюдного, и доброты и славы блещащаяся»{475}. То был всенародный праздник и всеобщее ликование. Надо сказать, что эта поистине историческая победа не вскружила голову Ивану. Отвечая на поздравления князя Владимира Старицкого, бояр и воевод с взятием Казани, государь говорил: «Бог сиа содеял твоим, брата моего, попечением и всего нашего воиньства страданием и всенародною молитвою; буди Господня воля!»{476}. В речи, обращенной к митрополиту и ко всему Освященному собору, царь заявил, что победа над врагом добыта «попечением и мужеством и храбростию брата нашего князя Владимира Андреевича, всех наших бояр и воевод, и всего христианьского воиньства тщанием и страданием за непорочную нашу истинную святую христианьскую веру и за святые церкви и за единородную нашу братию православных христиан. И милосердый Бог призре с высоты небесныя и излиа щедроты благости своея на ны, неблагодарныя рабы своя, и не по нашему согрешению дарова нам благодать свою: царьствующее место, многолюдный град Казань, и со всеми живущими в нем предаде в руце наши и Магметову прелесть прогна и водрузил животворящий крест в запустенной мерзости Казаньстей»{477}. Приведенные сейчас тексты содержатся, как мы могли убедиться, и в Летописце начала царства, и в Царственной книге, подвергшейся внимательному редактированию со стороны Ивана Грозного. Смысл этих текстов не позволяет присоединиться ни к Д. Н. Альшицу, воспринимавшему редакторскую работу Грозного как царское самовосхваление{478}, ни к С. Б. Веселовскому, усматривавшему в ней стремление царя «очернить, осудить или просто оклеветать бояр и дворян, то вообще всех, то некоторых персонально»{479}. Позиция Грозного-редактора была не столь прямолинейна и субъективна, как думают названные исследователи. И уж, конечно, цитированные летописные записи никак не согласуются с придуманным А. Л. Хорошкевич и подхваченным другими историками образом царя — «эгоиста или даже суперэгоиста на троне»{480}. Еще накануне взятия Казани царь Иван, «призва к себе» старицкого князя, бояр, воевод и всех воинов, говорил им так: «И яз вас рад жаловати великим жалованием, своею любовию, и всех вас недостаточная наполняти и всяко пожаловать, сколко милосердый Бог поможет; а кому от нас лучится пострадати, и яз рад жены их и дети до века жаловати»{481}. Если послушать князя Курбского и поверивших ему некоторых позднейших историков, то придется признать эти слова государя лживыми и лицемерными. Курбский рассказывает, что на третий день после «преславной победы» Иван якобы «отрыгнул нечто неблагодарно, вместо благодарения, воеводам и всему воинству своему — на единаго разгневався, таковое слово рек: «Ныне, рече, обронил мя Бог от вас!» Аки бы рекл: «Не возмогл есма вас мучити, паки Казань стояла сама во собе: бо ми есть потребны были всячески, а ныне уже волно мне всякую злость и мучительство над вами показывати»{482}. Повествователь старается заклеймить царя: «О, слово сатанинское, являемое неизреченную лютость человеческому роду! О, наполнение меры кровопийства отческого!»{483}. Уже одних этих мелодраматических восклицаний достаточно, чтобы понять стилизованный характер приведенного «свидетельства» Курбского. Но «дивны дела твои, Господи»: столь очевидному, сколь и нелепому поклепу на Ивана IV безоглядно поверил С. Б. Веселовский, шумно изобличавший тенденциозность Грозного и не замечавший таковой у Курбского. По С. Б. Веселовскому, здесь Курбский «сообщает колоритный эпизод отношений царя к его соратникам»{484}, не греша, следовательно, против правды. Перед нами какая-то источниковедческая «вкусовщина», проистекающая из резкого неприятия личности Ивана Грозного, чем, несомненно, страдал С. Б. Веселовский. Избирателен в данном случае и новейший историк Б. Н. Флоря, который говорит: «Первый биограф [?!] Ивана Грозного, князь Андрей Михайлович Курбский, писал, что истинное отношение царя к своим советникам проявилось на третий день после взятия Казани, когда, разгневавшись за что-то на одного из вельмож, Иван произнес: «Ныне оборонил мя Бог от вас!» Однако это сообщение Курбского не подтверждается какими-либо другими источниками, и в сочинениях царя нет упоминания об этом эпизоде. Очевидно, что если у Ивана IV и вырвались в тот момент какие-то гневные слова, то он не придал им значения и забыл о них»{485}. Б. Н. Флоря, как видим, опустил наиболее важные слова, произнесенные якобы царем Иваном: «Не возмогл есма вас мучити, паки Казань стояла сама во собе, бо ми есть потребны были всячески; а ныне уже волно мне всякую злость и мучительство над вами показывати»{486}. В этих словах, по концепции Курбского, вся последующая программа правления Ивана IV. И если бы царь действительно говорил эти зловещие слова, то едва ли бы забыл о них, поскольку обладал феноменальной памятью, поражавшей современников{487}. Но в том-то и дело, что государь не мог, на наш взгляд, произносить подобных слов, так как был настроен на иной совершенно лад благодарности и любви к своим подданным, ратным трудом и подвигом которых была завоевана «подрайская землица». Этот настрой монарха подтверждается его конкретными поступками. Летописец рассказывает о том, как 8 ноября 1552 года Иван IV дал в Кремле торжественный обед в честь победы русского воинства над Казанью: «Был стол у царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии в болшей палате в Грановитой, что от Пречистой с площади; а ел у него митрополит Макарей с архиепископы и епископы, архимариты и игумены, да ел у государя брат его князь Юрьи Васильевич да князь Владимир Андреевичь и многие бояре и воеводы, которые с ним мужествовали в бранех. И дарил царь и государь Макария митрополита и владык всех, в то время прилучьшихся, что их святыми молитвами и всенародною молитвою даровал Бог неизреченную свою милость. А брата своего Владимира Андреевича жаловал государь шубами и великими фрязьскыми кубкы и ковши златыми; такоже жаловал государь бояр своих и воевод и дворян и всех детей боярьских и всех воинов по достоянию, шубами многоценными своих плечь, бархаты з золотом, на соболях, и купкы, иным же шубы и ковши, иным шубы, иным кони и доспехы, иным из казны денги и платие. Сие же торъжество у государя бысть по три дни в той полату, и в те три дни роздал государь казны своей, по смете казначеев за все денгами, платья и судов, доспеху и коней и денег, опричь вотчин и поместей и кормленей, 48 000 рублев. А кормлении государь пожаловал всю землю»{488}. Все это очень не похоже на «злость и мучительство», о которых распространялся Курбский. Стоимость подарков, исчисляемая почти пятьюдесятью тысячами рублей, впечатляет. По тем временам то была весьма внушительная сумма. Привлекает также внимание и награда в виде кормлений{489}. Помимо раздачи кормлений, наряду с вотчинами и поместьями, государь пожаловал «кормлении всю землю». По-видимому, здесь раздача кормлений участникам торжества и пожалование «всей земли» кормлениями — разные вещи. Как понимать фразу «а кормлении государь пожаловал всю землю»? С. Б. Веселовский, разъясняя данную фразу, утверждал: «Право на кормления имели только дворяне, т. е. лица, служившие по дворовому списку, а их было в то время около 2700 чел. Высшие чины, служившие большей частью в Москве постоянно, получали кормления, в той или иной норме, ежегодно, а огромное большинство дворян получало кормления и денежное жалованье раз в три-четыре года или в связи с походами в виде подъемных денег и наградных. Таким образом, «всю землю», т. е. всех разом пожаловать, было невозможно и предстояло распределять на несколько лет вперед очереди получения кормлений с учетом, конечно, чина и службы более двух с половиной тысяч людей»{490}. В исторической литературе имеются и другие разъяснения упомянутой формулы, более соответствующие, по нашему мнению, ее подлинному содержанию. Так, согласно С. Ф. Платонову, «в 1552 году осенью, после Казанского похода царь, празднуя победу над татарами, сыпал милости и награды, «а кормлении государь пожаловал всю землю». Это значило, что царь объявил о своем решении отменить кормления и перейти на новый порядок местного управления, более льготный и приятный для населения»{491}. В данном случае, как и в других, царская власть провозглашала новые принципы, выступая «пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботою об общем благоденствии»{492}. Перед нами один из моментов формирования в России народной монархии, отличающейся попечением государя обо всех людях православного царства независимо от их социального ранга: «Любовь же его по Бозе ко всем под рукою его, к велможам и к средним и ко младым ко всем равна: по достоянию всех любит, всех жалует и удоволяет урокы вправду, против их трудов, и мзды им въздает по их отечеству и службе; ни единаго же забвена видети от своего жалования хочет, такоже никого ни от кого обидима видети хощет»{493}. Версию С. Ф. Платонова принял И. И. Смирнов, по мнению которого победа царя над Казанью дала ему возможность «провозгласить программу дальнейшего проведения реформ в области управления — реформ, которые должны были явиться продолжением и развитием мероприятий, осуществленных в 1549–1551 гг. Официальная летопись — «Летописец начала царства великого князя Ивана Васильевича» — изображает содержание этой программы реформ, провозглашенной царем, как «пожалование» им «всей земли»: «А кормлении государь пожаловал всю землю». Эта краткая летописная формула обычно истолковывается как заявление царя о намерении отменить кормления и установить новую систему местного управления. Вряд ли можно возражать против подобного понимания формулы о «пожаловании кормлениями» «всей земли»{494}. Иван IV не ограничился прокламированием улучшения народной жизни в будущем. Кое-что в этом плане он предпринял незамедлительно. Если верить составителю «Казанской истории»{495}, государь «земские дани своя людям облегчи»{496}, т. е. ослабил податное государственное бремя. Кроме того, он порадовал людей разовой милостью и щедротами своими: «И многу того дне милостину нищим и по монастырем черньцем и по градцким церквам иереом вда. И всех ссуженных на смерть и в темницах седящих на волю испусти <…> И милостину разосла по всей державе своей, по градом и по селом, и по монастырем по всем, по малым же и великим, и по пустынцам, и по всем церквам святым, где есть свеща и просвира отправляти, и да молятся прилежно Богу все о телесном здравии его и о душевном спасении, игумени и попы»{497}. Нельзя, конечно, данное описание милостей царя воспринимать буквально. Но не приходится сомневаться в том, что массовые благодеяния Ивана в ознаменование победы над Казанью имели место и потому отмечены современником. Сокрушение Казанского ханства, многочисленные пожалования, дары, милости и щедроты Ивана IV в честь великой победы — все это очень возвышало царя в общественном сознании, превращая его в национального героя. Следует согласиться с И. И. Смирновым, когда он говорит: «Казанский поход 1552 г. и блестящая победа Ивана IV над Казанью не только означали крупный внешнеполитический успех Русского государства, но и способствовали укреплению внутриполитических позиций Ивана IV»{498}. Это, безусловно, так. Но было бы половинчатым остановиться на этом, поскольку русские вели войну не просто с внешним врагом, но с врагом иноверным, чему придавалось тогда далеко не второстепенное значение. Вот почему победа над казанцами означала для наших предков торжество православия над верой «бусурман», что поднимало престиж русской церкви и ее главы митрополита Макария, способствуя, как и в случае с царем Иваном, укреплению его внутриполитических позиций. Обе власти — царская и святительская — поднимались на небывалую доселе высоту, образуя гармоническое единство. Союз церкви и государства, засвидетельствованный пребыванием в Москве митрополита Макария в качестве полновластного правителя, оставленного Иваном IV вместо себя на время Казанского похода, еще более окреп. Можно вообразить, какой переполох вызвал такой поворот событий в стане Сильвестра и Адашева. Они поняли, что их влияние и власть могут развеяться, как мираж, если того захочет царь, проникающийся все большим доверием к святителю и своему богомольцу. Им надо было, не мешкая, искать случай, чтобы решить вопрос с Иваном и его семейством радикально. Казалось, такой случай представился в марте 1553 года. И что особенно примечательно — так это то, что противники самодержца были, похоже, подготовлены к нему как идейно, так и организационно, выступив, можно сказать, консолидированно. * * *Вспоминается в этой связи поездка царя и царицы в Троице-Сергиев монастырь с целью крещения младенца Дмитрия, предпринятая ими в декабре 1552 года{499}. Необходимо сказать, что в Синодальном списке Лицевого свода запись об этой поездке царской четы и крещении наследника отсутствует, в чем нельзя не заметить некую странность, поскольку перед нами официальная летопись. И естественно было ждать упоминания в официальной хронике такого события, как крещение восприемника царского престола. Однако этого не произошло. Видимо, на то имелась какая-то причина, которую составитель летописи счел необходимым скрыть. Для кого-то, вероятно, было нежелательно ворошить память о царевиче. Иное дело — Иван Грозный. Он не мог пройти мимо печальной истории своего сына. Поэтому в Царственной книге, правленной им, сообщение о крещении Дмитрия помещено в виде приписки. В Синодальном списке не значится и другая запись, представленная в Царственной книге также в виде приписки к основному тексту. Она сообщает о поручении Ивана боярам во время своей поездки в Троицу «о Казанском деле промышляти да и о кормлениях сидети; они же от великого такого подвига и труда утомишася и малого подвига и труда не стерпеша докончати и възжелаша богатества и начаша о кормлениях седети, а Казанское строение потложиша; и в те поры Луговая и Арская отложилася и многия беды христианству и крови наведоша. Се первое зло случися христианству»{500}. С. Б. Веселовский предложил следующий комментарий к этому сообщению: «Весьма возможно, что распределение кормлений прошло не без греха, но заявление интерполятора, будто из-за этого бояре отложили устроение казанских дел и вызвали тем пролитие христианской крови, нельзя назвать иначе, как смелой полемической неправдой»{501}. Пересказывая содержание интерполяции, С. Б. Веселовский допускает неточность, говоря, будто из-за одного только распределения кормлений бояре отложили устроение казанских дел. На самом же деле была еще одна, названная в летописной вставке, причина нерадения бояр: «они же от великого такого подвига и труда утомишася и малаго подвига и труда не стерпеша докончати». То есть бояре, устав от казанских походов и войны с Казанью, не захотели завершить столь успешно начатое дело устроением завоеванного края, способствуя тем восстанию местного населения против русской власти{502}. Некоторые бояре, как, например, князь Семен Лобанов-Ростовский, вообще сомневались в том, удастся ли царю удержать Казань. Поэтому князь Семен говорил однажды главе литовско-польской дипломатический миссии Станиславу Довойне: «А Казани царю и великому князю не здержати, ужжо ее покинет»{503}. Нельзя, однако, нерасторопность бояр объяснять их сомнениями в конечном успехе казанского предприятия, а тем более — усталостью от ратных дел. Прав, на наш взгляд, И. И. Смирнов, истолковавший поведение бояр с точки зрения политической. Исследователь полагает, что в казанском деле «позиция бояр определилась как демонстративный отказ обсуждать вопрос о «Казанском строении». Вопрос же о «кормлениях» бояре стали рассматривать не в плане осуществления реформы, провозглашенной царем, а прямо с противоположных позиций: «возжелаша богатества», т. е. тех доходов, которые шли в пользу наместников-кормленщиков с населения и которых предстояло лишиться боярам в случае, если бы «кормления» были ликвидированы»{504}. Во всем этом И. И. Смирнов видит открытую демонстрацию боярства «против политики Ивана Грозного»{505}. И. И. Смирнов обратил внимание на то, что «Царственная книга ставит в прямую связь поведение бояр в вопросе о «Казанском строении» и о «кормлениях» с теми «бедами», которые обрушились на Русское государство — сначала в виде восстания луговых и арских людей в Поволжье, а затем в виде болезни царя и боярского «мятежа». Иными словами, Царственная книга прямо и непосредственно ставит в связь позицию боярства в вопросе о Казани и о кормлениях с «мятежом», поднятым боярами в марте 1553 г.»{506}. Соглашаясь с общей направленностью построений И. И. Смирнова, обозначим некоторые расхождения с историком, касающиеся отдельных, причем немаловажных, деталей. Если рассматривать поведение бояр во время отсутствия царя в Москве с политической точки зрения и связывать, как это правильно делает И. И. Смирнов, их действия с боярским «мятежом» в марте 1553 года, то станет ясно, что суть противоречий и конфликта между государем и боярами коренилась отнюдь не в вопросах о «Казанском строении» или о «кормлениях». Она коренилась в недовольстве княжеско-боярской знати усилением самодержавной власти Ивана IV вследствие победы царских войск над Казанью, возросшим в связи с этой победой авторитетом царя в народном сознании. Надо отдать должное политическому чутью Ивана, верно угадавшего огромное значение для судеб русского самодержавства «казанского взятия» и забот об общественном благе, достигаемом в тот момент отменой корыстной системы кормлений. Понятно, почему царь Иван встретил сопротивление боярства, отложившего, вопреки указаниям государя, обустройство Казани и сменившего акценты при рассмотрении проблемы кормлений. То был, по существу, откровенный со стороны бояр демарш против самодержавия Ивана IV. Но не следует думать, будто все московские бояре участвовали в этой акции. Часть боярства, несомненно, была и оставалась верной самодержцу. Против него выступали те бояре, которые группировались вокруг Сильвестра и Адашева. Да и не только бояре, а также отдельные духовные лица и служилые люди — дворяне или дети боярские. Бояре в этом сообществе были заметнее, чем другие, являясь верхушечным слоем многочисленной и разветвленной организации, которая, воспользовавшись отсутствием в Москве самодержавного монарха, повела Боярскую Думу за собой. Судя по дальнейшим событиям, к этой организации примыкали старицкие князья. Согласно догадке И. И. Смирнова, князь Владимир Андреевич Старицкий во время поездки царя в Троице-Сергиев монастырь находился в Москве и участвовал в заседаниях Боярской Думы{507}. Обструкция «самодержавству» Ивана, устроенная партией противников неограниченной монархии в России, сопровождалась международной акцией (не было ли здесь согласованности?), преследующей аналогичную цель. Для царя Ивана она не была неожиданностью, поскольку 24 ноября 1552 года его информировали из Смоленска о том, что «в Москву к боярам (а не к нему) едет посланник «королевой Рады» Я. Гайко»{508}. Царь проявил достоинство и выдержку, покинул столицу, связав свой отъезд с крестинами младенца-сына. Это был тонкий дипломатический ход, парировавший замысел «западного соседа»: Иван продемонстрировал полное пренебрежение к послу Польско-Литовского государства. Ян Гайко приехал в Москву, когда там государя уже не было. Эффект, на который рассчитывал «западный сосед», не состоялся{509}. Грамота, привезенная в Москву посланником панов радных, была обращена к митрополиту Макарию, а также к боярам И. М. Шуйскому и Д. Р. Юрьеву: «Целебному отцу, архиепископу митрополиту московскому Иасафу (так в грамоте. — И.Ф.), а Данилу Романовичю, дворетцкому, а князю Ивану Плетеню Шуйскому»{510}. Это очень напоминало грубую провокацию, поскольку, как справедливо на этот раз заметила А. Л. Хорошкевич, «обращение панов Рады к боярам и митрополиту через голову царя ущемляло престиж нововенчанного государя»{511}. Но она поспешила, заявив, что «обращение панов Рады к митрополиту, минуя царя, лишь подчеркивало значение высшего церковного иерарха для западных соседей России»{512}. Православный иерарх едва ли много значил для тех «западных соседей» России, которые исповедовали католичество, а православие воспринимали как схизму. Насмешливое отношение к русскому митрополиту, граничащее с издевательством, проглядывает уже в том, что в грамоте перепутано имя Макария с именем его предшественника по митрополичьему столу Иоасафа. Смысл акции панов радных, конечно же, не в том, чтобы подчеркнуть значение «высшего церковного иерарха для западных соседей России». Скорее всего, он состоял в намерении посеять недоверие между государем и митрополитом, чьи отношения накануне и после казанского взятия переживали подъем, благодетельный для России, и тем самым навредить крепнущему союзу между священством и царством. Был, по-видимому, еще один расчет у «западного соседа», проявившийся в формуле обращения к московским боярам. В этом обращении, вопреки правилам местничества, первым назван Д. Р. Юрьев, а вторым — И. М. Шуйский. Представитель одного из знатнейших русских княжеских родов, потомков Рюрика, И. М. Шуйский, игравший видную роль в политической жизни Руси 30–50-х годов XVI века{513}, поставлен ниже представителя менее древнего и менее знатного рода московских бояр Захарьиных, вызывавших раздражение у княжеско-боярской знати из-за того, что они находятся у государя в приближении не по отечеству. Вряд ли паны радные не знали, что творили. Они подогревали недовольство княжат, которые брюзжали по поводу того, что их государь «теснит» и «бесчестит», жалуя «молодых людей». В мартовских событиях 1553 года это недовольство вырвется наружу, способствуя разладу в Боярской Думе. Ян Гайко думал, наверное, что ведет искусную дипломатическую игру. Но он заблуждался. Играли с ним русские. После первой встречи с польско-литовским посланником митрополит и бояре тут же известили о ней государя: «И митрополит и бояре, слушав грамоты, послали ко царю и великому князю к Троице»{514}. С московской стороны, стало быть, переговоры митрополита и бояр с Гайкой являлись не более чем инсценировкой{515}. Они велись под строгим контролем царских дипломатов и при их непосредственном участии{516}. По словам, И. Грали, «на всякий случай за послами и «переговорщиками» был учрежден надзор. Приставленный к послу Константин Мясоед Вислый, числившийся придворным митрополита, на самом деле был поставлен царской администрацией… В режиссуре спектакля, при отсутствии царя, пребывавшего в Троице-Сергиевом монастыре, большую роль играл Висковатый»{517}. Последнюю точку в этом спектакле поставил митрополит Макарий, который на прощальной аудиенции сказал Яну Гайке, что поскольку он, Гайка, «привез грамоту о государских делах, а не о церковных делах», то ему, митрополиту, «до тех дел дела нет, о тех государских земских делах епископу и паном ведомо учинят государские бояре»{518}. Так конфузливо закончилась затея «западного соседа» испортить отношения между митрополитом Макарием и царем Иваном. Несколько иной результат имела, вероятно, попытка радных панов усилить неприязнь кяжеско-боярской знати к Захарьиным — родичам жены государя Анастасии. Здесь их интрига могла иметь некоторый успех, о чем судим по событиям в марте 1553 года. Вообще же дипломатическая миссия Гайки указывает на то, откуда «дул ветер перемен» в Русском государстве. Однако вернемся на минуту к боярам, оставленным царем сидеть и думать о казанском строении и о кормлениях всей земли. Поведение бояр, действовавших вразрез с указаниями государя, вряд ли было стихийным. Надо полагать, что они вели себя так по договоренности. Значит, имел место сговор, в котором участвовал, вероятно, и Владимир Старицкий. Поэтому события декабря 1552 года в Москве можно рассматривать как начальную фазу боярского «мятежа», достигшего высшей точки в марте 1553 года во время тяжелой болезни царя Ивана. * * *Д. Н. Альшиц, специально изучавший происхождение и особенности источников, повествующих о боярском «мятеже» 1553 года, насчитал три источника, содержащих сведения об этом событии: «Первый из них — приписка, сделанная Иваном Грозным на полях Синодального списка последнего тома Лицевого свода под 1554 г., где рассказывается об отъезде и пытке князя Семена Лобанова-Ростовского. Второй — приписка, сделанная его же рукой несколькими годами позже на полях Царственной книги под 1553 г. Это единственное подробное описание «мятежа». Наконец, третий — это письмо Ивана Грозного к Курбскому от 5 июля 1564 г.»{519}. По мнению Д. Н. Альшица, приписки к Синодальному списку появились «в 1563 г., во всяком случае, до опричнины, до бегства Курбского, до объявления царем открытой борьбы со старыми и новыми изменниками», а приписки к Царственной книге делались «в годы этой борьбы, в суровые годы между установлением опричнины (1564) и московскими казнями (1570)»{520}. Исследователь полагает, что «все сведения, касающиеся мятежа 1553 г. исходят от одного лица — от Ивана Грозного. Казалось бы, что рассказы, имеющие единое происхождение и посвященные одному и тому же факту, должны совпадать между собой в передаче событий, а если и отличаться один от другого, то разве лишь своими размерами или количеством подробностей. В действительности же дело обстоит совершенно иначе: все три рассказа не только не сходны между собой, не только противоречат один другому, но и взаимно исключают друг друга»{521}. Д. Н. Альшиц приходит к выводу о том, что «достоверность рассказа приписки к Царственной книге под 1553 г. об открытом мятеже во время царской болезни является во многих отношениях сомнительной», ибо никакого боярского мятежа в действительности не было, хотя тайный заговор бояр, о котором стало известно лишь в 1554 году при расследовании дела князя Семена Лобанова-Ростовского, имел место{522}. Построения Д. Н. Альшица встретили неоднозначную реакцию в ученом мире: одни исследователи соглашались с ним полностью{523}, другие — частично, находя в его суждениях «рациональные зерна»{524}, а третьи выступили с возражениями против предложенной им концепции, отрицающей правдивость известий, сохранившихся в приписках к Царственной книге. К числу последних исследователей принадлежал И. И. Смирнов, написавший специальную заметку «Об источниках для изучения «мятежа» 1553 г.» и опубликовавший ее в Приложениях к своим «Очеркам». И. И. Смирнов, допуская участие Ивана IV в редактировании Лицевых сводов XVI века, замечал, что «большой материал в обоснование этого положения содержится в работе Д. Н. Альшица»{525}. Однако более внимательное, нежели у Д. Н. Альшица, «рассмотрение данных, содержащихся в Царственной книге, равно как и в других источниках, позволяет существенным образом изменить оценку этих источников»{526}. Исследователь следующим образом оценил приписку к Царственной книге в плане достоверности сообщаемых ею сведений: «Основным источником для изучения мартовских событий 1553 г. является Царственная книга, точнее, скорописная приписка на полях ее основного текста. Я считаю бесспорным высокую степень достоверности рассказа Царственной книги»{527}. По словам А. А. Зимина, «в построениях Д. Н. Альшица есть рациональное зерно: приписки к Царственной книге действительно тенденциозно излагают события марта 1553 г., но отнюдь не измышляют их»{528}. Поэтому «отрицать вероятность основного содержания приписок Царственной книге нет никаких оснований»{529}. Р. Г. Скрынников в своей ранней книге «Начало опричнины» назвал наиболее аргументированным мнение, согласно которому «приписки к Царственной книге были составлены самим царем Иваном или при его непосредственном участии»{530}. Но вместе с тем он замечал: «Д. Н. Альшиц строит свою аргументацию на сопоставлении рассказа о боярском «мятеже» 1553 г. в послании Курбскому и приписок к Синодальному списку и Царственной книге. По его мнению, приписка к Синодальной рукописи появилась до полемики царя с Курбским в 1564 г., а приписка к Царственной книге после этой полемики. Основанием для этого вывода служат противоречия и расхождения приписок между собой. На наш взгляд, расхождения приписок носят по большей части мнимый характер. Летописные приписки имеют один общий сюжет-заговор, организованный боярами во время болезни царя в марте 1553 г. Сведения, касающиеся этого сюжета, не противоречат друг другу, а напротив, почти полностью совпадают»{531}, различаясь порою лишь полнотой изложения{532}. Подробный рассказ об открытом мятеже бояр в марте 1553 года носит, по мнению Р. Г. Скрынникова, легендарный характер, воспроизведенный по памяти, задним числом{533}. Наиболее недостоверными Р. Г. Скрынникову представлялись обращенные к боярам в Думе речи умирающего царя, которые «должны были доказать, что боярский мятеж был прекращен исключительно благодаря вмешательству монарха»{534}. И все же «летописные приписки очень близки между собой по содержанию, стилю и т. д. в той части, в которой речь идет об одном и том же сюжете, боярском заговоре 1553 года. Можно полагать, что в этом случае в основу их был положен один и тот же источник. Достоверность материала и подробности, сообщаемые в приписках, наводят на мысль, что при составлении их могли быть использованы подлинные документы следствия о боярском заговоре»{535}. Это касается приписок не только к Синодальному списку, но и к Царственной книге: «Д. Н. Альшиц первым высказал предположение о том, что царь внес в Синодальный список подробный рассказ о заговорщицкой деятельности Старицких в 50-х гг., желая оправдать расправу с ближайшей родней в 1563 году. Во время суда над Старицким в 1563 г. царь затребовал из архива судное дело боярина князя С.В.Ростовского 1554 года, содержавшее документальные материалы относительно тайного боярского заговора в пользу Старицкого в 1553 году. По-видимому, названные материалы были непосредственно использованы при составлении приписок к Синодальному списку и, возможно, Царственной книге»{536}. Впоследствии Р. Г. Скрынников заметно изменил свои взгляды. Теперь он приписку на полях Царственной книги, повествующую о боярской крамоле 1553 года, не связывает со следственным делом. Р. Г. Скрынников полагает, что эту приписку можно назвать «Повестью о мятеже», которую сочинил царь Иван «с помощниками, подбиравшими для него материал, подготовлявшими черновик, а затем следившими за изготовлением беловика»{537}. Если «при составлении синодальной приписки редактор опирался на документы», то, сочиняя Повесть, он прибегал к воспоминаниям, устным свидетельствам, что сближает его произведение «с мемуарным жанром»{538}. Общий вывод у Р. Г. Скрынникова такой: «Сведения о мятеже в Думе в 1553 году были вымышленными»{539}. Автор, таким образом, стал на точку зрения Д. Н. Альшица. Сходную позицию занял и Г. В. Абрамович, логика рассуждений которого довольно проста: «поскольку данная приписка сделана более чем через 10 лет после 1553 г., уже в период опричнины, ей нельзя придавать серьезного значения»{540}. С Д. Н. Альшицем решительно разошелся Н. Е. Андреев, признавший достоверность интерполяции Царственной книги о болезни царя и боярском мятеже 1553 года. При этом он, в отличие от Д. Н. Альшица, автором приписки считал не Ивана Грозного, а посольского дьяка И. М. Висковатого{541}. И. Граля, обозрев историографию вопроса об интерполяциях Синодального списка и Царственной книги, убедился в том, что «главной целью исследователей было установить авторство и время написания текста, и лишь затем — определить степень его достоверности. Часто выдвигался априорный тезис о присутствии в источнике доминирующей над фактами пропагандистской тенденции, благодаря чему приписка считалась едва ли не политическим манифестом автора. Исследовательские результаты, полученные таким методом, следует оценить негативно. Приписка должна рассматриваться как типичный повествовательный источник…»{542} В итоге такого рассмотрения И. Граля пришел к заключению, что в основе приписки к Царственной книге, «толкующей о событиях марта 1553 г. вокруг наследования трона Дмитрием Ивановичем, лежал в высшей степени достоверный отчет, составленный хорошо информированным очевидцем, возможно, самим Висковатым»{543}. И. Граля сомневается лишь в одном — в информации «о действиях Сильвестра в пользу дома Старицких»{544}. Относительно же приписок к Синодальному списку и Царственной книге И. Граля говорит: «Мнима кажущаяся противоположность содержания интерполяций о заговоре Лобанова-Ростовского Синодального списка и данных Царственной книги, поскольку оба источника, как нам кажется, рассказывают о разных аспектах одного и того же события: Царственная книга описывает разногласия в Думе, лично известные царю и его советникам и, вне всякого сомнения, понятные в сложившейся ситуации; а Синодальный список содержит сведения об интригах сторонников Старицких, проявлением которых было выступление Турунтая-Пронского, но существование которых в виде заговора стало известно царскому окружению лишь в ходе следствия 1554 года»{545}. Совершенно иное отношение у И. Грали к свидетельствам Ивана Грозного о предательском поведении Алексея Адашева, представленным в переписке государя с Андреем Курбским: «Выдвинутое самим царем спустя много лет после рассматриваемых событий обвинение в предательстве и пособничестве Старицким носит черты пасквиля, составленного непосредственно для целей полемики с Курбским…»{546}. Противоречивое мнение о приписках к Царственной книге высказывает А. Л. Хорошкевич. С одной стороны, она говорит, что «достоверность приписок не может быть оспорена»{547}, а с другой — заявляет, будто «характер сообщений в приписках Царственной книги о болезни царя заставляет усомниться в том, насколько правдиво изложен ход событий»{548}. Подводя итог нашей краткой историографической справке о мартовских событиях 1553 года, необходимо сказать, что вопрос о достоверности источников, сообщающих о боярском «мятеже» в марте 1553 года, остается спорным, несмотря на более чем полувековые усилия историков разрешить его{549}. Несомненно лишь то, что не требует никаких доказательств: исторические сведения о мартовских 1553 года событиях дошли до нас преимущественно в форме приписок к Синодальному списку и Царственной книге, внесенных в летописи уже после этих событий. Все остальное — сплошные догадки и предположения, более или менее правдоподобные. Достаточно убедительным, например, является, на наш взгляд, определение времени появления интерполяций Синодального списка и Царственной книги, произведенное Д. Н. Альшицем, который, как мы знаем, датировал приписки к Синодальному списку примерно 1563 годом, а к Царственной книге — периодом между 1564 и 1570 гг. Принимая хронологические выкладки Д. Н. Альшица, никак нельзя согласиться с ним в том, что источники, повествующие о боярском «мятеже» 1553 года (приписки к Синодальному списку и Царственной книге, первое послание Грозного князю Курбскому), не сходны между собой, противоречат один другому и взаимно исключают друг друга{550}. По нашему убеждению, это не так. Названные источники согласуются между собой, дополняют друг друга, рисуя вместе вполне ясную картину произошедшего в марте 1553 года. Итак, как это было? Изучая политическую обстановку при московском дворе, сложившуюся к марту 1553 года, важно иметь в виду, что укрепление самодержавной и святительской власти, упрочение союза Царства и Церкви, усилившиеся после великой победы над Казанским ханством, пришлись сильно не по нраву придворной политической группировке, стремящейся к установлению в России ограниченной монархии. Минуло почти шесть лет с тех пор, как эта группировка, возглавляемая Сильвестром и Адашевым, пришла к власти, но ей так и не удалось радикальным образом изменить политический строй Русского государства посредством ликвидации «самодержавства» и установления на манер соседней Польши и Литвы боярской олигархии с номинальным монархом. Правда, Сильвестр и Адашев сумели все-таки сковать отчасти самодержавную власть Ивана IV, хотя до окончательного торжества над нею им было еще далеко. Главным препятствием на их пути к успеху был царь Иван — человек неукротимого нрава, большого ума и таланта, человек, уверовавший в свое особое предназначение заступника Отечества, хранителя истинного православия и «самодержавства», дарованного ему Богом. И вот первого марта 1553 года государь неожиданно и опасно занемог. Возникает вопрос: кому это было на руку? Конечно, это было на руку придворной партии Сильвестра — Адашева. Но обо всем по порядку. В Синодальном списке о болезни Ивана IV сказано нравоучительно, но кратко: «За многое наше неблагодарение и в то время прииде грех ради наших, посети немощь православнаго нашего царя, прииде огнь велий, сиречь огневая болезнь: и збысться на нас Евангельское слово: поразисте пастыря, разы дутся овца»{551}. Лапидарность приведенной летописной записи не соответствует тому, что нам известно о болезни царя, сопровождавшейся драматическими событиями, характеризуемыми в исторической литературе как династический кризис. Складывается впечатление, будто летописец крепко держал себя за язык, чтобы не наговорить лишнего. Как бы там ни было, в любом случае эта лапидарность симптоматична. Она указывает на нежелание летописца касаться подробностей, связанных с болезнью Ивана. Что скрывалось за этим нежеланием — самоконтроль летописателя или запрет свыше, — сказать трудно. Но следует отметить, что составитель записи все-таки оставил нам кое-какие намеки, воспользовавшись иносказательными средствами и евангельскими образами. Ключевой здесь является фраза «поразисте пастыря, разыдутся овца». Душная короткая фраза говорит о многом: о религиозных функциях царя (он пастырь, причем «пастырь добрый»{552}), о людских раздорах и смуте («разыдутся овца»), вызванных «немощью» царя, но самое главное — о том, что «поразить» государя — значит породить эти раздоры и смуту. Последняя мысль летописца звучит настолько многозначительно, что заставляет задуматься относительно настоящей причины болезни царя Ивана. И здесь открывается нечто любопытное. Летописец имеет в виду следующий евангельский текст: «Тогда глагола им Иисус: вси вы соблазнитеся о мне в нощь сию: писано бо: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада» (Матф., 26: 31). Нетрудно заметить, что летописец изменил лицо и время глагола поразить: вместо первого лица единственного числа будущего времени поражу он употребил второе лицо множественного числа прошедшего времени (аорист) поразисте. В результате изменился смысл евангельских слов: [вы] поразили пастыря. Получается так, что кто-то из царского окружения «поразил пастыря» — царя Ивана. Не означает ли это, по летописцу (автору основного текста Синодального списка!), что болезнь царя была рукотворной?. Столь же немногословен при рассказе о болезни царя и князь Курбский. В своей Истории он рассказывает, как царь, вернувшись из Казанского похода, «по двух месяцах или по трех разболелся зело тяжким огненным недугом так, иже никтоже уже ему жити надеялся. По немалых же днях, помалу оздравляти почал»{553}. И еще в июне 1553 года Иван «не зело оздравел»{554}. Немногословность Курбского понять легко: он не заинтересован был в пересказе подробностей, характеризующих поведение его друзей во время государевой болезни далеко не с лучшей стороны. Поэтому сообщение князя о заболевании царя имеет небольшую цену, за исключением одной детали, свидетельствующей о длительных последствиях болезни государя, что дает еще одно основание задуматься о причине этой болезни. С большей обстоятельностью повествуется о хвори государя и событиях вокруг нее в приписке к Царственной книге, где читаем: «В среду третия недели Поста, марта 1 дня, разболеся царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии, и бысть болезнь его тяжка зело, мало и людей знаяше, и тако бяше болен, яко многим чаяти: к концу приближися. Царя же и великого князя диак Иван Михайлов воспомяну государю о духовной; государь же повеле духовную съвершити, всегда бо бяше у государя сие готово. Съвершившивше же духовную, начата государю говорити о крестном целовании…»{555}. И вот тут-то все и началось. Но, прежде чем говорить об этом, несколько замечаний в связи с только что цитированным текстом. Обращает внимание точность автора приписки в обозначении времени начала болезни царя: среда третьей недели Великого поста действительно приходилась на первое марта{556}. О чем свидетельствует такая точность? Надо думать, о том, что автор приписки либо обладал необыкновенной памятью, легко воспроизводившей давние события, либо располагал какими-то записями об этих событиях. Однако в любом случае перед нами, по всей видимости, манера рассказчика, привыкшего к строгости передачи происшествий прошлого. Тем удивительнее, что он не говорит конкретно о болезни царя, характеризуя ее в общих словах как очень тяжкую, внушающую опасение за жизнь государя. В Синодальном списке и в Истории Курбского, как мы знаем, болезнь Ивана называется огневой, огненной. Кстати сказать, Андрей Курбский, описывая последние дни Алексея Адашева, сообщает, что тот «в недуг огненный впал»{557}, дав повод его недругам «возопити цареви: «Се твой изменник сам себе здал яд смертоносный и умре»{558}. Не означает ли это, что «огненный недуг» в своих проявлениях походил на отравление? В историографии высказывались разные мнения о болезни Ивана IV. Одни исследователи считали ее горячкой{559}, другие — лихорадкой{560}, а третьи — не более чем «душевным смятением», «психическим срывом»{561}. Последнее мнение следует, на наш взгляд, решительно отвергнуть как произвольное и абсолютно безосновательное{562}. Что касается двух первых, то в них есть предмет для обсуждения. Горячкой или же лихорадкой заболел царь — вот ближайший вопрос, на который нужно ответить. По объяснению В. И. Даля, горячка есть «общее воспаление крови в человеке или животном: жар, частое дыхание и бой сердца; огневица… У нас неясно различают слова горячка и лихорадка: обычно лихорадкой зовут небольшую и недлительную горячку… а горячкой — длительную и опасную…»{563}. Если учесть, что царь Иван, как свидетельствует князь Курбский, даже в июне еще «не зело оздравел», то признаки его болезни следует отнести к горячке, по словам В. И. Даля, длительной и опасной. Но эти же признаки (воспаление крови, жар, сердцебиение) могут указывать и на отравление. Тогда становится понятно, почему Грозный в составленной или продиктованной им приписке не называет конкретно своего заболевания, отмечая лишь тяжкий его характер. По-видимому, он был не согласен с официальной версией болезни, основанной, скорее всего, на диагнозе придворных лекарей, обычно иноземцев, готовых выполнить, как мы не раз убеждались ранее, любые «деликатные» поручения. Сам Иван нимало не сомневался в том, что его хотели «истребить»{564}, т. е. отправить на тот свет. И это — не фантом испуганного воображения, а суровая реальность, подтверждаемая рядом косвенных данных, приведенных нами выше. Болезнь царя, как явствует из приведенных сообщений Царственной книги, протекала очень тяжело. И все же нельзя бросаться в крайность, как это делают некоторые исследователи. А. Л. Хорошкевич, например, утверждает, будто Иван IV «смертельно занемог»{565}. Будь так, как говорит А. Л. Хорошкевич, царь непременно бы умер: на то она и смертельная болезнь{566}. Но, к счастью, он остался жив. «Серьезно захворал»{567}, «тяжело заболел»{568}, «серьезно заболел»{569} — так было бы сказать лучше и, разумеется, правильнее. К сожалению, А. Л. Хорошкевич в своих увлечениях не останавливается. Ее начинает настораживать «удивительная активность «умирающего», выразившаяся, в частности, в том, что «по совету Висковатого… он «совершил» духовную»{570}. Однако можно было и не настораживаться, поскольку государь не «совершил» духовную, а «повелел совершити духовную» ближним людям, и они ее «совершили». Конечно, все эти тревоги и волнения сами по себе не стоят того, чтобы заострять на них внимание. Но они призваны посеять сомнение в правдивости сведений, заключенных в приписке, и в этом отношении не безобидны. Ту же цель преследует и стремление истолковать летописную фразу «мало и людей знаяше» в смысле не узнавал людей{571}. Это — вольное толкование, не соответствующее точному значению словосочетания «мало знаяше» Оно, прежде всего, касается слова мало, которое несет в себе не полное отрицание, а лишь частичное. В языке той поры данное слово имело значения немного, едва, недостаточно{572}. Слово же знаяше связано со знати, которое означало: знать, иметь сведения, знания, представление о чем-л.; уметь что-л., быть обученным чему-л.; знать человека, быть знакомым с ним; отличать; признавать (признать); ведать, распоряжаться, владеть чем-л.; быть подведомственным кому-, чему-л.; иметь что-л{573}. Подбирая из представленных смысловых вариантов наиболее подходящие к выражению «мало знаяше людей», мы останавливаемся на едва к узнать (отличать). Следовательно, «мало знаяше людей» означало едва узнавал людей{574}. Царь, стало быть, в момент тяжелых приступов болезни хотя и едва, но все-таки узнавал находившихся у его постели. Говорить о том, что Иван бредил, приписка нас не уполномочивает{575}. И, наконец, еще об одной весьма любопытной, на наш взгляд, особенности начальной части приписки к Царственной книге, повествующей о болезни государя. Мы обращали внимание на удивительную точность ее автора в обозначении времени возникновения «немощи» Ивана. Но нельзя не заметить и другого: скрупулезного перечисления обстоятельств, создающих своеобразный и загадочный фон заболевания. Сюда относятся и Великий пост, и первое марта, и третий день недели среда, третья неделя Великого поста. Случаен ли этот набор знаковых обстоятельств или же за ним скрывается нечто такое, что придает событиям вокруг болезни первого православного царя символический смысл, а самой болезни — искусственный, т. е. рукотворный, характер. Разобраться в этой проблеме — задача будущих исследований. Но уже и сейчас кое-что более или менее понятно. Заболевание Ивана IV пришлось на Великий пост, что символично, поскольку этот сорокадневный пост установлен в ознаменование важнейших библейских событий: сорок дней и ночей лил дождь во время Всемирного потопа, сорок лет Моисей водил израильский народ по пустыне, сорок дней постились в пустыне пророк Илия и Христос. К сорокадневному сроку Великого поста присоединяется еще одна седмица в память о страданиях и смерти Спасителя{576}. Следовательно, случись смерть царя Ивана в Великий пост, она приобрела бы неординарное значение. Важную символическую роль играет среда, особенно в предпасхальный Великий пост. Именно в среду Иуда предал Христа, вследствие чего «среда сделалась напоминанием о предании Иисуса Христа на смерть, происшедшем в этот день»{577}. Кроме того, среда еще и третий по счету день недели. Если к этому прибавить третью неделю поста, упомянутую в приписке, то невольно закрадывается мысль о том, что число 3 в данном случае выделено особо. В древности это число называлось «мудростью, потому что люди организуют настоящее, предвидят будущее и используют опыт прошлого»{578}. Это священное число. «Священность триады… следует из того факта, что она делается из монады и дуады. Монада есть символ Божественного Отца, а дуада — Великой Матери. Триада, будучи сделана из них… символизирует тот факт, что Бог порождает Свои миры из Себя…»{579}. О том, чей это Бог, говорит отмеченное в приписке 1 марта, которое, по библейским понятиям, является началом творения мира и священного года у древних евреев{580}. Разумеется, сказанное нами не исчерпывает всей символики, запечатленной в приписке к Царственной книге. Вопрос лишь поставлен, но не разрешен. Целесообразность постановки данного вопроса подтвердит или опровергнет дальнейшее его изучение. Но и того, что сказано, достаточно, чтобы догадаться о рукотворном характере заболевания царя Ивана с предполагавшимся смертным исходом. Об искусственной природе болезни Ивана IV говорят, как думается, символические знаки, свидетельствующие о религиозно-политическом существе мартовских событий 1553 года. Их приоткрывшийся смысл указывает на религиозное сообщество, где находили применение эти знаки и откуда, следовательно, исходила смертельная опасность, угрожавшая русскому самодержцу. Это — приверженцы ереси, которые осели в Кремле с конца XV века и с тех пор гнездившиеся там, временами затихая, а при благоприятных обстоятельствах усиливая свою деятельность. Периоды благоприятствования для них наступали с появлением на самом верху государственной власти людей, покровительствующих им. Так было при великом князе Иване III, так случилось при великом князе Василии III, так произошло и при царе Иване IV, когда центром притяжения еретиков стал кремлевский двор Владимира Старицкого{581}, тесными узами связанного с попом Сильвестром и его придворной партией, активно поддержавшей претензии удельного князя на московский трон. Настал момент вновь вернуться в покои умирающего, как многим тогда казалось, царя. Надо полагать, что «совершение» духовной много времени не потребовало, так как «всегда бо бяше у государя сие готово». Сколько дней прошло с начала болезни Ивана 1 марта до составления духовной, сказать трудно{582}. Однако характер болезни Ивана IV (горячка), протекавшей, по-видимому, достаточно интенсивно, очень скоро мог внушить царскому окружению мысль, будто он умирает. Следовательно, речь идет, по всей видимости, о нескольких днях, во всяком случае, о недельном сроке, не более. Но если признать правомерным предположение об отравлении царя, то все это должно было произойти в считаные дни. И вот когда духовная была подготовлена, «начаша государю говорити о крестном целовании, чтобы князя Владимира Андреевича и бояр привести к целованию на царевичево княже-Дмитреево имя»{583}. Употребляемый здесь глагол прошедшего времени (аорист) 3-го лица множественного числа начата указывает на группу людей, находившихся при больном государе и заговоривших о необходимости привести к присяге Владимира Старицкого и бояр. Надо думать, то были «ближние люди», сохранявшие верность Ивану. Важно запомнить, что крестное целование поначалу замышлялось на «царевичево княже-Дмитреево имя», что и было проделано «ближними боярами» князем И. Ф. Мстиславским, князем В. И. Воротынским, И. В. Шереметевым, М. Я. Морозовым, князем Д. Ф. Палецким, боярином Д. Р. Юрьевым, боярином В. М. Юрьевым, а также посольским дьяком И. М. Висковытым. Тогда же целовали крест и думные дворяне А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков{584}. Не следует чересчур упрощать факт целования креста на верность царевичу Алексеем Адашевым, как это делает, например, Р. Г. Скрынников: «В письме Курбскому Грозный прямо приписал Алексею Адашеву намерение «извести» царевича Дмитрия. Однако из «Повести о мятеже», сочиненной самим царем, следует, что Алексей верноподданнически и без всяких оговорок целовал крест Дмитрию в первый день присяги»{585}. Из приписки следует лишь то, что Алексей Адашев действительно без оговорок (по С. В. Бахрушину, «беспрекословно»{586}) целовал крест Дмитрию после вышеназванных деятелей, проявив удивительную пассивность в чрезвычайной ситуации. Пассивность эта не только удивляет, но и настораживает, невольно заставляя задуматься над тем, а все ли здесь чисто{587}. Ведь еще С. М. Соловьев отмечал, что «всего более должны были поразить Иоанна бездействие, молчаливая присяга Алексея Адашева»{588}. Несомненно, впрочем, одно: целовал Адашев крест верноподданнически или же с затаенным чувством неприятия царского наследника, т. е. двоедушно, сказать, исходя из факта присяги, нельзя. Тем не менее, возможность подобной неискренности не исключена, что засвидетельствовал своим двурушничеством князь Д. Ф. Палецкий, который, как мы видели, присягнул вместе с другими «ближними боярами» Дмитрию, но тут же послал «ко княгине Офросинье и к сыну к ея ко князю Владимеру зятя своего Василия Петрова сына Борисова Бороздина» сказать, что он не «супротивен» тому, чтобы быть Старицким «на государстве», и готов им «служити»{589}. Уклонились от крестоцелования князь Д. И. Курлятев и казначей (тогда печатник{590}) Н. А. Фуников, сославшись на болезнь. Однако ходили слухи «про князя Дмитрея Курлятева да про Микиту Фуникова, будто они ссылалися с княгинею Офросиньею, с сыном ея с князем Владимером, а хотели его на государство, а царевичя князя Дмитрея для мледенчества на государство не хотели»{591}. Дмитрий Курлятев и Никита Фуников целовали крест, когда все улеглось и поле битвы, так сказать, осталось за царем Иваном. Если о действиях Д. Ф. Палецкого автор приписки к Царственной книге заявляет уверенно как о факте установленном, то о связи Курлятева и Фуникова со старицкими князьями он сообщает в предположительном тоне, замечая, что об этом поговаривали люди («глаголаху»). Перед нами лишнее подтверждение стремления составителя приписки к точности передачи событий, соответствующей времени их происшествия. Будь иначе, он едва ли бы придерживался подобного различия. Обозначив ненадежность князя Курлятева (пусть даже предполагаемую), автор приписки дает повод современному исследователю заподозрить в том же и Алексея Адашева, поскольку этот князь, как мы знаем со слов Ивана Грозного, являлся «единомысленником» Адашева и Сильвестра, введенным ими в «синклит» при государе{592}. Понятно, почему С. М. Соловьев называл Дмитрия Курлятева «самым приближенным к Сильвестру и Адашеву человеком»{593}, а С. В. Бахрушин — «приятелем» Алексея Адашева, «ближайшим сотрудником Адашева и Сильвестра»{594}. И тот факт, что Курлятева ввели в государев «синклит» Адашев и Сильвестр, а не наоборот, не оставляет сомнений насчет того, кто кем управлял и кто кого направлял. Ведущая роль здесь Сильвестра и Адашева очевидна. Во время болезни Ивана замысел государственного переворота, вынашиваемый противниками «Святорусского царства», обозначился со всей определенностью: «А в то же время князь Володимер Андреевич и мати его събрали своих детей боярских, да учали им давати жалование денги…»{595}. В. В. Шапошник усматривает в поведении старицких правителей «стремление заручиться поддержкой военной силы в случае каких-либо осложнений»{596}. Однако данное короткое известие содержит более емкую информацию, чем ему представляется. Судя по всему, старицкие правители собрали детей боярских в своем кремлевском дворе. Дело это не простое, поскольку служилые люди, как тогда выражались, «сидели по домам» или находились в служебных посылках{597}. Значит, о сборе их нужно было специально оповещать, для чего требовалось, по крайней мере, несколько дней. Возможно, однако, что оповещение и сбор детей боярских состоялись накануне мартовских событий 1553 года. Если согласиться с первым заключением, надо будет признать, что болезнь царя сразу же побудила Старицких и придворную «фронду» к активным действиям по захвату московского трона. Без предварительного сговора между ними, квалифицируемого как антигосударственный заговор{598}, это представить, на наш взгляд, невозможно{599}. Еще более укрепляет мысль о заговоре догадка, согласно которой оповещение о сборе в Москве детей боярских старицкого князя имело место до болезни государя. Но тогда окажется, что об этой болезни и времени ее возникновения Владимир и Ефросинья Старицкие знали наперед и потому заранее собрали своих детей боярских у себя на кремлевском дворе, где держали их наготове. Опасность скопления в Кремле служилых людей соперника царь Иван осознал в ходе мартовского «мятежа», вследствие чего в крестоцеловальную грамоту старицкого князя Владимира на имя государя и его новорожденного сына Ивана (май 1554 г.) было внесено обязательство: «А жити ми (Владимиру. — И.Ф.) на Москве в своем дворе; а держати ми у себя своих людей всяких сто восмь человек, а боле ми того людей у себя во дворе не держати; а опричь ми того служилых своих всех держати в своей отчине»{600}. Признав заблаговременный сбор служилых людей старицких правителей в их кремлевском дворе, мы снова упираемся в догадку об искусственном происхождения заболевания царя, предполагающую отравление. Однако при любом раскладе событий ясно видна конечная цель Старицких и споспешествующей им придворной группировки — захват высшей власти{601}. Особенно наглядно это демонстрирует выдача князем Владимиром и княгиней Ефросиньей денег детям боярским. По заведенному в ту пору порядку жалование служилым людям, в первую очередь деньгами, выдавалось перед военным походом. Поэтому раздача денег детям боярским, находящимся на службе у старицких князей, означало лишь одно: приготовление к вооруженному выступлению против царя Ивана и его наследника Дмитрия{602}. Следует согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он говорит: «Судя по некоторым их (Старицких. — И.Ф.) действиям, они подготавливали дворцовый переворот. В дни кризиса Старицкие вызвали в Москву удельные войска и стали демонстративно раздавать им жалование»{603}. Бояре, верные государю, не заблуждались на сей счет ни на минуту: «И бояр о том (о жаловании деньгами детей боярских. — И.Ф.) князю Володимеру учали говорити, что мати его и он так не гораздо делает: государь недомогает, а он людей своих жалует»{604}. Владимир и Ефросинья, уверенные, вероятно, в своей силе, «почали на бояр велми негодовати и кручинится». Но бояре не растерялись и «начата от них беречися и князя Володимера Ондреевича ко государю часто не почали пущати»{605}. Сторонники царя, следовательно, проявили твердость и прекратили доступ удельного князя к больному, не без основания усматривая опасность для него такого рода посещений. Следовательно, скрытое противостояние противников и сторонников Ивана IV превратилось в конфликт, еще не вооруженный, но открытый. И вот в этот конфликт, свидетельствующий о накале страстей при дворе, вмешивается политический, так сказать, «тяжеловес» поп Сильвестр, причем на стороне старицких властителей: «Сей убо тогда начат бояром въспрещати, глаголя: «про что вы ко государю князя Володимера не пущаете? Брат вас, бояр, государю доброхотнее». Бояре же глаголаша ему: на чем они государю и сыну его царевичю князю Дмитрею дали правду, по тому и делают, как бы их государству было крепче. И оттоле бысть вражда межи бояр и Селиверстом и его советники»{606}. Некоторые историки недооценивают факт вмешательства Сильвестра в придворную борьбу вокруг московского престола. К примеру, С. Б. Веселовский утверждал, будто Сильвестр «не принимал никакого участия в суматохе о присяге»{607}, будто он «по неизвестным нам причинам стоял в стороне от боярских распрей по поводу присяги», а значит, «нет оснований считать его сторонником «воцарения» кн. Владимира», и если благовещенский поп все-таки «выступил в конце концов на защиту старицких князей, то только потому, что хотел предотвратить расправу бояр с ними, которая могла вызвать тяжелые последствия не только для царя, но и для всего государства»{608}. По мнению И. Грали, «активность Сильвестра проявилась только в том, что он обратил внимание бояр на предосудительность недопущения Владимира Андреевича к умирающему царю»{609}. Вместе с тем исследователь указывает на то, что Сильвестр вступил в тайные отношения с Владимиром Старицким, обещая поддержать его кандидатуру на московский престол{610}. Следовательно, «активность Сильвестра проявилась» еще и в тайной сфере, причем преимущественно именно в тайной сфере. Стало быть, деятельность Сильвестра обнаруживается не только в том, «что он обратил внимание бояр на предосудительность недопущения Владимира Андреевича к умирающему князю». Однако выявить ее детально нет возможности, поскольку она (как, впрочем, и вся деятельность Сильвестра{611}) покрыта тайной. Можно лишь говорить об общем ее характере как направленной против воли царя и в пользу удельного князя. Тем не менее, даже краткие сведения о поведении Сильвестра во время царской болезни, содержащиеся в приписке к Царственной книге, позволяют составить относительно ясное представление о его роли в политической борьбе той поры. И что тут интересно, так это то, что рядовой, казалось бы, священник вторгается в дела огромной, можно сказать, судьбоносной государственной важности и позволяет себе перечить представителям княжеско-боярской знати, укоряя их за недостойный, как ему мнится, поступок{612}. Больше того, Сильвестр, если строго следовать летописной записи, «начат бояром въспрещати», т. е. препятствовать, мешать им{613}. Что это: беспредельная наглость или же уверенность в собственном могуществе и в конечном успехе затеянного предприятия? Скорее всего, — второе{614}. Получив неожиданный для себя отпор, Сильвестр озлобился. «И оттоле бысть вражда межи бояр и Селиверстом и его советники», — читаем у летописца. Вполне понятен политический апломб благовещенского попика: за ним стояли организованные «советники», единомышленники, т. е. придворная партия, которую И. И. Смирнов справедливо назвал «группировкой Сильвестра и Адашева»{615}. И. И. Смирнов так охарактеризовал позицию Сильвестра в мятежные дни марта 1553 года: «Сильвестр открыто вмешивался в борьбу между сторонниками царя и группировкой Старицких, пытаясь помешать принятию предупредительных мер против Владимира Старицкого, предпринимавшихся верными царю боярами, и демонстративно заявляя, что Владимир Старицкий «вас, бояр, государю доброхотнее». Такая позиция вела к острому конфликту между ним и верными Ивану Грозному боярами…»{616}. Надо полагать, Сильвестр, скрывающий свои истинные планы, не стал бы обнаруживать себя и не пошел бы на открытый конфликт с боярами, не случись чрезвычайное, по-видимому, непредугаданное заговорщиками обстоятельство: прямой и резкий разговор приверженцев московского самодержца с Владимиром Старицким и последующее запрещение ему посещать больного государя. Это было для «группировки Сильвестра и Адашева» серьезным предзнаменованием провала задуманного государственного переворота. Сильвестр встревожился и поспешил спасать положение, считая, вероятно, что сумеет своим вмешательством поправить дело. Но, «увы ему», он ошибся и проиграл, встретив решительную отповедь бояр, сохранявших верность присяге и долгу. Для современного наблюдателя, занятого рассмотрением мартовских событий 1553 года, безрезультатность попыток Сильвестра и Владимира Старицкого развить начатую акцию по захвату власти означает, бесспорно, некоторое изменение соотношения сил в пользу сторонников Ивана IV. Это изменение, впрочем, было обусловлено не столько военно-политическими обстоятельствами, сколько психологическими мотивами, связанными непосредственно с больным государем. Несмотря на смертельную, казалось, болезнь, царь все-таки оставался жив, что обнадеживало его сторонников и приводило в замешательство противников. И чем дальше, тем больше это настроение усиливалось. После очевидного провала Владимира Старицкого и Сильвестра становилось ясно, что заговор срывается, и заговорщикам следовало бы остановиться и дать ход назад. Но они, чрезмерно уверовав в успех, продолжали свою уже бесперспективную игру, нагнетая обстановку в Кремле. Между тем, Иван призвал «бояр своих всех и начал им говорити, чтобы они целовали крест к сыну его царевичю ко князю Дмитрею, а целовали бы в Передней избе, понеже государь изнемога же велми, и ему при себе их приводити к целованию истомно…»{617}. Быть при целовании царь поручил ближним своим боярам князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и князю Владимиру Ивановичу Воротынскому «съ товарищи». Но тут заупрямился боярин и князь Иван Михайлович Шуйский, который «учал противу государевых речей говорити, что им не перед государем целовати не мочно: перед кем им целовати, коли государя тут нет?»{618}. Выходка И. М. Шуйского не осталась не замеченной историками. С. В. Бахрушин, касаясь ее, замечал: «Князь Иван Михайлович Шуйский отказался целовать крест (присягать) на том основании, что «государя тут нет»{619}. Более обстоятельно характеризовал поведение крамольного князя И. И. Смирнов, по мнению которого И. М. Шуйский «открыто выступил против царя, заявив об отказе целовать крест на имя Дмитрия»{620}. При этом князь, полагает исследователь, «обусловил свой отказ чисто формальными мотивами: «что им не перед государем целовати не мочно: перед кем им целовати, коли государя тут нет». Но значение выступления кн. И. М. Шуйского определялось не характером его аргументации (искусственность которой была очевидна), а самим фактом того, что в его лице против царя выступал виднейший представитель княжат, глава наиболее мощной боярской группировки, державшей власть в годы боярского правления»{621}. А. А. Зимин увидел в поступке Шуйского невинное, можно сказать, желание уклониться от присяги царевичу Дмитрию{622}. По мнению Р. Г. Скрынникова, перед началом церемонии крестоцелования наследнику «боярин князь И. М. Шуйский с полным основанием протестовал против нарушения традиций, принесения присяги в отсутствие царя… Протест старшего из бояр носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу. Причиной недовольства Шуйского и других старейших бояр было то обстоятельство, что руководить церемонией присяги было поручено не им, а молодым боярам князьям И. Ф. Мстиславскому и В. И. Воротынскому»{623}. В книге «Царство террора» Р. П. Скрынников рисовал похожую картину{624}. Однако в других изданиях, посвященных, например, Ивану Грозному как деятелю русской истории, встречаются противоречивые и даже взаимоисключающие суждения. В одном случае Р. Г. Скрынников пишет: «Перед началом церемонии (присяги Дмитрию. — И.Ф.) боярин князь Иван Шуйский заявил, что крест следует целовать в присутствии царя, но его протест вовсе не означал отказа от присяги по существу. Причиной недовольства старейшего боярина было то, что руководить церемонией поручили не ему, а молодому боярину Воротынскому»{625}. В новом варианте книги об Иване Грозном автор говорит: «Торжественное начало (церемонии присяги царевичу. — И.Ф.) омрачилось тем, что старший боярин отказался от присяги… Протест Шуйского носил формальный характер. Руководить присягой мог либо сам царь, либо старшие бояре. Вместо этого церемония была поручена Воротынскому»{626}. В результате получается какая-то запутанная комбинация: Иван Шуйский то отказывается от присяги, то протестует, а если отказывается, то по формальным соображениям, а не по существу. Что означает все это, приходится лишь догадываться. Согласно И. Грале, поведение И. М. Шуйского не имело крамольного смысла. «Кульминация кризиса, — говорит он, — наступила 12 марта, когда царь потребовал присяги от всех членов Боярской думы. По его поручению присягу принимали члены Ближней думы во главе с князьями Мстиславским и Воротынским. Этому воспротивился предводитель Думы князь Иван Михайлович Шуйский, заявивший, что крест следует целовать только в присутствии царя»{627}. Далее И. Граля замечает: «Нежелание князя Ивана Михайловича Шуйского принимать присягу в отсутствие царя обычно трактовалось как отказ от декларации верности царевичу, прикрытый надуманной причиной, а также как проявление отрицательного отношения к наследнику представителей знатных княжеских родов, особенно могущественного рода ростово-суздальских князей»{628}. И. Граля думает иначе: «Но есть основания для того, чтобы трактовать слова Шуйского дословно — как проявление ущемленной гордости Рюриковича и представителя Думы, поскольку представлять царя было поручено не ему, а Мстиславскому и Воротынскому, людям менее знатного происхождения, что он расценивал как покушение на положение своего рода. Слова Шуйского не совпадают с высказываниями противников наследника, приведенными в записи, а в его дальнейшей карьере нет и малейшего следа царской немилости»{629}. Здесь И. Граля близок к точке зрения Р. Г. Скрынникова. В том же духе рассуждает А. Л. Хорошкевич. По ее словам, заявление И. М. Шуйского «было следствием ущемленной гордости Рюриковича и представителя Думы, которому не поручили ответственное и почетное дело (так полагает И. Граля{630}), поставив тем самым даже ниже думных дворян (Адашева и Вешнякова), присягавших непосредственно самому царю»{631}. Наконец, в исторической литературе высказывалось сомнение относительно того, имел ли место вообще эпизод с Шуйским, запечатленный в приписке к Царственной книге. «Поскольку данная приписка, — рассуждал Г. В. Абрамович, — сделана более чем через 10 лет после 1553 г., уже в период опричнины, ей нельзя придавать серьезного значения»{632}. Подтверждение своей мысли Г. В. Абрамович находил в благожелательном отношении Грозного к И. М. Шуйскому после 1553 года: «Отправляясь в 1555 г. в Коломенский поход, Иван IV оставляет в Москве в качестве советников при слабоумном брате царя Юрии, которому формально было поручено управление столицей в отсутствие царя, именно И. М и Ф. И. Шуйских»{633}. Метод, применяемый Г. В. Абрамовичем для определения достоверности источника, нам представляется сомнительным, ибо сам по себе факт появления письменных сведений о тех или иных событиях позже этих событий не может служить критерием их доброкачественности. Больше того, нередко бывает так, что подлинный смысл произошедшего познается лишь по истечении времени, причем длительного времени. Что касается решения царя, оставившего Ивана Шуйского советником при брате Юрии на время своего Коломенского похода в 1555 году, то оно не может быть истолковано как свидетельство, исключающее неповиновение князя Шуйского государю, проявленное им в марте 1553 года. Г. В. Абрамович прибегает к порочному, на наш взгляд, доводу: коль Грозный положительно относился к И. М. Шуйскому после 1553 года, поручив ему быть советником при брате Юрии Васильевиче в 1555 году, — значит, не было и непокорства князя, когда возникла необходимость присяги на имя царевича Дмитрия. В том-то и дело, что имело место и непокорство, и почетное поручение. Почему так вышло, скажем ниже. А сейчас вернемся в Переднюю избу, где разыгралась настоящая драма. С. В. Бахрушин и И. И. Смирнов, думается нам, правы: Иван Шуйский отказался целовать крест наследнику престола. Но сделал он это под внешне благовидным предлогом: «не перед государем целовати не мочно». С формальной точки зрения Шуйский имел основания поступить подобным образом. Однако то была формальность, которая переходила в существо вопроса: присягать или не присягать. Иван Шуйский избрал второе. Поэтому не следует, на наш взгляд, рассуждать так, будто протест Шуйского «носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу». Перед нами та формальность, о которой говорят: по форме правильно, а по существу издевательство. Свой отказ от присяги по существу И. М. Шуйский завуалировал формальной причиной. Целовать крест царевичу Дмитрию князь, как видно, не хотел и потому свел всю проблему к отсутствию государя на церемонии присяги. Он ведь ничего не сказал насчет замены молодых бояр, руководивших присягой, боярами старшими{634}, поскольку понимал, что произвести такую замену проще и легче, чем вынудить изнемогающего от хвори государя быть при утомительной процедуре крестоцелования. И тогда присяга могла бы состояться. А этого-то заговорщикам и не хотелось. Вот почему Шуйский сосредоточил внимание на царе Иване, требуя его присутствия на крестоцеловальной церемонии, открыто проявив тем самым несогласие с государем, т. е. неповиновение ему. Недаром автор приписки заметил, что Шуйский «учал противу государевых речей говорити». Это был хорошо рассчитанный беспроигрышный маневр. В самом деле, если бы царь отсутствовал во время присяги, ее можно было бы попытаться сорвать, что, собственно, Шуйский и затеял; а если бы крестоцелование проходило в присутствии государя, на чем настаивал титулованный оратор, то эта уступка обнаружила бы слабость Ивана IV перед боярами, побудив их к новому самовольству. Однако в любом случае открытое неповиновение столь знатной персоны распоряжениям Грозного создавало атмосферу вседозволенности. Ситуация усугублялась для царя Ивана тем, что И. М. Шуйский говорил не от себя лично, а от лица «всех бояр» (за исключением, разумеется, ближних), или Боярской Думы, о чем свидетельствует летописная фразеология: «им целовати не мочно»; «перед кем им целовати». Правда, можно подумать, что местоимение «им» обозначает представителей рода Шуйских — членов Боярской Думы. Но это было бы так, если бы Иван Шуйский возражал непосредственно против церемонии присяги, руководимой Иваном Мстиславским и Владимиром Воротынским. Он же был озабочен не частным случаем, а общим правилом порядка крестоцелования наследнику престола, предусматривающим присутствие государя на церемонии присяги, т. е. правила, затрагивающего интересы всей Боярской Думы. Вот почему акция Ивана Шуйского (на это, кстати сказать, не обращалось должного внимания в историографии) была не индивидуальной или узкоклановой, а коллективной, за которой стояла Боярская Дума, во всяком случае, ее большинство, кроме, разумеется, Ближней Думы, которая, как мы видели на примере князя Дмитрия Палецкого, князя Дмитрия Курлятева, Никиты Фуникова и тщательно скрывавшего свои замыслы Алексея Адашева, не была, однако, монолитной. Заявление И. М. Шуйского послужило сигналом для других. Вслед за ним (видимо, по заготовленному сценарию) выступил окольничий Ф. Г. Адашев, который молвил: «Ведает Бог даты, государь: тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем, а Захарьиным нам Данилу с братнею не служивати; сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нами Захарьиным Данилу з братиею; а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многий». Выслушав старшего Адашева, «царь и великий князь им молыл. И бысть мятеж велик и шум и речи многия въ всех боярах, а не хотят пеленичнику служити»{635}. Как понять Адашева-отца? Еще в досоветской историографии высказывались мнения о том, что Федор Адашев оказал явное сопротивление присяге царевичу Дмитрию{636}, что он смело отказался присягать наследнику{637}, не желая воцарения Дмитрия{638}. Аналогичные суждения встречаем и в советской исторической литературе. Отец А. Адашева, согласно С. В. Бахрушину, открыто и категорически отказался присягать Дмитрию{639}. Столь же определенно охарактеризовал поступок Ф. Г. Адашева и другой знаток истории России XVI века, И. И. Смирнов, по словам которого тот «не только отказался целовать крест на имя царевича Дмитрия, но и открыто выступил против Захарьиных»{640}. И. И. Смирнов пришел к важному заключению о том, что характер позиции Алексея Адашева «в борьбе вокруг кандидатуры преемника Ивана Грозного определял не этот формальный акт, а поведение его отца, окольничего Ф. Г. Адашева»{641}. О сопротивлении Ф. Г. Адашева присяге царевичу писал Б. Н. Флоря{642}. Другие современные историки пытались смягчить заявление Ф. Г. Адашева, придав ему хотя бы отчасти позитивный смысл. Так, А. А. Зимин полагал, будто «Ф. Г. Адашев согласился принести присягу царю и Дмитрию, но при этом сделал оговорку…»{643}. В другой раз А. А. Зимин, разгорячившись, видно, в полемике с И. И. Смирновым, высказался еще решительнее, заявив, будто Ф. Г. Адашев «присягнул Дмитрию, но опасался повторения тех же боярских распрей при малолетнем царевиче, какие были в «несовершенные лета» Ивана IV»{644}. По В. Б. Кобрину, «отец Алексея Адашева боярин Федор Григорьевич, согласно официальной летописи, говорил царю, что хотя он и поцеловал крест царевичу Дмитрию, но все же испытывает сомнения…»{645}. В исторической науке обозначилась также тенденция представить Ф. Г. Адашева всецело лояльным по отношению к царю Ивану и, таким образом, снять с него вину за «мятеж», возникший в Боярской Думе. Так, по С. Б. Веселовскому, смысл «заявления Федора Адашева ясен: он не склонялся на сторону кн. Владимира, а указывал царю на необходимость назначить таких авторитетных регентов, которые были бы в состоянии предотвратить боярское своеволие в правление недостаточно авторитетных Захарьиных»{646}. С. Б. Веселовский подменяет факты, содержащиеся в данной части интерполяции, своей трактовкой этих фактов, украшенной догадками ученого. Приписка сообщает о том, что Федор Адашев, выражая согласие целовать крест царю Ивану и царевичу Дмитрию, заявил об отказе служить Захарьиным, что могло статься, если целовать крест наследнику и в случае смерти государя. Старший Адашев напомнил Ивану о бедах времен его несовершеннолетия. Как видим, это не совсем то, о чем говорит С. Б. Веселовский. Наиболее заметным проводником идеи лояльности Ф. Г. Адашева Ивану IV является Р. Г. Скрынников. Сопоставление его работ, написанных в разное время, наглядно показывает, как усиливалась эта тенденция. В книге «Начало опричнины», появившейся в 1966 году, читаем: «В день присяги 12 марта 1553 г. окольничий Ф. Г. Адашев заявил, что целует крест царю и его сыну, а «Захарьиным нам Данилу з братиею не служивати: сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нам Захарьиным Данилу з братиею, а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многия». Заявление Ф.ГАдашева не имело ничего общего с поддержкой Старицких»{647}. Р. Г. Скрынников прямо не говорит, но из цитированных слов следует, что Ф. Г. Адашев не отказывался целовать крест царевичу, как и его сын Алексей, который «присягнул наследнику без всяких оговорок»{648}. Различие между отцом и сыном, стало быть, состояло в том, что первый сопроводил свою готовность присягнуть наследнику определенными условиями, а второй принес присягу без каких бы то ни было условий. Несмотря на спорность подобной трактовки, она все-таки ближе к летописному тексту, чем последующие аналогичные опыты автора. Однако уже здесь историк допускает неточность, с виду несущественную, но по сути важную. У Р. Г. Скрынникова окольничий Ф. Г. Адашев заявляет, что целует крест царю и его сыну, тогда как в источнике сказано: «тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». Кому-нибудь это покажется мелочью. Но эта «мелочь» меняет ситуацию, высвечивая своеобразную роль старшего Адашева в событиях 1553 года, о чем скажем чуть ниже. К сожалению, такого рода неточности будут возобновляться в последующих работах Р. Г. Скрынникова. Так, в книге 1975 года об Иване Грозном говорится: «Близкий к царю Федор Адашев заявил, что целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями. «Мы уже от бояр до твоего (царя) возрасту беды видели многие», — заявил он при этом. Таким образом, Адашев вслух выразил разделявшуюся многими тревогу по поводу опасности возврата к боярскому правлению»{649}. Как видим, исследователь повторяет здесь допущенную ранее неточность, пользуясь словом целует (единственное число) вместо фигурирующего в летописи слова целуем (множественное число){650}. Мало того, он усугубляет эту неточность, привнося в летописный рассказ свои вымыслы. Согласно летописцу, Федор Адашев вел речь о целовании креста государю и его наследнику, а не одному наследнику, как получается у Р. Г. Скрынникова. Присягать царю с наследником или только наследнику — вещи разные. И не замечать этого — значит, не до конца понимать суть происходившего в царском дворце. Р. Г. Скрынников приписал Ф. Г. Адашеву совершенно нелепое заявление о том, что он «целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями», поскольку в данном случае Данило с братьями абсолютно неуместен: никто не предлагал, не мог предлагать Адашеву или кому бы то ни было целовать крест Даниле с братьями{651}. Подобная неряшливость изложения событий противопоказана ученому. И очень жаль, что она прокралась в позднейшие труды историка. В книге «Царство террора» (1992) он говорит: «Выступив после Шуйского, окольничий Ф. Г. Адашев обратился к думе со следующим заявлением: «Ведает Бог да ты, государь: тебе, государю, и сыну твоему царевичю Дмитрею крест целуем [и дальше по тексту]». Протест Ф. Г. Адашева дал повод для инсинуаций. В письме Курбскому Грозный прямо приписал Алексею Адашеву намерение «извести» царевича Дмитрия»{652}. Все это — наветы, считает Р. Г. Скрынников: «Отец А. Адашева недвусмысленно высказался за присягу законному наследнику, но при этом выразил неодобрение по поводу регентства Захарьиных»{653}. Федор Адашев обратился не к Думе, как утверждает Р. Г. Скрынников, а к царю, что с очевидностью явствует из цитированного самим же исследователем летописного текста. Опять-таки следует заметить, что Ф. Г. Адашев выразил согласие присягать государю и его сыну, а не одному наследнику престола. Несколько идеализирует Ф. Г. Адашева и И. Граля. «Окольничий Федор Адашев, — говорит он, — выразил опасение, что присяга на верность царевичу может усилить власть его дядьев Захарьиных»{654}. И. Граля считает необоснованной интерпретацию заявления Федора Адашева «как протеста против царской воли и доказательства участия его сына Алексея в заговоре против наследника Дмитрия. Содержание заявления не дает оснований для таких выводов. На самом же деле Адашев, говоря, как можно думать, от имени группы лиц, представителей незнатных родов, выразил свою и их готовность к присяге наследнику трона, но высказал при этом опасение по поводу регентства Захарьиных. Он сослался на недобрый прецедент боярского правления в период несовершеннолетия самого Ивана»{655}. И. Граля, как и Р. Г. Скрынников, допускает неточность, заявляя о готовности Федора Адашева присягнуть наследнику трона, тогда как в летописи говорится о его готовности целовать крест Ивану и Дмитрию в связке. Не избежал аналогичной неточности и В. В. Шапошник: «Окольничий Федор Григорьевич Адашев (отец Алексея) сказал о том, что было, вероятно, на уме у многих, — они целуют крест именно Дмитрию, а не Захарьиным»{656}. Ничего такого Ф. Г. Адашев, как мы знаем, не говорил. Во избежание подобных недоразумений следует внимательно относиться к летописному тексту. Версию, придающую безобидный характер (по отношению к царю) речи Федора Адашева в Передней избе, развивает А. И. Филюшкин: «В марте 1553 г., согласно приписке к Царственной книге, Ф. Г. Адашев активно выступал против регентства Захарьиных во время споров, проходивших во время принесения присяги царевичу Дмитрию. Фактически это должно было бы означать «бунт» против предсмертного желания царя. Однако этот факт (если он, конечно, имел место) никакого отрицательного влияния на карьеру Федора Григорьевича не оказал. Уже через месяц (в мае — июне) он получил боярство»{657}. Следовательно, «должно было бы означать», но не означило. В дискуссии исследователей о том, соглашался или не соглашался Федор Адашев целовать крест царевичу Дмитрию, мы принимаем сторону тех, кто говорил об отказе Адашева присягать наследнику. При этом считаем необходимым привести некоторые дополнительные соображения по поводу действий Ф.Г.Адашева в тот памятный мартовский день 1553 года. На наш взгляд, выступления боярина князя Ивана Шуйского и окольничего Федора Адашева не были стихийными и разрозненными, а являлись заранее предусмотренной единой акцией неповиновения государю, переходящей (будь она успешна) в захват высшей власти. Весьма красноречив в данном отношении тот факт, что Адашев, как и Шуйский, говорил не от собственного имени, а от лица «всех бояр», т. е. Боярской Думы (или большинства ее), о чем свидетельствуют употребляемые им выражения: «крест целуем»; «нам не служити»; «владети нами»; «мы уже от бояр видели беды многие». Но такого рода выступление требует предварительной согласованности, договоренности, сговора, что вполне соответствует заговору. Довольно любопытна и формула присяги, предложенная Федором Адашевым: «тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». Стало быть, Адашев изъявил согласие (свое и Думы) присягнуть одновременно государю и наследнику, тогда как царь Иван хотел привести бояр «к целованию на царевичево княже-Дмитреево имя»{658} и потому «начал им говорити, чтобы они целовали крест к сыну его царевичю Дмитрею»{659}. Со стороны Ф. Г. Адашева и его единомышленников то была хитрость, уловка: строптивцы вроде бы не отступали от Ивана, но, умри царь (а на это они очень надеялись), присяга утратила бы силу, и тогда можно было бы распорядиться московским троном по-своему. К этому надо добавить, что поведение Адашева-отца не может рассматриваться вне связи с позицией Адашева-сына в борьбе вокруг кандидатуры преемника Ивана IV, поскольку здесь очевидна их взаимозависимость{660}. Таким образом, выступления Ивана Шуйского и Федора Адашева преследовали одну конечную цель: воспрепятствовать целованию креста на имя царевича Дмитрия. Открытое неповиновение царю двух влиятельных деятелей (один был «принцем крови», а другой — отцом всесильного временщика) возбудило страсти: «И бысть мятеж велик и шум и речи многия въ всех боярех, а не хотят пеленичнику служити»{661}. Значит, Боярская Дума (или ее большая часть{662}), солидарная со своими лидерами, отказалась присягать царевичу Дмитрию, проявив явное непослушание государю, что было равносильно бунту, хотя и, так сказать, тихому, пассивному, т. е. не сопровождавшемуся насилием{663}. Едва ли поэтому прав А. А. Зимин, когда говорит, что «события 1553 г. не были ни боярским мятежом, ни заговором. Царственная книга сообщает лишь о толках в Боярской думе»{664}. Нельзя согласиться и с Р. Г. Скрынниковым, по словам которого «ближайшее рассмотрение обнаруживает ряд противоречий в летописном рассказе. Утверждение насчет мятежа в Думе автор летописи не смог подтвердить ни одним конкретным фактом. Во-первых, он не мог назвать ни одного члена Думы, который бы отказался от присяги наследнику. Во-вторых, из его собственного рассказа с полной очевидностью следует, что прения в Боярской думе в день присяги носили вполне благонамеренный характер»{665}. Мысль о благонамеренности, царившей якобы «в Боярской думе в день присяги», опрокинул позже сам Р. Г. Скрынников, заявив, что «фактически дело шло к государственному перевороту»{666}. Здесь исследователь сближается с И. И. Смирновым, который в свое время писал: «Боярский «мятеж», вспыхнувший в марте 1553 г., явился одной из первых попыток враждебных Ивану IV княжеско-боярских кругов открыто выступить против политики царя и захватить власть в свои руки»{667}. Мятежники, по И. И. Смирнову, стремились осуществить переворот в пользу Владимира Старицкого{668}. Принимая мысль И. И. Смирнова о мартовском «мятеже» 1553 года как попытке государственного переворота и захвата власти с возведением на московский престол князя Старицкого, нельзя, однако, согласиться с ним в том, что этот «мятеж» был поднят одной лишь княжеско-боярской знатью, тоскующей по прошлым сеньориальным вольностям. Д. Н. Альшицу удалось убедительно доказать, что разделение участников мартовских событий 1553 года «не совпадает с их разделением по социальному происхождению, по занимаемому общественному положению. Поэтому всякое распределение их по графам той или иной предвзятой схемы является искусственным, противоречащим источнику и навязывающим автору рассказа (о событиях марта 1553 года. — И.Ф.) то, чего он не хотел сказать. Автор приписки делит героев своего рассказа на две, и только на две группы: на тех, кто оставался верен царю, и на тех, кто оказался враждебным ему и его роду, проявив свою измену в той или иной форме. Как в ту, так и в другую группу совершенно одинаково попадают родовитые князья и бояре наряду с дворянами весьма незнатного рода»{669}. Все это создавало для царя Ивана более опасную, чем сословный мятеж, ситуацию, поскольку втягивало в политическую борьбу представителей различных групп господствующего класса, расширяя тем самым социальную базу противников самодержца. О том, насколько высокой была степень опасности, с которой столкнулся Иван IV в марте 1553 года, свидетельствуют не только военные приготовления Старицких, дерзкое неповиновение государю Боярской Думы и смешанный сословный состав «мятежников», но и загадочное отсутствие митрополита Макария на протяжении всей истории кремлевских потрясений. Историки обратили внимание на это странное, прямо скажем, выходящее из ряда вон обстоятельство и попытались уяснить, почему так случилось. Мнения, естественно, звучали разные. С. Б. Веселовский говорил: «Отсутствие царского духовника и митрополита Макария при написании духовной можно было бы объяснить крайней поспешностью действий и болезненным состоянием царя, но, к удивлению, и в последующие дни мы не видим этих обычных участников предсмертных дум и действий московских государей. По церковным правилам приводить ко кресту мог только священник. В частном обиходе можно было подкреплять свое слово целованием креста, иконы и какой-либо «святости». Так, например, поступали заговорщики и крамольники, чтобы не выносить, что называется, сора из избы приглашением священника, но присяга наследнику престола без участия духовенства была совсем необычным актом»{670}. По С. Б. Веселовскому, «больной царь и его ближайшие советники» отстранили от участия в мартовских событиях 1553 года «всеми уважаемого митрополита Макария»{671}. Согласно С. В. Бахрушину, митрополит Макарий, «отнюдь не боец, человек уступчивый, всегда терпеливо сносивший, когда в пылу борьбы та или иная сторона наступала на подол его святительской мантии», действовавший «уклончиво и осторожно», как бы самоустранился, в стороне ожидая исхода схватки за власть в марте 1553 года{672}. Макарий, по словам С. В. Бахрушина, «выступал во всех торжественных случаях с красноречивыми речами и посланиями, но в такой ответственный момент, когда в марте 1553 г. решалась судьба династии, мы слышим только голос Сильвестра и не видим никаких попыток со стороны Макария оказать воздействие на непокорных, в полную противоположность поведению его предшественника Даниила в момент смерти Василия III»{673}. Близкую к точке зрения С. В. Бахрушина идею высказал С. О. Шмидт, отметивший «нечеткую позицию митрополита в вопросе о престолонаследии (в момент тяжкой болезни Ивана IV в 1553 г.)»{674}. Зато И. И. Смирнову версия С. В. Бахрушина показалась неубедительной, поскольку «и само положение Макария как главы церкви, и та активная роль, которую Макарий играл в политической жизни 40–50-х годов, исключают возможность того, чтобы Макарий оставался вне политической борьбы, развернувшейся в марте 1553 г.»{675}. И. И. Смирнов говорит, что ему, «в отличие от Бахрушина, представляется более правильным видеть в молчании о Макарии источников, относящихся к боярскому «мятежу» 1553 г., не показатель политической пассивности Макария, а нечто совсем иное: тенденциозное стремление этих источников скрыть действительную роль и позицию Макария во время мартовского «мятежа» 1553 г.»{676}. В частности, Царственная книга обнаруживает, согласно И. И. Смирнову, «сознательное стремление умолчать о Макарий», несмотря на то, что «свершение» духовной Ивана происходило в присутствии святителя, «который как митрополит должен был скрепить своей подписью царскую духовную»{677}. В чем причина столь странного умолчания? Оказывается, «Макарий в какой-то форме или степени во время мартовского «мятежа» разделял позицию Сильвестра и Адашева»{678}. Поэтому автор внесенного в Царственную книгу рассказа о мартовских событиях 1553 года не хотел, очевидно, «компрометировать Макария, связывая его имя с борьбой, направленной против Ивана IV (особенно, если учесть, что, по-видимому, рассказ Царственной книги был составлен уже после смерти Макария). Это и заставило автора рассказа вовсе умолчать о позиции и поведении Макария во время боярского «мятежа»{679}. И. И. Смирнов заключает: «Итак, молчание источников о Макарии в связи с мартовскими событиями 1553 г., как мне кажется, свидетельствует не о политической пассивности Макария, а о том, что он в какой-то мере оказался втянутым в борьбу политических группировок за власть и при том не в числе сторонников царевича Дмитрия»{680}. С основным выводом И. И. Смирнова, будто митрополит Макарий склонялся на сторону противников царя Ивана, согласиться, по нашему убеждению, невозможно. Все, что нам известно о Макарии, все, что уже приведено было нами выше касательно его, безусловно, говорит о верности главы православной церкви русскому самодержцу. Твердое стояние в православной вере, молитвенное окормление апостольской церкви, стойкая приверженность идее самодержавия, постоянная забота о союзе церкви и государства, выраженном в учении о симфонии духовной и светской властей, единстве священства и царства — все это явилось непреодолимой преградой между митрополитом Макарием, с одной стороны, и Сильвестром и Адашевым — с другой. Следовательно, русский архипастырь не мог по определению стать в ряд противников Ивана IV. Не поэтому ли точка зрения И. И. Смирнова осталась длительное время не востребованной в исторической науке{681}. Исследователи старались найти другое объяснение столь неординарному случаю. Н. Е. Андреев, к примеру, высказал догадку о том, что Макарий попросту отсутствовал в Москве в те неспокойные мартовские дни{682}. По мнению А. Л. Хорошкевич, митрополит Макарий хотя и склонялся к кандидатуре Владимира Старицкого, но отнюдь не по политическим соображениям, поскольку являлся верным и последовательным сторонником Ивана IV, а исходя из оценки человеческих качеств претендентов на престол: «пеленочник» Дмитрий решительно проигрывал «мудрому» и «одаренному военачальнику» Владимиру{683}. «Противопоставлять такой кандидатуре младенца Дмитрия, — пишет А. Л. Хорошкевич, — было действительно трудно. Этим обстоятельством объясняется, по-видимому, и отсутствие среди присягавших митрополита»{684}. Р. Г. Скрынников, опубликовавший книгу «Начало опричнины» вскоре после «Очерков» И. И. Смирнова, развивал поначалу идеи, близкие к представлениям С. В. Бахрушина: «Митрополит Макарий, благополучно управлявший церковью при самых различных правительствах, не склонен был участвовать в борьбе между Захарьиными и Старицкими. Примечательно, что в летописных приписках вовсе не названо имени Макария, не отмечена его роль в утверждении царской духовной и церемонии присяги, немыслимых без его участия. Последний момент наводит на мысль, что митрополит Макарий, «великий» дипломат в рясе, предпочел умыть руки в трудный момент междоусобной борьбы»{685}. В первом издании книги об Иване Грозном находим схожий, но несколько видоизмененный текст: «Исход династического кризиса зависел в значительной мере от позиции церкви. Но официальное руководство церкви ничем не выразило своего отношения к претензиям Старицких. Замечательно, что летописные приписки вовсе не называют имени Макария и не упоминают о его присутствии на церемонии присяги, немыслимой без его участия. Это наводит на мысль, что ловкий владыка предпочел умыть руки в трудный час междоусобной борьбы и сохранил нейтралитет в борьбе между Захарьиными и Старицкими»{686}. Не касаясь пока вопроса о позиции митрополита Макария в мартовских событиях 1553 года, заметим, однако, что Р. Г. Скрынников смещает смысловые акценты «мятежа», сводя его к борьбе между Захарьиными и Старицкими. Эта борьба, конечно, имела место, но не она являлась главной осью, вокруг которой вращались данные события. Соперничество Захарьиных и Старицких представляло собой поверхностную возню двух кланов, под видимым покровом которой происходило главное: столкновение двух группировок — сторонников и противников русского самодержавия, от исхода противостояния которых зависело будущее России и, разумеется, будущее русской церкви, а значит, зависела личная судьба Макария. Понятно, что персонально это противоборство концентрировалось на Иване IV, воплощавшем «истинное христианское самодержавство». Ясно также и то, что митрополит Макарий в данном случае не мог «умыть руки» и оставить самодержца, им же венчанного, без церковной опоры и поддержки, обрекая вместе с ним и себя на погибель. Слабые основания идеи о нейтралитете святителя в мартовских событиях 1553 года осознал, очевидно, сам Р.Г.Скрынников. И поэтому, вероятно, он со временем попытался иначе истолковать поведение Макария в те дни. Теперь полное умолчание о роли митрополита Макария и духовника царя Андрея в событиях 1553 года Р. Г. Скрынников объясняет тенденциозностью летописного рассказа. «Глава церкви, — говорит историк, — не подвергался опале и до последних дней пользовался исключительным уважением Грозного. Почему же в рассказе о событиях 1553 года имя Макария даже не упомянуто? Это тем более удивительно, что по традиции умирающий государь поступал на попечение митрополита и духовенства, которые должны были позаботиться об устроении его души. По-видимому, болезнь царя была связана с обстоятельствами, о которых он не хотел вспоминать и о которых можно только догадываться»{687}. Р. Г. Скрынников задается вопросом: «Не связано ли это со стремлением обойти деликатный вопрос о пострижении умирающего монарха?» Вопрос этот кажется исследователю тем более уместным, что в то время обычай пострижения уходящего в мир иной государя уже стал, как он полагает, наследственным в роду Калиты{688}. Пораженный «тяжким огненным недугом» царь Иван, полагает Р. Г. Скрынников, «надолго терял сознание»{689}, «впадал в беспамятство и не узнавал людей»{690}. Казалось, он умирает. «Не лишено вероятности, — говорит историк, — что с одобрения регентов Захарьиных Макарий и старцы возложили на полумертвого царя чернеческое платье. Конечно, это предположение не является доказанным. Но некоторые признаки его подтверждают. В годы опричнины Иван IV подолгу носил иноческое платье и с большим усердием разыгрывал роль игумена в созданном им подобии опричного монастыря в Александровской слободе. Грозный знал, что его отец собирался постричься в Кирилло-Белозерском монастыре, и сам готовился к этому»{691}. Из-за этого посвящения в монахи «полумертвого», но неожиданно выздоровевшего царя автор рассказа о мартовских событиях 1553 года и не упомянул митрополита Макария, обойдя тем самым, по Р. Г. Скрынникову, «деликатный вопрос о пострижении умирающего монарха». К сожалению, приходится признать, что выдвинутое Р. Г. Скрынниковым предположение не только, как он выражается, не доказано, но и не доказуемо. Утверждения исследователя, будто больной государь «надолго терял сознание», «впадал в беспамятство и не узнавал людей», выходят за рамки летописного рассказа о болезни царя в марте 1553 года, привнося в него не свойственные ему подробности. Этот рассказ позволяет нам говорить лишь о том, что Иван IV, будучи в тяжелом состоянии, порой с трудом узнавал людей, не больше. На всем протяжении повествования летописи нет ни одного указания на то, что у больного монарха наступало бессознательное состояние. Были моменты, когда он «изнемога велми», когда ему было «истомно» и, по собственному признанию, «не до того», чтобы увещевать крамольных бояр и князя Старицкого{692}. Но при всем том он пребывал в разуме, и никто не мог видеть государя «полумертвым». «Признаки» и «дополнительные данные», приводимые Р. Г. Скрынниковым для подтверждения своего столь заманчивого и, пользуясь лексикой известного писателя, «зернистого» предположения, совершенно не оправдывают надежд исследователя, дошедшего, наверное, незаметно для себя до чересчур нестандартных умозаключений. Так, догадку о «пострижении умирающего» царя Ивана историк подтверждает тем, что впоследствии Иван «готовился постричься» в Кирилло-Белозерском монастыре. Очень трудно взять в толк, зачем царю пришло в голову «готовиться постричься», если уже постригся раньше. Чтобы избавиться от подобного недоумения, придется измышлять новые недоказанные предположения, одно искусственнее другого. Можно, скажем, предположить, что Иван Грозный самовольно или с согласия и помощью того же «дипломата в рясе» митрополита Макария сложил с себя иноческий чин и стал расстригой на троне, так сказать, предтечей Гришки Отрепьева. Не нравится это предположение, можно выдвинуть другое: царь Иван готовился принять двойной постриг, решившись на святотатство. Думается, такого рода предположения отвергнет и сам Р. Г. Скрынников, тем более что, по его убеждению, «Иван относился к иноческому житию очень серьезно и не был склонен к пародии или профанации идеала монашества»{693}. Надо только быть последовательным и не профанировать царя Ивана легковесными предположениями. Что касается ношения монашеского платья и роли игумена, разыгрываемой царем в Александровой слободе, то одной из причин этого была внутренняя тяга самодержца к монашеству и монашеской жизни, давнее желание принять постриг. Это свое желание государь явил в Послании инокам Кирилло-Белозерского монастыря (1573){694}. Впечатлительный Иван чувствовал себя так, будто он наполовину уже монах: «И мне мнится, окаянному, яко исполу есмь чернец»{695}. К тому же «общежитийный монастырь, в котором у монахов отсутствовали особое имущество и особые занятия, в котором весь распорядок жизни подчинялся нормам устава, определяемым суровой волей настоятеля, чем дольше, тем больше становился для царя идеальным образцом человеческого сообщества»{696}. Итак, нет никаких оснований говорить о совершении митрополитом Макарием и старцами обряда пострижения над «полумертвым Иваном». Следовательно, умолчанию имени митрополита в рассказе Царственной книги о событиях 1553 года надо искать иное объяснение, чем предлагает Р. Г. Скрынников в последних своих работах{697}. Заметим кстати, что И. Граля, опубликовавший обширное исследование о деятельности посольского дьяка Ивана Висковатого после того, как Р. Г. Скрынников высказал уже версию о пострижении «полумертвого Ивана», обошел ее стороной, вспомнив лишь ту, что представлена в книге «Начало опричнины»{698}. Сам И. Граля определяет позицию митрополита Макария как пассивную, имевшую «логическое обоснование — политическая ситуация во время болезни царя была настолько неясной, что занятие чьей бы то ни было стороны было сопряжено с серьезным риском. Ставка не на того кандидата могла легко привести митрополита к утрате престола, как это было с митрополитом Иоасафом в 1542 г. Падение Бельских и приход к власти Шуйских обеспечили самому Макарию при поддержке придворной клики трон митрополита. Возможное регентство Захарьиных не давало митрополиту достаточных гарантий безопасности; дворцовые интриги и борьба партий когда-то вынесли его наверх, но в 1543 г. после расправы Шуйских с Федором Воронцовым они же явили ему болезненную зависимость главы церкви от капризов правящей боярской фракции. Победа Старицких, столь же ненадежная, не сулила Макарию особых выгод — для князя Владимира митрополит был запятнан личным участием в подавлении бунта его отца, Андрея Ивановича, в 1537 г. Итак, менее рискованным был нейтралитет, в котором Макария могли укрепить зримые знаки царской немилости последних лет»{699}. Идея о пассивности и нейтралитете митрополита Макария во время «боярского мятежа» 1553 года, как мы уже старались показать, несостоятельна. Насчет же «знаков царской немилости» по отношению к святителю следует сказать, что если таковые имели место, то были инспирированы группой Сильвестра — Адашева, пришедшей к власти после июньского восстания в Москве 1547 года. Было бы, однако, правильнее говорить о некотором охлаждении царя к митрополиту, возникшем под влиянием интриг Избранной Рады и ее вождей Сильвестра и Адашева, пользовавшихся какое-то время безраздельным доверием Ивана IV. Но самодержцу и святителю все-таки удалось преодолеть возникшее было отчуждение между ними и восстановить былое взаимопонимание и сотрудничество, что особенно наглядно проявилось в 1552 году, когда царь Иван, уходя в поход на Казань, оставил вместо себя на Москве митрополита Макария, доверив ему свой дом и государство. Поэтому творцы мартовского кризиса 1553 года не тешили себя иллюзией относительно того, какую позицию в нем займет Макарий. Они и поступили с митрополитом в соответствии со своим прогнозом. Но чтобы понять, как это было, необходимо вернуться к одной проницательной, по нашему мнению, догадке С.Б.Веселовского. Историк, как мы знаем, полагал, что митрополит Макарий не самоустранился от участия в мартовских событиях 1553 года, а был отстранен от него «больным царем и его ближайшими советниками»{700}. Мысль об отстранении представляется весьма правдоподобной. Не верится только, что виновником отстранения стал царь с верными ему людьми. Иван не был в этом заинтересован по двум причинам. Во-первых, Макарий являлся союзником и сотрудником государя в вопросах строительства Святой Руси, увенчанной «истинным христианским самодержавством». Во-вторых, именно Макарием и по его инициативе Иван IV был венчан на царство и упрочен как богоизбранный царь, воля которого непререкаема. В-третьих, неучастие митрополита в церемонии крестоцелования, противоречащее обычаю, ставило под сомнение сам факт крестоцелования и открывало возможность в дальнейшем оспорить присягу, объявив ее недействительной. К этому необходимо добавить красноречивое отсутствие при умирающем, как многим казалось, царе его духовника протопопа Андрея{701}, что являлось вопиющим нарушением христианского канона, делая предсмертные распоряжения государя, запечатленные в духовной грамоте, нелегитимными. Спрашивается, кому это было выгодно? Царю Ивану? Конечно же, нет. Это было выгодно противникам Ивана IV. Они, судя по всему, изолировали митрополита Макария, зная его проивановскую позицию, и помешали протопопу Андрею быть рядом с сыном своим духовным в его предсмертный час. Кстати сказать, отсутствие духовника у изголовья больного государя довольно показательно. Оно служит веским аргументом против предположения о пассивности и нейтралитете митрополита Макария, указывая скорее на нейтрализацию этих двух наиболее близких Ивану церковных деятелей, чем на их самоустранение, совершенно несовместимое со статусом главы церкви и духовного наставника. Изоляция митрополита Макария и протопопа Андрея преследовала одну цель: сорвать процедуру целования креста или сделать ее недействительной. Бесцеремонное обращение с митрополитом и духовником царя свидетельствует о том, какую огромную власть и силу сконцентрировали в своих руках противники русского «самодержавства». Царю, и без того измученному болезнью, пришлось неоднократно уговаривать крамольников. Р. Г. Скрынникову это показалось измышлением составителя приписки к Царственной книге: «Царские речи, без сомнения являются вымыслом. Иван был при смерти, не узнавал людей и не мог говорить. Но даже если бы он сумел что-то сказать, у него не было повода для «жестокого слова» и отчаянных призывов»{702}. Тут все построено на передержках, ибо речей Иван не произносил, если под ними разуметь не короткие разговоры, а долгие прения{703}. Все его так называемые речи умещаются в несколько фраз, произносимых если не в короткие секунды, то в считаные минуты. Составитель приписки не скрывает того, что государю порою, когда ему становилось хуже, трудно было говорить: «и яз с вами говорити не могу»; «бояре су, яз не могу, мне не до того»{704}. Будь увещевания царя вымыслом автора интерполяции, он вряд ли стал бы уточнять, каких трудов это государю стоило. Относительно того, будто царь не узнавал людей, мы знаем, что это — преувеличение. Царь «не мог говорить»? Это — тоже преувеличение, основанное на избирательном подходе к сообщениям Царственной книги, состоящем в безотчетном доверии к одним летописным известиям (тяжелая болезнь царя) и столь же безотчетном недоверии к другим («речи» царя) с последующим отрицанием того, во что не верится. Но при таком субъективном подходе к источнику можно с равным успехом поменять местами объекты веры и недоверия, заявив, что тяжкая болезнь царя является вымыслом, поскольку Иван произносил «речи» и вообще подавал признаки жизни{705}. Не правильнее было бы соответствовать источнику, изображая ситуацию, как она в летописи нарисована: несмотря на тяжелую болезнь, царь, превозмогая ее, говорил с боярами, доходя иногда до резких выражений. В частности, он словно хлестнул бояр словами: «Коли вы сыну моему Дмитрею крест не целуете, ино то у вас иной государь есть… и то на ваших душах». Это — прямое обвинение бояр в заговоре, измене и мятеже{706}, а также предупреждение, что вину за последствия этой крамолы они берут на себя{707}. Следует согласиться с И. И. Смирновым, который истолковал слова Ивана как ультиматум мятежникам, поставивший «бояр-мятежников перед перспективой прямой войны против них со стороны сторонников царя»{708}. После «жестоких слов» государевых бояре «поустрашилися и пошли в Переднюю избу целовати»{709}. Они поняли, что царь догадался об их заговоре, и порядком испугались. «Твердая решимость Ивана Грозного идти на любые средства для достижения цели, заявленная царем в его речи, произвела потрясающий эффект», — пишет И. И. Смирнов{710}. Однако мятежники оробели, по-видимому, не только от царского «жестокого слова», изобличающего составленный ими заговор, но и потому, что ошиблись в своих расчетах: Иван, по всему, должен был бы уже умереть, а он жив да еще произносит «жестокие слова», не сулящие боярам ничего хорошего. Надежда на его кончину растворялась бесследно, и впереди все явственнее вырисовывалась плаха. Тут было от чего «поустрашиться». О том, что бояре больше всего боялись выздоровления Грозного, а также обвинений в заговоре и измене государю, свидетельствует сцена, разыгравшаяся между боярином князем Владимиром Ивановичем Воротынским, стоявшим по поручению царя у креста, и боярином князем Иваном Ивановичем Пронским-Турунтаем, целовавшим крест: «И как пошли (бояре. — И.Ф.) целовати и пришел боярин князь Иван Иванович Пронский-Турунтай да почал говорити князю Володимеру Воротынскому: «твой отец да и ты после великого князя Василия первой изменник, а ты приводишь к кресту». И князь Володимер ему отвечал: «я су изменник, а тебя привожу крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его царевичю князю Дмитрею; а ты су прям, а государю нашему и сыну его царевичю князю Дмитрею креста не целуешь и служити им не хочешь». И князь Иван Пронской исторопяся целовал»{711}. Приведенная запись представляет интерес еще и в том отношении, что она позволяет уяснить, на чье имя, в конце концов, целовали крест бояре. Это — царь Иван и царевич Дмитрий. Похоже, этому предшествовала острая борьба. Иван хотел, чтобы бояре присягали на имя царевича. Но те устами Федора Адашева, как мы знаем, заявили: «Тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». В итоге все сошлись на этом боярском варианте клятвы, но, по всей вероятности, не сразу, а в ходе столкновений и в результате перемены обстоятельств, связанных с болезнью самодержца, который, вопреки всем ожиданиям, поправлялся, не оставляя своим противникам надежд на успешное завершение государственного переворота. Именно такое развитие событий, надо полагать, подтверждает крестоцеловальная грамота Владимира Старицкого, датированная 12 марта 1553 года. В грамоте читаем: «Се яз Князь Володимер Ондреевич целую крест к своему Государю Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всея Русии, и его сыну Царевичю Дмитрею: хотети мне добра Государю своему Царю и Великому Князю Ивану, и его сыну Царевичю Дмитрию, и его Царице Великой княгине Анастасие, и их детям, которых им вперед Бог даст, и их государствам во всем в правду безо всякие хитрости, и держати их во всем честно и грозно безо всякие хитрости»{712}. Формула грамоты «и их детям, которых им вперед Бог даст», хотя, возможно, и трафаретная, но, тем не менее, в данном случае показательная: будь Иван безнадежен, ее вряд ли бы внесли в документ. Также едва ли сторонники Ивана IV и сам государь стали бы приводить к присяге бояр на два имени: на имя умирающего царя и беспомощного царевича-младенца. Ибо, случись царева смерть, присягу можно было оспорить как недействительную. Однако Старицкие и те, кто доброхотствовал им, сохранили все же для себя лазейку, отстранив митрополита Макария от участия в процедуре целования креста и оставив крестоцеловальную запись без скрепляющей подписи святителя{713}. Не оформленную должным образом клятвенную грамоту всегда можно было объявить недействительной. По некотором прошествии времени летописатели, воспроизводившие мартовские события 1553 года, перестали различать формулы присяги (царскую и боярскую). Тонкости формул их уже, по-видимому, не занимали. Произошло это, насколько можно догадаться, вследствие того, что династический вопрос утратил былую остроту. Поэтому они, не придавая, очевидно, особого значения различию этих формул, отождествляли их. В противном случае трудно понять, как мог появиться в летописном рассказе о боярском мятеже следующий текст: «Бояре же, которые не захотели целовати государю и сыну его царевичю князю Дмитрею, с теми бояры, которые государю и сыну его крест целовали, почали бранитися жестоко, а говорячи им, что они хотят сами владети, а они им служити и их владения не хотят»{714}. На первый взгляд тут все перепутано: бояре, согласившиеся присягать государю и его сыну, но не пожелавшие целовать крест «на царевичево княже-Дмитреево имя», представлены как отказавшиеся от крестоцелования Ивану и Дмитрию, а бояре, присягнувшие Дмитрию, изображены в качестве целовавших крест царю и царевичу. К слову сказать, подобная подмена формул встречается в призывах самого царя Ивана: «А бояром государь молыл, которые ввечеру целовали: «…а вы начом мне и сыну моему Дмитрею крест целовали, и вы потому и делайте»{715}. Эту подмену следует, по нашему мнению, объяснять не забывчивостью Ивана Грозного, а переменой обстоятельств, сделавшей династический кризис достоянием прошлого{716}. К тому же, как известно, Владимир Старицкий отказывался целовать крест даже на формуле, озвученной Ф. Г. Адашевым, что в условиях 60-х годов XVI века, когда составлялись приписки к Царственной книге, представляло для Грозного больший интерес, нежели формула, связанная с давно погибшим царевичем Дмитрием и потому потерявшая всякую актуальность. Непокорство же старицких правителей сохраняло свою злободневность, особенно в период редактирования Царственной книги, откуда узнаем, что Иван IV, приведя к целованию Боярскую Думу, «велел написати запись целовалную, на чем приводити к целованию князя Володимера Ондреевича; и как запись написали, а князь Володимер к государю пришел, и государь ему велел на записи крест целовати. И князь Володимер не похотел, и государь ему молыл: «то ведаешь сам: коли не хочешь креста целовати, то на твоей душе; што ся станет, мне до того дела нет»{717}. Царь, как видим, снимал с себя всякую ответственность за последствия поступков Владимира Старицкого, и это было очень плохим знаком для последнего, знаком, грозящим ослушнику смертью{718}. Но тот продолжал упираться, не осознавая, наверное, что дело проиграно и замысел государственного переворота провалился. Тогда ближние бояре во главе с князем Владимиром Воротынским и дьяком Иваном Висковатым попытались его снова урезонить, говоря, чтобы он «не упрямливался, государя бы послушал и крест бы целовал». Однако тщетно: старицкий князь «почал» сильно сердиться («кручинитися прытко») и с плохо скрываемой угрозой сказал Воротынскому: «Ты бы де со мною не бранился, ни мало б де ты мне и не указывал, а против меня и не говорил»{719}. Боярин отпарировал: «Яз, государь, дал душу государю своему царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии и сыну его царевичю князю Дмитрею, что мне служити им въ всем вправду; и с тобою мне они же, государи мои, велели говорити, и служу им, государем своим, а тебе служити не хочю, я за них, за государей своих, с тобою говорю, а будет где доведетца по их государей своих велению и дратися с тобою готов». То было последнее предупреждение, но и его «Володимер Ондреевич» не уразумел. Истощив терпение, ближние бояре решительно заявили ему, чтобы он «целовал, а не учнет князь креста целовати, и ему оттудова не выйти»{720}. В конце концов, бояре принудили Владимира Старицкого «крест целовати, и целовал крест поневоле»{721}. А. А. Зимин, несколько отходя от летописного повествования, изображает дело так, будто князь Владимир дал крестоцеловальную запись после некоторого запирательства{722}. Ближе к истине подошел И. И. Смирнов: «Под угрозой смерти, в случае если он будет упорствовать в отказе целовать крест Дмитрию, Владимир Старицкий «целовал крест поневоле»{723}. Принудительным целованием креста дело, однако, не закончилось: «И после того посылал государь ко княгине [Ефросинье] з грамотою с целовалною, чтобы велела в той грамоте печать княжую привесити, боярина своего князя Дмитрея Федоровича Палетцкого да дияка своего Ивана Михайлова; и они ко княгине ходили трижды, а она едва велела печать приложити, а говорила: «что то де за целование, коли неволное?» и много речей бранных говорила»{724}. Чем объяснить столь неразумное упорство Старицких? А. Л. Хорошкевич на этот вопрос отвечает так: «Упорство Старицких объясняется ростом авторитета Владимира Андреевича накануне и после казанской победы. Он был допущен к деятельности Боярской думы. Приговоры 1550 г. и 1552 г. принимались от лица царя, князя Старицкого и бояр»{725}. То, о чем говорит А. Л. Хорошкевич, имело, прежде всего, значение при выдвижении мятежниками Владимира Старицкого претендентом на московский трон. Но, разумеется, и Старицкие, утратив чувство реальности, могли упираться, переоценив свои возможности. И тут они зашли, похоже, очень далеко. По словам С. М. Каштанова, «Претензии Владимира Андреевича на великокняжеский престол, обнаружившиеся явственно в марте 1553 г., в период тяжелой болезни Ивана IV, нашли, как думается, отражение в грамоте, выданной князем Ферапонтову монастырю в 1552/53 г. (скорее всего, во время болезни царя). Грамота, к сожалению, не сохранилась и упоминается лишь в монастырских описных книгах XVII–XVIII вв., но сведения о ней весьма показательны. Это была грамота «великого князя» Владимира Андреевича, писанная «на харатье, в лист… за красной печатью». Видимо, титул князя описные книги заимствуют из подлинника. Торжественное оформление грамоты: сам материал для письма (пергамен, столь редкий в то время в практике выдачи грамот внутреннего предназначения), красная печать — подтверждает возможность такой интитуляции. Едва ли слово «великого» привнесено в опись ее составителем»{726}. Старицкий князь, как видим, мнил себя великим князям — верховным правителем Московской Руси, присвоив соответствующий титул и его атрибут — красную печать. Косвенное подтверждение притязаниям старицкого князя находим, кажется, в сообщениях летописи, где Владимир Андреевич именуется государем{727}. Амбиции его, помимо прочего, подогревали и конкретные обстоятельства, связанные с болезнью царя. После приведения к присяге Боярской Думы Ивану опять стало плохо, и он снова слег в постель, поручив ближним боярам самим управиться с Владимиром Старицким. Новое ухудшение самочувствия царя, по всей вероятности, окрылило старицкого князя и его сторонников. Отсюда, думается, угрожающий тон Владимира Андреевича в разговоре с князем Воротынским и упорство старицкого князя в нежелании целовать крест, а также попытки отказа княгини Ефросиньи привесить «княжую печать» к крестоцеловальной грамоте. Надо было очень надеяться на смерть царя, чтобы проявлять такое упрямство после присяги «всех бояр», означавшей сдачу позиций мятежниками и, следовательно, крушение плана государственного переворота. Невольно закрадывается мысль, что Владимиром и Ефросиньей управляла не слепая надежда, а знание некой роковой тайны болезни Ивана. Кое-что здесь проясняет, как нам кажется, последующая гибель самого Владимира Старицкого. Надо сказать, что обстоятельства смерти князя Старицкого до сих пор остаются до конца не выясненными. Еще С. М. Соловьев говорил: «В русских летописях нет подробностей о смерти князя Владимира; иностранные свидетельства противоречат друг другу: по одним его отравили, по другим зарезали, по третьим отрубили голову…»{728}. С. М. Соловьеву не был известен так называемый Пискаревский летописец, найденный и опубликованный в середине прошлого, XX века. В Летописце имеется рассказ о том, как в 1569 году «положил князь велики гнев свой на брата своего князя Володимера Андреевича и на матерь его. И посла его на службу в Нижней, а сам поеде на Вологду. И побыв тамо и поеде с Вологды к Москве. А по князя Володимера посла, а велел ему быти на ям на Богону и со княгинею и з детьми. И поиде с Москвы в Слободу и из Слободы, вооружася все, кобы на ратной. И заехал князь велики на ям на Богону и тут его опоил зелием…»{729}. По мнению М. Н. Тихомирова, это известие о Владимире Андреевиче Старицком внесено в летопись «сорок лет спустя после описываемой смерти Владимира, по слухам и с явным намерением очернить Ивана IV»{730}. Историк не ручался за его точность{731}. Однако с версией об отравлении Владимира Старицкого Иваном Грозным мы встречаемся и в других источниках отечественного происхождения, в частности во Временнике дьяка Ивана Тимофеева, согласно которому царь Иван, поверив клеветникам, «порази» кн. Владимира «напоением смертным»{732}. Драму, разыгравшуюся именно в Богане (ямская станция между Троице-Сергиевым монастырем и Переяславлем-Залесским{733}), подтверждает «Синодик опальных царя Ивана Грозного», составленный в 1582–1583 гг. по приказу государя{734}, где читаем: «На Богане благоверного князя Владимира Андреевич со княгинею да з дочерью»{735}. Версия об отравлении Владимира Старицкого представлена и в сочинениях иностранцев. Так, в Послании гетману Я. Ходкевичу (1572) неких И. Таубе и Э. Крузе, попавших в русский плен во время Ливонской войны и благодаря пронырливости своей оказавшихся в опричнине, рассказывается, как царь Иван отправил из Александровой слободы своих поваров за рыбой в Нижний Новгород, где тогда находился Владимир Старицкий, который якобы подкупил одного из этих поваров, дав ему 50 рублей и снабдив ядовитым порошком, чтобы подсыпать его государю в пищу. Учинив соответствующее дознание, Иван Грозный велел самому Владимиру выпить яд{736}. Сходные сведения сообщает А. Шлихтинг, говоря о том, что «тиран» (Иван Грозный) приговорил к смерти своего повара, «оклеветав его, что он получил 50 серебреников от брата Владимира, чтобы извести тирана ядом. Но у этого несчастного никогда не было в душе ничего подобного; наоборот, сам тиран погубил ядом своего двоюродного брата…»{737}. Об отравлении ядом Владимира говорит и датский посол Ульфельд, приезжавший в Россию в 1578 году{738}. Итак, отравление Владимира Старицкого царем Иваном засвидетельствовано различными источниками, как отечественными, так и зарубежными, и потому выглядит вполне правдоподобно{739}. Многие современные историки придерживаются именно этой версии смерти старицкого князя{740}. Владимир принял смерть перед лицом Ивана Грозного и в присутствии, судя по всему, царских слуг, т. е. не в тайной обстановке, а явной — открыто и публично. Вместе с князем Владимиром были умерщвлены его жена и девятилетняя дочь, что подтверждают синодики, упоминающие о гибели удельного князя «с княгинею и со дщерию»{741}. Однако Н. М. Карамзин, следуя сведениям, почерпнутым из Послания И. Таубе и Э. Крузе, писал, дав простор словесной живописи, по части которой был великий мастер: «Ведут несчастного (Владимира Старицкого. — И.Ф.) с женою и с двумя юными сыновьями»{742} к Государю: они падают к ногам его, клянутся в своей невиновности, требуют пострижения. Царь ответствовал: «Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его, Евдокия (родом княжна Одоевская), умная, добродетельная — видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя — отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы, и с твердостию сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от Царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн был свидетелем их терзания и смерти»{743}. Н. М. Карамзин предпочел известия Таубе и Крузе сообщению князя Андрея Курбского о том, что царь Иван, умертвив Владимира, «тогда же разстреляти с ручниц [ружей] повелел жену брата своего Евдокию, княжну Одоевскую <…> и дву младенцев, сынов брата своего <…>: единому было имя Василий, аки десяти лет, а другий мнейши. Запамятовах уже, яко было имя его…»{744}. Н. М. Карамзин считал это сообщение Курбского менее достоверным, чем «сказание» Таубе и Крузе, поскольку названные иностранцы «находились тогда при царе, а Курбский в Литве»{745}. Последующие историки установили, что вместе с Владимиром и его женой были преданы смерти не два сына, как писал Н. М. Карамзин, а одна девятилетняя дочь Евдокия{746}, тогда как сын старицкого князя Василий «прожил еще несколько лет, а старшая дочь Мария в 1573 г. была выдана замуж за датского герцога Магнуса»{747} и умерла лишь в конце XVI века, в 1597 году{748}. Курбский, как видим, недаром «запамятовах» имя второго, младшего сына Владимира Старицкого. Столь серьезные провалы в памяти нашего информатора, странные уже потому, что Владимир вторым браком был женат на двоюродной сестре Курбского, едва ли могут укрепить доверие к его рассказу о гибели Старицких. Скажем больше, этот рассказ выдает стремление беглого князя обвинить Грозного в том, что он не совершал. Видно, Таубе и Крузе действительно сообщали более надежные сведения о способе умерщвления старицких князей, чем пребывающий вдали от России Андрей Курбский, хотя и они не всегда безупречны в передаче фактов{749}. Возникает вопрос, что хотел подчеркнуть царь Иван, принудив Владимира Старицкого принять яд. Свой ответ на этот вопрос дали Таубе и Крузе, приведя слова Грозного: «Ты искал моей жизни и короны, ты приготовил мне яд: пей его сам»{750}. Стало быть, по Таубе и Крузе, Иван Грозный в назидание окружающим привел в исполнение то, что против него замышлял Владимир Старицкий. Современные исследователи находят дополнительные мотивы, объясняющие поступок царя. «После очной ставки с дворцовым поваром и короткого разбирательства «дела», — говорит Р. Г. Скрынников, — Владимир Андреевич и его семья были осуждены на смерть. Из родственного лицемерия царь не пожелал прибегнуть к услугам палача и принудил брата к самоубийству. Безвольный Владимир, запуганный и сломленный морально, выпил кубок с отравленным вином. Вторым браком Владимир был женат на двоюродной сестре беглого боярина Курбского. Мстительный царь велел отравить ее вместе с девятилетней дочерью»{751}. Лицемерие и мстительность вряд ли здесь играли основную роль, поскольку расправа со Старицкими являлась проявлением не бытовой склоки, а политической борьбы, имеющей определенную логику поведения ее участников, которая, как известно, выражается в литой формуле: кто кого. Уводит в сторону от сути события и Б. Н. Флоря, заявляя, будто «соображения престижа, почти сакральный ореол, окружающий членов царского дома, не давали возможности ни устроить суд, ни тем более казнить двоюродного брата царя. Поэтому по приказу Ивана Владимир Андреевич, его жена и девятилетняя дочь 9 октября 1569 года были отравлены»{752}. Напрасно Б. Н. Флоря усложняет картину, поскольку в распоряжении Ивана IV были хорошо опробованные ранее приемы, посредством которых московские великие князья избавлялись от опасных соперников — членов великокняжеского дома, замучивая их до смерти в темницах. Царь, конечно, мог прибегнуть к этой испытанной в прошлом практике. Но Иван избрал именно публичное отравление Старицких. Нам известна официальная точка зрения на причину казни Владимира Старицкого, отраженная в инструкции московским послам, направленным в Литву вскоре после драмы «на Богаче». В случае вопросов относительно того, почему государь положил свою опалу на князя Владимира, инструкция предписывала послам «говорити: князь Володимер был с матерью учал умышляти над государем нашим царем и великим князем и над его государьскими детми всякое лихо, хотели государя и государьских детей испортити, да воры из бояр к ним пристали, и государь наш, сыскав, потому и учинил»{753}. Владимир Старицкий, как видим, «умышлял» не на собственный страх и риск, а в сообществе с противниками русского самодержца, будучи послушным орудием в их руках. Именно такую ситуацию, помимо упомянутой инструкции, рисует хранившийся в Посольском приказе один «статейный список из сыскного из изменного дела», откуда узнаем, что новгородский архиепископ Пимен и другие новгородцы «ссылалися к Москве з бояры с Олексеем Басмановым, и с сыном ево с Федором, и с казначеем с Микитою Фуниковым, и с печатником с-Ываном Михайловым Висковатым, и с Семеном Васильевым сыном Яковля, да с дьяком Степановым, да с Ондреем Васильевым, до со князем Офонасьем Вяземским, о сдаче великого Новгорода и Пскова, что архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдати литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии хотели злым умышленьем извести, а на государство посадити князя Володимера Андреевича…»{754}. Наше внимание останавливает фраза «царя и великого князя Ивана Васильевича злым умышленьем извести», т. е. отравить. Трудно сказать, знал ли об этом преступном замысле Владимир Старицкий{755}. Но само существование князя и особенно претензии его на московский стол, зримо обозначившиеся с памятных мартовских дней 1553 года, порождали у ненавистников Ивана соблазн пойти на крайние меры. Царя, судя по всему, не покидало чувство опасности быть-вместе со своей семьей отравленным врагами. Имел ли он на то основания? Важными в этой связи представляются наблюдения А. А. Зимина. Историк говорил: «6 сентября 1569 г. скончалась вторая жена Ивана Грозного — Мария Темрюковна. С ее смертью могла быть как-то связана гибель князя Владимира. Ведь еще в 1560 г. царь Иван обвинил в отравлении Анастасии Романовой Адашева и Сильвестра. Подобные обвинения могли царем высказываться и в связи со смертью Марии, которую ненавидели в княжеско-боярской среде»{756}. Царь, конечно, мог говорить об отравлении Марии его недоброжелателями{757}. Но это в источниках не отмечено. Зато есть коллективное признание пастырей русской церкви, зафиксированное в Соборном приговоре 1572 года, где записано, что царица Мария, с которой Иван прожил восемь лет, «вражиим злокозньством отравлена бысть»{758}. Перед нами, можно сказать, документальное свидетельство Освященного собора. Поэтому странное впечатление производят слова Р. Г. Скрынникова: «Ходили слухи об отравлении Марии Черкасской. Но эти слухи легендарны»{759}. Современный исследователь располагает не слухами об отравлении царицы Марии, а весьма авторитетным подтверждением этого факта со стороны высших церковных иерархов России. И здесь особую ценность приобретает предположение А. А. Зимина о возможной связи гибели князя Владимира со смертью царицы Марии. Если это так, то отравление Владимира Старицкого стало в определенной мере реакцией Ивана Грозного на смерть своей жены, отравленной, несомненно, врагами государя, к которым на протяжении длительного времени имел то прямое, то опосредованное отношение старицкий удельный князь. Более того, Иван, повелевая князю Владимиру выпить чашу с ядом, помнил, конечно же, о смерти любимой жены своей Анастасии, также отравленной недругами самодержца. В том же Соборном приговоре 1572 года говорится: «Царь и Великий Князь женился первым браком, понял за себя Романову дщерь Юрьевича Анастасию и жил с нею полчевертанатцата лет, и вражиим наветом и злых людей чародейством и отравами Царицу Анастасию изведоша…»{760}. Сам Иван в этом также нимало не сомневался{761}. Уверенно свидетельствует на сей счет и немец-опричник Генрих Штаден{762}. В глубоком сомнении лишь позднейшие историки. Один из них, С. Б. Веселовский, писал: «Анастасия умерла после медленного угасания в том возрасте, когда женщина обыкновенно достигает полного расцвета сил. Об отравлении ее не может быть и речи, да и сам Иван об этом не говорит, а в колдовство и чары мы, люди XX в., не верим. Остается предположить, что здоровье ее было подорвано ранним браком и частыми родами и окончательно расшатано постоянными поездками с мужем на богомолье и потехи»{763}. С. Б. Веселовскому вторит Р. Г. Скрынников: «Частые роды истощили организм царицы, она не дожила до 30 лет»{764}. У нас нет желания оспаривать детородные аргументы названных авторов, поскольку ныне факт отравления Анастасии научно доказан: обнаруженное при антропологическом исследовании ее останков высокое содержание солей ртути в волосах, обрывках погребальной одежды и тлена не оставляют сомнений насчет отравления царицы{765}. На фоне всех этих обстоятельств приобретает особую значимость предположение о связи гибели князя Владимира Старицкого с редакторской работой Грозного над Царственной книгой, в частности с интерполяцией, повествующей о мартовских событиях 1553 года. На эту связь обратил внимание еще С. Б. Веселовский, но истолковал ее, на наш взгляд, неудовлетворительно. Историк полагал, что «династический вопрос, поставленный остро в 1553 г., и казнь близких родственников (Владимира с родичами. — И.Ф.) продолжали тревожить сознание царя и много позже» и «вызывали его на самооправдания»{766}, что нашло отражение в приписке к Царственной книге под 1553 годом. Однако психологические мотивы являлись здесь, по нашему мнению, отнюдь не основными. Главной тут все-таки была, как нам представляется, государственная целесообразность. Поэтому надо согласиться с А. А. Зиминым, который, говоря о распоряжении царя Ивана «внести в официальную летопись новый рассказ о мартовских событиях 1553 г.», уловил в данном распоряжении стремление Грозного «задним числом обосновать государственную необходимость казни Владимира Старицкого»{767}. Это, бесспорно, так, но не все. Ставя в один ряд мартовские события далекого 1553 года с произошедшим в 1569 году «на Богане» и таким образом объясняя избранный способ казни Владимира и некоторых членов его семьи, Иван Грозный как бы утверждал библейский принцип: «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф., 7:2). Тем самым царь намекал на характер своего заболевания в марте 1553 года, вызванного «злокозньством» врагов русского «самодержавства», с которыми тогда «сложился» князь Владимир. Иначе, он намекал на отравление. Так получаем еще одно косвенное указание на рукотворное происхождение болезни Ивана IV в марте 1553 года, сопровождавшейся спланированным заранее дворцовым мятежом, в основе которого лежал преступный заговор. Этот заговор преследовал цель государственного переворота, состоящего в устранении от власти законного государя и его наследника с заменой их на московском троне удельным князем Владимиром Старицким. Следует сказать, что Иван IV и люди, сохранявшие ему верность, догадывались о сути происходившего. Они понимали, что имеют дело с тайным заговором и мятежом, принявшим форму открытого неповиновения, но не переросшим в кровавое столкновение, хотя все реальные предпосылки для такого оборота дела были налицо, включая военную силу, сосредоточенную Старицкими в своем кремлевском дворе. Не надо было обладать особым даром прозрения, чтобы уразуметь все это. Тут даже не требовалось знание деталей, поскольку само поведение заговорщиков во время болезни царя, их поступки и слова были достаточно красноречивы, чтобы представлять для него какую-то загадку. Иван мог также открыть для себя нечто новое относительно Сильвестра и Алексея Адашева. Сильвестр своим расположением к Владимиру Старицкому в столь угрожающей царю ситуации подавал для подобных прозрений прямой повод. Адашев же хотя и был скрытен, но все-таки настораживал, поскольку действия наиболее близких ему людей, отца Федора Адашева и друга Сильвестра, царь Иван не одобрял{768}. Итак, мартовские события 1553 года убедили Ивана IV в том, что против него и сына-наследника был составлен заговор и организован мятеж. Замысел заговорщиков строился на предполагавшейся болезни и смерти Ивана. Поэтому, когда царь, вопреки их расчетам, стал выздоравливать, рассыпался и этот замысел{769}. Можно было ожидать, что Грозный сурово накажет виновников. Но он повел себя по-другому. В этой связи «интересно отметить, что мятежники Дмитрий Федорович Палецкий, Никита Фуников, Дмитрий Иванович Курлятев, Дмитрий Иванович Немой, Петр Михайлович Щенятев еще в 1554 г. (т. е. после мятежа, но до ареста князя Лобанова-Ростовского) занимали почетнейшие места на самых почетных церемониях, точно так же, как они занимали их в 1552 г., т. е. до болезни царя»{770}. Не утратил благосклонности государя и князь И. М. Шуйский, «заваривший кашу» в Думе: уходя в 1555 году в Коломенский поход, царь оставляет его в Москве консультантом при слабоумном брате своем Юрии, доверяя ему управление столицей{771}. Вскоре после событий 1553 года Федор Адашев, перечивший государю в Боярской Думе, получил боярство. Алексей Адашев стал окольничим{772}. На повышение пошли и сторонники партии Адашева — Сильвестра: П. В. Морозов и Л. А. Салтыков. Первый был пожалован в бояре, а второй — в окольничие{773}. Оставался в силе Сильвестр{774}. Старицкие по-прежнему пребывали в чести. Князь Владимир Андреевич, обласканный царем, именуется в летописях того времени «государевым братом»{775}. Поэтому совершенно безосновательным представляется утверждение А. М. Сахарова о том, будто «после эпизода с присягой» подозрительность и жестокость царя Ивана «еще более усилились»{776}. Историки-рационалисты, мыслящие прагматически, проявляют полную неспособность понять мотивы поведения Ивана IV. «Проблема в том, — писал, к примеру, А. И. Филюшкин, — что названные в интерполяции «недоброхоты» царя (кроме Н. А. Фуникова) — Д. И. Курлятев, Ф. Г. Адашев, Сильвестр, Владимир Андреевич, Д. И. Немой-Оболенский, С. В. Ростовский, колебавшиеся А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков не только не поплатились в 1553 г. за свои «мятеж» и «предательство», но, наоборот, многие из них в 1533 г. усилили свою реальную роль в политической иерархии (что демонстрирует разряд июньского выхода на Коломну и кадровые перемещения 1553 г.). События 1553 г. не внесли резких изменений в состав Думы, хотя, судя по тональности приписки 1553 г., после таких великих мятежей и крамол чистка правящего аппарата была бы неизбежной»{777}. Отсюда у А. И. Филюшкина недоверие к повествованию Царственной книги{778}. Скепсис этот не нов. В конце 40-х годов прошлого века Д. Н. Альшиц говорил: «Казалось бы, столь резкое выступление против царя группы мятежников, воспользовавшихся его беспомощностью, должно было после выздоровления царя вызвать преследование, наказание хотя бы главных виновников. Между тем ничего подобного не произошло. Никаких опал не последовало»{779}. Значит, заключает Д. Н. Альшиц, и мятежа никакого не было, хотя «тайный заговор группы князей» имел место{780}. Но в историографии есть иное объяснение незлобивости Ивана, хорошо известное Д. Н. Альшицу. Еще Н. М. Карамзин, описав мартовский мятеж, говорил: «Что же сделал Иоанн? Встал с одра исполненный милости ко всем Боярам, благоволения и доверенности к прежним друзьям и советникам <…> не хотел помнить, что случилось в болезнь его, и казался только признательным к Богу за свое чудесное исцеление <…> не мстил никому, но с усилием, которое могло ослабеть в продолжение времени»{781}. По Н. М. Карамзину, следовательно, государь простил вину мятежникам, делая, правда, над собой усилие. Согласно С. М. Соловьеву, у выздоровевшего царя затаились на дне души мрачные чувства подозрения и обиды, но «выздоровление, неожиданное, чудесное избавление от страшной опасности, располагало к чувству иному; радость, благодарность к Богу противодействовали чувству мести к людям»{782}. Впрочем, С. М. Соловьев, в отличие от Н. М. Карамзина, вышел за пределы чувствований царя Ивана и перевел вопрос в политическую плоскость: «С другой стороны, надобно было начать дело тяжелое, порвать все установившиеся уже отношения; тронуть одного значило тронуть всех, тронуть одного из приятелей Сильвестра и Адашева значило тронуть их самих, а это по прежним отношениям было очень трудно, к этому вовсе не были приготовлены; трудно было начать борьбу против вождей многочисленной стороны, обступившей престол, не имея людей, которых можно было бы противопоставить ей; наконец, при явном, решительном действии, что можно было выставить против Сильвестра и Адашева? Они не подавали голоса против Димитрия, в пользу Владимира Андреевича»{783}. Д. Н. Альшица не удовлетворили эти высказанные Н. М. Карамзиным и С. М. Соловьевым объяснения причины отсутствия чувства мести у Ивана IV по отношению к мятежникам. Не удовлетворили потому, что не только не исключали мартовского мятежа 1553 года, но и оставляли его безнаказанным. «Если считать, — пишет Д. Н. Альшиц, — что мятеж 1553 г. имел место, то следует признать, что он прошел не только безнаказанно, но и что самые активные его участники были вскоре после того возвышены царем. Тем самым пришлось бы возвратиться к точке зрения Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, что «радость и благодарность к богу противодействовали чувству мести к людям». Нам это не представляется возможным»{784}. Тут, конечно, ничего не поделаешь, коль «не представляется возможным». Однако же заметим, что Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев в данном случае не одиноки. Так, Н. А. Полевой говорил: «Не боялись ли, не трепетали ль крамольные вельможи, когда болезнь Иоанна постепенно прекращалась, и наконец — он восстал с одра своего в новой силе. Может быть, но их опасения оказались напрасны: Иоанн, по-видимому, забыл все, что происходило во время его болезни. Он являлся милостивым, ласковым по-прежнему; не было ни опал, ни ссылок, ни гнева. Этого мало: отец Адашевых был произведен в бояре, вместе с князем Пронским и Симеоном Ростовским. Выехав на охоту в октябре, царь весело пировал в селе Владимира Андреевича»{785}. Сходные суждения высказывал Н. Г. Устрялов: «Иоанн не мстил ни боярам, ни брату; ласкал, честил его, не редко вверял главное начальство над войском, и дал ему в обмен вместо Вереи, Алексина и Старицы Дмитров, Боровск, Звенигород»{786}. Вспомним, наконец, владыку Иоанна, его проницательные слова: «Царь всех простил! Царь не помнил зла. Царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха»{787}. Думается, митрополит Иоанн дал самое точное объяснение тому, что никак не могли взять в толк историки, чуждые христианскому сознанию и православной этике, а потому не способные понять мотивы поведения глубоко верующего человека, каковым являлся Иван Грозный. Царь не мог поступить иначе не только в силу общих норм христианской морали, но и вследствие некоторых конкретных обстоятельств. Еще во время соборов примирения он заявил о своем намерении царствовать посредством любви и милости к подданным. Естественно было ожидать от него прощения заблудших мятежников, тем более что о многих деталях произошедшего в мартовские дни 1553 года государь не знал. О том, что Иван IV оставался верен провозглашенной им в 1547 году политике мира, согласия и любви, свидетельствует официальная летопись: «Он государь, добрый пастырь, егда възмогл, тогда у Бога милости просил и нас добре хранил, и благоразсудным его утверждением всегда съхранены есмя; и мало время премолче к Богу о нас молениа простирати и нас на благое утвержати…»{788}. К прощению располагал и сам факт чудесного исцеления от, казалось бы, смертельной болезни. Божья милость, снизошедшая на болящего Ивана, не могла, по евангельским заповедям, оставаться безответной. Она требовала и от государя проявления милости. К всепрощению побуждал царя и трагический случай, произошедший в июне 1553 года, о котором надлежит сказать особо. Летописец повествует, как в мае 1553 года во исполнение взятого на себя обета «поехал царь и великий князь Иван Василиевич всея Русии и съ своею царицею и съ своим сыном царевичем Димитрием и з братом князем Юрьем Василиевичем помолитися по монастырем: къ живоначалной Троице, да оттоле въ Дмитров по монастырем, на Песношу къ Николе; да тут государь сел въ суды въ Яхроме-реке, да Яхромою на Дубну, да был у Пречистые въ Медведеве пустыне, да Дубною въ Волгу, да был государь въ Калязине монастыре у Макария чюдотворца, да оттоле на Углечь и у Покрова въ монастыре, да оттоле наусть Шексны на Рыбную, да Шексною вверх къ Кирилу чюдотворцу; да на Кирилове монастыре государь молебная совершив, учредив братию, да ездил един в Ферапонтов монастырь и по пустыням, а царица великая княгиня была въ Кирилове монастыре. И оттоле царь и государь поиде опять Шексною вниз, да Волгою вниз на Романов и вь Ярославль; и вь Ярославле государь был у чюдотворцов, да поехал въ Ростов и был у чюдотворцов, да въ Переславль, къ живоначалной Троице; и приехал государь къ Москве месяца июня»{789}. За приведенным рассказом о поездке Ивана IV на богомолье по заволжским монастырям и пустыням следует сообщение о событии, случившемся во время этой поездки, но обособленном от повествования о ней: «Того же лета, месяца июня, не стало царевича князя Димитрия въ обьезде въ Кириловьском, назад едучи къ Москве; и положили его въ Архаангеле въ ногах у великого князя Василия Ивановича»{790}. Летописец, как убеждаемся, довольно подробно описывает маршрут поездки государя, упоминает места его посещений, названия монастырей, совершенные в них службы и поклонения чудотворцам. При этом он очень скуп по части подробностей смерти царевича Дмитрия и говорит о ней в самой общей форме («не стало царевича князя Димитрия»), не желая, по-видимому, заострять внимание на том, как и при каких обстоятельствах она случилась. «О смерти царевича официальный летописец говорит глухо», — справедливо замечает С. Б. Веселовский{791}. Мало того, сообщение о кончине царевича составитель летописи выносит за скобки своего рассказа о поездке государя по монастырям, разрывая живую ткань событий и, следовательно, затушевывая реальные черты весьма неординарного события. Во всем этом проглядывает определенная заинтересованность. Уместно спросить: чья заинтересованность? По всей видимости, А. Ф. Адашева и К°, поскольку рассказ о поездке царя на богомолье и сообщение о смерти царевича Дмитрия, рассматриваемые сейчас нами, заключены в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», составителем или редактором которого являлся именно он, Алексей Адашев, или лицо, близкое ему{792}. Та же заинтересованность видна и у князя Андрея Курбского, о чем судим по его «Истории о великом князе Московском», где читаем, как царь Иван «поплыл в путь свой Яхромою-рекою аже до Волги, Волгою ж плыл колко десять миль до Шексны-реки великие, и Шексною вверх аже до езера великаго Белаго, на немже место и град стоит. И не доезжаючи монастыря Кирилова, еще Шексною-рекою плывучи, сын ему <…> умре»{793}. Курбский, подобно составителю Летописца, опускает подробности смерти царевича, не желая, очевидно, лишний раз привлекать к этому внимание своих читателей. Его сообщение о смерти царевича Дмитрия, по тонкому наблюдению С. Б. Веселовского, «носит оттенок какой-то недоговоренности»{794}. Но Курбский, в отличие от автора летописной записи, отнесшего «преставление» Дмитрия к моменту возвращения царственных богомольцев из Кириллова монастыря в Москву («назад едучи к Москве»), связал смерть наследника престола со временем на пути к обители («не доезжаючи монастыря Кирилова»). Разумеется, оба информатора не могут быть правы, и кто-то из них либо невольно ошибается, либо сознательно запутывает последовательность событий, чтобы сбить читателя с толку. Полагаем, что А. М. Курбский, писавший свою «Историю о великом князе Московском» если не тридцать{795}, то двадцать лет спустя с момента смерти царевича Дмитрия{796}, был меньше озабочен этим, чем А. Ф. Адашев, имевший непосредственное отношение к созданию «Летописца начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», составленного, можно сказать, по горячим следам трагической кончины царского наследника{797}. Поэтому сообщение Курбского о гибели царевича до приезда в Кириллов монастырь более, по нашему мнению, соответствует действительности, нежели известие Летописца о «преставлении» Дмитрия на пути в Москву. Версия Курбского лучше согласуется и с попытками «кружка Сильвестра» воспрепятствовать поездке царя Ивана в Кирилло-Белозерский монастырь. Но это отнюдь не значит, что Курбский, повествуя о паломничестве государя в заволжские монастыри, был во всем остальном правдив и объективен. Предвзятость — наиболее характерная черта рассказа Курбского о поездке государя на моленье по знаменитым русским монастырям. Он умудряется даже обвинить царя в смерти царевича: «Егоже (Дмитрия. — И.Ф.) своим безумием погубил»{798}. А было это, по Курбскому, так. Царь Иван, выехав из столицы, отправился «первие в монастырь Троицы живоначалные, глаголемый Сергиев, яже лежит от Москвы двадесять миль на великой дорозе, которая идет к Студеному морю»{799}. В ту пору в Троице «обитал Максим преподобный, мних святые горы Афонские, Ватапеда монастыря, грек родом, муж зело мудрый и не токмо в ритарском искустве мног, но и философ искусен…»{800}. Максим обосновался здесь благодаря ходатайству старца-еретика Артемия, бывшего одно время игуменом Троице-Сергиева монастыря, и хлопотам попа Сильвестра. Единомышленник Артемия, друг Сильвестра и учитель Курбского{801}. Максим Грек, возможно, по наущению названных лиц стал отговаривать царя от поездки в заволжские монастыри: «Аще, — рече, — и обещался еси тамо ехати, подвижуще святаго Кирилу на молитву ко Богу, но обеты таковые с разумом не согласуют. А то сего ради: егда доставал еси так прегордаго и силнаго бусурманского царства, тогда и воинства християнскаго храброго тамо немало от поганов падоша, яже брашася с ними крепце по Бозе за православие. И тех избиенных жены и дети осиротели и матери обнищадели, во слезах многих и в скорбех пребывают. И далеко, — рече, — лучше те тобе пожаловати и устроити, утешающе их от таковых бед и скорбей, собравше их ко своему царственнейшему граду, нежели те обещания не по разуму исполняти»{802}. Удивляет настойчивость, с которой Максим убеждал царя Ивана отказаться от поездки в заволжские монастыри: «И аще, — рече, — послушавши мене, здрав будеши и многолетен, со женою и отрочатем. И иными словесы множайшими наказуя его, воистину сладчайшими, паче меда, каплющего ото усть его преподобных»{803}. Но Ивана, пережившего недавно столько душевных потрясений, чудом выздоровевшего и обещавшего в благодарение Господу совершить паломничество в Кириллов монастырь, доводы Грека не убедили. Государь решил продолжить свой путь. Курбский приписал это упрямству Ивана Васильевича и рекомендациям «мнихов», по всей видимости троицких, с которыми государь, несколько, вероятно, смущенный беседой с Максимом Греком, советовался, как ему поступить, и которые укрепили его в подвижничестве: «Он же, яко гордый человек упрямяся, толико: «Ехати да ехати, — рече, — ко святому Кирилу». Ктому ласкающе его и поджигающе миролюбцем и любоименным мнихом и похваляюще умиление царево, аки богоугодное обещание. Бо те мнихи боготолюбные не зрят богоугоднаго, а ни советуют по разуму духовному, чему были должны суще паче в мире живущих человеков, но всячески с прилежанием слухают, чтобы угодно было царю и властем, сиречь чем бы угодно бы выманити имения к монастырем или богатство многое и жити в сладострастиях скверных яко свиньям питающеся, а не глаголю, в кале валяющеся»{804}. Курбский, как видим, не отказал себе в удовольствии лишний раз уколоть ненавистных врагов своих — иосифлян. Но суть не в этом удовольствии, а в том, что Максим, удостоверившись в твердом, вопреки всему, намерении царя ехать «ко святому Кирилу», пустился в прорицания, представляющие для современного исследователя весьма существенный интерес: «Егда же видев преподобный Максим, иже презрел его совет и ко еханию безгодному устремился царь, нисполнився духа пророческаго, начал прорицати ему: «Аще, — рече, — не послушавши мене, по Бозе советующаго, и забудеши крови оных мучеников, избиенных от поганов за правоверие, и презриши слезы сирот оных и вдовиц, и поедиши со упрямством, ведай о сем, иже сын твой умрет и не возвратится оттуды жив. Аще же послушавши и возвратишися, здрав будеши яко сам, так и сын твой»{805}. Любопытная деталь: свое пророчество Максим передает Грозному через посредников. «И сия словеса, — рассказывает Курбский, — приказал ему четырмя нами: первый — исповедник его, презвитер Андрей Протопопов, другий — Иоанн княжа Мстиславский, а третий — Алексей Адашев, ложничей его, четвертым — мною. И те слова слышав от святаго, исПоведахом ему по ряду»{806}. Приведенные факты ставят перед историком два вопроса: 1) чем объяснить противодействие Максима Грека и, надо полагать, его сотоварищей поездке Ивана IV в Кириллов монастырь и другие заволжские обители; 2.) почему Максим Грек предрек смерть царевича не сразу, а с некоторой паузой, воспользовавшись при этом для передачи государю своего пророчества услугами посредников. При обращении к первому вопросу можно подумать, что ответ на него уже дан в рассказе Курбского о встрече Ивана с Максимом Греком, который, как явствует из этого рассказа, призывал царя, не тратя даром времени, вернуться в «царственнейший град» и позаботиться о матерях, женах и детях воинов, погибших в Казанском походе. Но этот призыв не мог побудить самодержца немедленно прервать богомолье и воротиться в Москву, поскольку война с Казанью закончилась много месяцев назад, и попечительские меры относительно вдов, сирот и матерей, потерявших на войне сыновей, уже, по всему вероятию, стали осуществляться. Что касается личного попечения государя, то оно, прерванное на короткий срок (месяц-два) богомолья, снова должно было возобновиться без нанесения особого ущерба нуждающимся в нем. Следовательно, Максим Грек, отговаривая царя Ивана от путешествия в заволжские края, выдвигал скорее благовидный предлог, нежели формулировал действительную причину своего отрицательного отношения к этому путешествию. Вот почему некоторые историки пытались по-своему объяснить скрытые помыслы Максима. Так, по мнению Р. Г. Скрынникова, родичи царицы Захарьины, обеспокоенные «значительным влиянием» попа Сильвестра на личность царя, стремились ослабить это влияние и поэтому «стали искать поддержку у осифлян старшего поколения, находившихся не у дел со времени боярского правления. По их совету царь, едва оправившись от болезни, предпринял путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь. Там жил на покое Вассиан Топорков, престарелый советник Василия III и братанич Иосифа Санина. Вассиан прославился жестокими гонениями против нестяжателей и их главного идеолога Максима Грека. Встревоженный этим обстоятельством, кружок Сильвестра пустил в ход все средства, чтобы воспрепятствовать свиданию царя с Топорковым»{807}. В частности, «Алексей Адашев и Андрей Курбский противились поездке, но, в конце концов, приняли в ней участие»{808}. К сожалению, Р. Г. Скрынников здесь, как и в ряде других случаев, небрежен в изложении фактов. Он говорит, что царь предпринял путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь по совету (даже по настоянию{809}) Захарьиных, тогда как Курбский довольно внятно извещает об обете самого Ивана совершить богомольную поездку в эту обитель: «Егда же уже оздравел, обещался, скоро по недузе оном, и умыслил ехати сто миль от Москвы да единаго монастыря, глаголемаго Кирилова»{810}. У нас нет оснований не доверять князю Андрею, непосредственному участнику царской поездки, и верить на слово Р. Г. Скрынникову. Историк ошибается и тогда, когда утверждает, будто в Кирилло-Белозерском монастыре имело место свидание царя Ивана с бывшим коломенским епископом Вассианом Топорковым. Это свидание состоялось, но не в Кирилловом монастыре, а на пути к нему в Песношском монастыре, где тогда находился Вассиан, о чем и сообщает Курбский{811}. Возможно, это свидание было непреднамеренным{812}. Во всяком случае, ему не придавалось то значение, о котором говорит Р. Г. Скрынников. Но что касается догадки исследователя насчет встревоженности «кружка Сильвестра» поездкой Ивана в заволжские монастыри, то она заслуживает пристального внимания. Чем была вызвана подобная тревога? Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно вспомнить о той религиозно-политической роли, какую играли заволжские монастыри в конце XV — середине XVI века. Они были не только оплотом нестяжательства, но и прибежищем еретиков. Сюда в начале XVI века сбегались и находили здесь укрытие преследуемые властями отступники от православной веры. Сюда ссылали вождей придворной еретической партии, таких как, скажем, Вассиан Патрикеев, поселенный в Кирилло-Белозерском монастыре. В эти места бежал в. середине XVI века знаменитый еретик Феодосий Косой со своими единомышленниками. Отсюда на игуменство в Троице-Сергиев монастырь был взят стараниями Сильвестра старец Артемий, обвиненный вскоре в ереси и осужденный соборным судом вместе с некоторыми его учениками. Заволжье стало своеобразным заповедником, где еретики чувствовали себя в безопасности. Для того чтобы понять меру озабоченности «кружка Сильвестра» поездкой государя в заволжские монастыри и пустыни, надо также вспомнить особенность момента, когда царь Иван отправлялся на богомолье. Это было время, когда на Руси, по выражению летописца, «прозябе ересь и явися шатание в людех в неудобных словес о божестве». Можно представить, что тогда творилось в Заволжье, — этой, так сказать, кузнице еретических кадров. Вожди Избранной Рады, покровительствовавшие еретикам, не хотели, по-видимому, дать царю возможность увидеть все собственными глазами. Они решили помешать царской поездке, пустив в ход «тяжелую артиллерию» в лице Максима Грека, связанного с попом Сильвестром и через него с Избранной Радой. Ими, похоже, был разработан еще один план, касающийся царевича Дмитрия. Так позволяет думать рассказ Курбского и дополнительные летописные сведения, проливающие свет на обстоятельства гибели царственного младенца. Важно отметить, что Максим «начал прорицать» насчет смерти царевича не сразу, ограничившись сперва намеками на возможный для Дмитрия печальный исход дальнего путешествия («Максим начал советовати ему, да не едет на так далекий путь, но и паче же со женою и с новорожденным отрочатем»; «послушавши мене, здрав будеши и многолетен со женою и отрочатем»). Максим Грек говорил так, будто знал об опасности, грозившей царскому наследнику, и пытался предупредить об этом Ивана. И на том ему спасибо! Но царь, по всей видимости, не понял намека и заявил о своем решении продолжить путь. Тогда-то Максим и стал пророчествовать, причем не лично государю, а через посредников. Если предполагать план, задуманный недругами Ивана IV, этот ход «святогорца» приобретает ясность. Становится понятен подбор Максимом посредников, в число которых вошли протопоп Благовещенского собора Андрей, ближний боярин Иван Мстиславский, Алексей Адашев и Андрей Курбский. Привлекая к посредничеству царского духовника Андрея и сохранившего верность царю во время мартовских событий 1553 года князя Ивана Мстиславского, Максим Грек и стоявший за ним «кружок Сильвестра» могли думать, что Иван Грозный с доверием и полной серьезностью воспримет акцию посредников. Вхождение в число посреднической группы Д. Адашева и А.Курбского должно было, видимо, отвести подозрения в причастности к предрекаемой гибели Дмитрия как их самих, так и партии Сильвестра — Адашева, т. е. создать им, так сказать, алиби. В этом, пожалуй, был главный смысл участия в посредничестве Алексея Адашева и Андрея Курбского. Такой ответ напрашивается на поставленный нами выше второй вопрос. Резонность подобного ответа доказывают обстоятельства смерти наследника, замалчиваемые, как мы убедились, летописцами и свидетелями этой смерти, как, например, князь Курбский. «Вероятно, и летописцу и Курбскому, — замечает С. Б. Веселовский, — было неприятно говорить о нелепых обстоятельствах гибели младенца»{813}. Но так ли нелепы на самом деле эти обстоятельства? В одном летописном источнике С. Б. Веселовский обнаружил известие о том, что «царевич был обронен мамкой в Шексну при пересадке из одного судна в другое»{814}. Это известие представлялось С. Б. Веселовскому более вероятным, нежели «сообщение, будто царевича обронила в воду сонная мамка»{815}. По Р. Г. Скрынникову, «придворные следили за строгим соблюдением церемониала. Когда нянька шла на струг с царевичем на руках, ее поддерживали под руки братья царицы. Во время одной остановки на Шексне сходни не выдержали тяжести и перевернулись. Участники процессии оказались в реке. Младенца выхватили из воды, но он был уже мертв»{816}. Б. Н. Флоря рисует несколько иную картину: «…произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий — кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно»{817}. При некотором расхождении в деталях историки сходятся в мысли о случайности смерти царевича Дмитрия, отмечая ее нелепость{818}, неожиданность{819}, нечаянность{820}, внезапность{821}. Думается, тут больше подошло бы слово «загадочность» и выражение «загадочная смерть», ибо очень трудно уразуметь, как могла мамка (кормилица) уронить вдруг в реку младенца или как могли перевернуться сходни, не выдержав тяжести. Ведь речь идет не о простом ребенке, а «царском корени», монаршем сыне и наследнике престола, путь которого всегда тщательно готовился, не раз проверялся, как говорится, вылизывался детьми боярскими, сопровождавшими государя. Вероятность случайности тут сведена к нулю, т. е. практически исключена. Отсюда вывод: кто-то из свиты Ивана IV очень постарался, чтобы царевича не стало. Конечно, в жизни всякое бывает. И все же нельзя отвергать полностью возможность преднамеренного убийства царевича, смерть над которым витала с памятных дней марта 1553 года. «Младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити…», — скажет много позже Иван Грозный, вспоминая эти дни{822}. Вопреки распространенному в историографии мнению о том, будто эти слова Грозного суть плод воспаленной фантазии, заметим: в них есть реальный смысл. Смерть Дмитрия следует, на наш взгляд, рассматривать как подтверждение обоснованности подозрений царя Ивана. Каковы возможные мотивы людей, организовавших убийство царевича? Надо полагать, они хотели любой ценой помешать поездке самодержца в Заволжье. Авторитет Максима Грека, мобилизованный ими, оказался здесь бессилен. Тогда сработал более радикальный вариант плана, предусматривающий физическое устранение царевича Дмитрия. Важно отметить, что злодейство было осуществлено на подъезде к Кириллову монастырю, как об этом сообщает князь Курбский. Расчет тут очевиден: заставить царя прервать поездку и воротиться в Москву. Но государь превозмог личное горе и не свернул с пути. Он приехал в Кириллов монастырь, затем отправился в Ферапонтов монастырь и совершил объезд заволжских пустынь. Этот объезд особенно примечателен. Он свидетельствует о том, что не только ради богомолья, посещения святых мест и поклонения чудотворцам ездил в «пределы Белозерскиа» царь Иван Васильевич. Наслышанный, вероятно, о скопище еретиков в тамошних местах, государь решил сам убедиться, насколько верна дошедшая до него информация. Увиденное и услышанное им на Белозерье произвело на него, судя по всему, столь сильное впечатление, что по возвращении в Москву он распорядился о начале суда над еретиками{823}. Следовательно, убийство царевича не возымело того действия, на которое рассчитывали его организаторы. Но некоторых результатов они все же достигли. Во-первых, они лишили Ивана законного наследника, усилив возможность политических интриг вокруг царского трона. Во-вторых, им удалось оттеснить от власти Захарьиных, взвалив на них вину за то, что те не уберегли царевича. «В соперничестве за влияние на молодого государя, — пишет Р. Г. Скрынников, — верх взяли Сильвестр и Адашев, тогда как Захарьиным пришлось пожать плоды своих неудач»{824}. Предложенная версия смерти царевича Дмитрия — не более чем догадка, причем не обязательная, хотя она, по нашему убеждению, имеет основания, чтобы быть принятой исследователями во внимание. Бесспорно лишь то, что смерть Дмитрия потрясла царя Ивана. И он, будучи глубоко религиозным человеком, воспринимал ее, несомненно, как наказание Господне за грехи. А это, конечно же, возбуждало в нем чувства милости и всепрощения, которые распространялись и на участников мартовских событий 1553 года. Именно о прощении Иваном «мятежников» мы должны говорить, поскольку он не только догадывался, но и знал о сути происходившего в марте 1553 года, располагая некоторыми конкретными фактами. Об этом судим по сообщению Царственной книги, согласно которому боярин Иван Петрович Федоров «сказывал» царю Ивану Васильевичу, что «говорили с ним бояре, а креста целовати [Дмитрию] не хотели, князь Петр Щенятев, князь Иван Пронский, князь Семен Ростовский». Свое нежелание присягать царевичу они, по свидетельству Ивана Петровича, подкрепляли следующим рассуждением: «Ведь де нами владети Захарьиным, и чем нами владети Захарьиным, а нам служити государю малому, и мы учнем служити старому — князю Володимеру Ондреевичу»{825}. Помимо И. П. Федорова-Челяднина, «государю же сказывал околничей Лев Андреевич Салтыков, што говорил ему, едучи на площади, боярин князь Дмитрей Иванович Немово: «…а как де служити малому мимо старого? а ведь де нами владети Захарьиным»{826}. Бояре П. М. Щенятев, И. И. Пронский, С. В. Ростовский и Д. И. Немой пели ту же песню, какую заводил на заседании Боярской Думы окольничий Ф. Г. Адашев. Нетрудно сообразить, что то была согласованная позиция большинства Думы, или сговор противников самодержца. Важно установить, хотя бы приблизительно, время, когда Иван Федоров и Лев Салтыков «сказывали» Ивану Васильевичу о речах упомянутых бояр. В летописи об этом говорится глухо: «после того», то есть, как явствует из летописного текста, после присяги бояр, проявлявших несговорчивость и строптивость. Фраза «после того» означала, очевидно, вскоре после окончания боярского мятежа. Стало быть, до поездки царя Ивана на богомолье в Кириллов монастырь и уж точно до 1554 года, когда в ходе следствия по делу о бегстве в Литву князя Семена Ростовского обнаружились новые подробности мартовских событий 1553 года. Вот почему мы не можем согласиться с Д. Н. Альшицем в том, что царь Иван и его окружение узнали о тайном сговоре бояр в марте 1553 года «лишь через год после того, как он существовал, узнали от Семена Лобанова-Ростовского, который признался в этом под пыткой»{827}. Данный вывод Д. Н. Альшица основан главным образом на том, что приписка к Синодальному списку Лицевого свода, повествующая о попытке отъезда в Литву князя Семена Ростовского, была сделана раньше, чем приписка к Царственной книге, рассказывающая о боярском мятеже в марте 1553 года. Но первенство во времени той или иной интерполяции не может служить решающим аргументом в вопросе о характере заключенных в ней сведений. Итак, если во время мартовских событий 1553 года Иван IV лишь догадывался, что имеет дело с тайным заговором враждебных русскому самодержавству сил, то вскоре после этих событий он получил от боярина И. П. Федорова-Челяднина и окольничего Л. А. Салтыкова некоторые факты, подтверждающие его догадку. В дальнейшем эти факты множились, и постепенно у Ивана складывалась полная картина произошедшего в начале марта 1553 года. Многое раскрылось во время следствия по делу князя Семена Лобанова-Ростовского, о «подвигах» которого царь уже кое-что слышал от боярина Ивана Федорова-Челяднина. Из приписки к Синодальному списку Лицевого свода, составленной на документальной основе (следственном деле), узнаем, что боярин князь С. В. Ростовский, чувствуя свою вину за происшедшее в марте 1553 года и опасаясь наказания, задумал бежать в Литву. Но начал он с прямой измены, связавшись с литовским послом Станиславом Довойной, находившимся в Москве на исходе лета 1553 года. Ростовский передал Довойне секретные сведения, касающиеся решений Боярской Думы{828}, отговаривал посла заключать с русскими соглашение о перемирии («чтобы они с царем и великим князем не мирилися»), ссылаясь на трудности, переживаемые якобы Московским государством: «А царство оскудело, а Казани царю и великому князю не здержати, ужжо ее покинет»{829}. Вспоминая о государственной измене Семена Ростовского, царь потом скажет: «Своим изменным обычаем литовским послом пану Давойну с товарыщи нашу думу изнесе»{830}. Предательством государственных интересов Русии князь Семен надеялся заслужить расположение к себе польского короля Сигизмунда II Августа, в чем, кажется, преуспел. Где-то через полгода (если не больше) после встреч с послом Довойной Семен Лобанов-Ростовский «послал к королю человека своего Бакшея опасной просить». При этом, как выяснилось затем, в письме к польскому королю князь Семен «писал хулу и укоризну на государя и на всю землю», что опять-таки превращало замышляемый им отъезд в государственную измену. Затем в июле 1554 года С. В. Ростовский направил к Сигизмунду сына своего Никиту{831} «сказати про собя, что он к королю идеть, а с ним братиа его и племянники»{832}. Но на границе с Литвой, в Торопце, Никиту Лобанова-Ростовского «поймали дети боярьские и привели к царю и великому князю». Измена раскрылась. Князя Семена государь велел арестовать и допросить («поймать и выпросить»). На допросе тот изворачивался, как уж между вилами, говорил, что «хотел бежати от убожества и от малоумсьства, понеже скудота у него была разума и всякым добрым делом, туне и в пустошь изъедающи царьское жалование и домашняя своя». «Пойманный» князь показал, что с ним хотели «ехати такие же палоумы Ростовские князи, Лобановы и Приимковы, и иные клятвопреступники»{833}. Здесь же в приписке упомянут князь Андрей Катырев-Ростовский{834}. Царь распорядился создать «следственную бригаду» из 11 человек, куда вошли бояре Иван Федорович Мстиславский, Иван Васильевич Шереметев, Дмитрий Иванович Курлятев, Михаил Яковлевич Морозов, Дмитрий Федорович Палецкий, Даниил Романович и Василий Михайлович Юрьевы, окольничий Алексей Федорович Адашев, постельничий Игнатий Вешняков, казначей Никита Фуников, дьяк Иван Михайлович Висковатый{835}. Персональный состав этой «бригады» вконец запутал А. И. Филюшкина: «Картина оказывается еще более запутанной: в комиссии оказываются лица, названные в приписке 1553 г. мятежниками (Д. И. Курлятев, Н. А. Фуников, Д. Ф. Палецкий, колебавшиеся А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков)»{836}. Однако никто из названных лиц в приписке 1553 года прямо мятежником не назван. Тут у А. И. Филюшкина явный перегиб. Но, даже согласившись с ним, мы не увидим в перечне участников следственной комиссии 1554 года «запутанной картины», зная, что монарх простил «мятежников», не держал на них зла и поэтому включил в следственную группу. Вместе с тем Иван, возможно, хотел проверить их и проследить за тем, как они поведут себя при расследовании новой измены. Расследование выявило немало подробностей мартовского мятежа 1553 года. Семен Лобанов-Ростовский рассказал, как во время болезни государя к нему на подворье приезжали «ото княгини от Офросиньи и от князя Володимера Ондреевича, а чтобы… [он] поехал ко князю Володимеру служити да и людей перезывал, да и со многими есмя думали бояре, толко нам служити царевичю Дмитрею, ино нами владети Захарьиным, и чем нами владети Захарьиными, ино лутчи служити князю Владимеру Андреевичу. А были в той думе многие бояре и княз Петр Щенятев, и княз Иван Турунтай Пронской, и Куракины родом, и княз Дмитрей Немой, и княз Петр Серебряной, княз Семен Микулинский и иные многие бояре, и дети боярские, и княжата, и дворяне с ними в той думе были…»{837}. Д. Н. Альшиц, комментируя данное показание князя Семена, замечал: «Кто имеется в виду под этими «иными многими» — неизвестно. Ясно лишь, что в числе их не может быть никто из тех лиц, которые поименованы тут же в качестве приближенных царя, пытавших Семена Ростовского и вскрывших факт заговора»{838}. Другими словами, по логике Д. Н. Альшица, участники заговора 1553 года не могли находиться среди тех, кто пытал Семена Ростовского и вскрыл факт этого заговора. Историк, наверное, не был бы столь категоричен, если бы допускал возможность христианского прощения царем Иваном виновников мартовского «мятежа» 1553 года. И уж, конечно, он как исследователь должен был бы осмыслить то обстоятельство, что «лица, поименованные в качестве приближенных царя» («судная комиссия»), пытали Семена Ростовского не по факту заговора 1553 года, а в связи с его попыткой бегства в Литву, о чем с полной определенностью сказано как в основном тексте Синодального списка, так и в приписке к нему{839}. И только в процессе дознания всплыли обстоятельства, связанные с мартовскими событиями 1553 года. Однако знать заранее, какие конкретные показания даст Семен Лобанов-Ростовский, никто, разумеется, не мог. Поэтому (заметим еще раз) следственная комиссия создавалась лишь по случаю приготовления князя Семена Ростовского к бегству за рубеж, и принцип ее формирования не соответствовал тому, о чем пишет Д. Н. Альшиц. Нельзя согласиться с Д. Н. Альшицем и тогда, когда он утверждает, будто «перечисленные 11 лиц в июле 1554 г. впервые узнали от Семена Лобанова-Ростовского о том, что за год до этого, во время болезни царя, существовал заговор, имевший целью возвести на престол Владимира Андреевича»{840}. Мы иначе представляем, как у Ивана IV и преданных ему людей формировался взгляд на события начала марта 1553 года. Сопоставление приписок к летописным текстам под 1553 и 1554 гг. показывает, что первоначально (как явствует из приписки к летописной записи под 1553 годом) царь и его ближайшее окружение лишь догадывались о существовании тайного заговора придворных, преследующего цель смены правителя на московском троне. Это более или менее ясно было из мобилизации старицкими князьями служилых людей, отказа Владимира Андреевича целовать крест наследнику престола и, конечно же, из нежелания большинства Боярской Думы присягать «пеленочнику» Дмитрию. По некоторым данным можно было догадаться и о причастности к заговору конкретных лиц. Уже тогда было известно о двурушничестве боярина князя Д. Ф. Палецкого. Тогда же ходили слухи о связях с Ефросиньей и Владимиром Старицкими князя Д. И. Курлятева и печатника Н. А. Фуникова. Подозрительным могло казаться поведение Сильвестра, доброхотствующего Владимиру Андреевичу. Недоверие внушали боярин князь И. М. Шуйский и окольничий Ф. Г. Адашев, распалявшие страсти в Боярской Думе{841}. По действиям Ф. Г. Адашева, отца Алексея Адашева, и Сильвестра, друга Алексея, можно было судить о помыслах самого Алексея Адашева. Чуть позже царь Иван получил информацию, компрометирующую князей Дмитрия Немого-Оболенского, Ивана Пронского, Семена Ростовского и Петра Щенятева. Отсюда следует, что государь, как и близкие ему люди, изначально не заблуждался насчет смысла мартовских (1553) событий. Они сразу же поняли, что имеют дело с тайным заговором и попыткой государственного переворота. «Ино то у вас иной государь есть», — говорил больной царь мятежникам. В этих словах как нельзя лучше отразилось понимание сути происходящего. Были известны, как мы убедились, и отдельные лица, причастные к заговору. Предположения и догадки насчет тайного заговора, некоторые единичные факты, относящиеся к нему, получили подтверждение в показаниях князя Семена Лобанова-Ростовского, арестованного и допрошенного по другому делу. Таким образом, одно из значений приписки к Синодальному списку, помеченной 1554 годом, заключалось в том, что с момента появления приписки к Царственной книге под 1553 годом она стала служить дополнением последней, т. е. дополнением, подтверждающим существование тайного заговора против Ивана IV и расширяющим круг заговорщиков{842}. Если же свести воедино сведения Царственной книги и Синодального списка, получится длинная вереница лиц, состоявших в заговоре против царя и царевича: княгиня Ефросинья Старицкая, князь Владимир Андреевич Старицкий, поп Сильвестр, думный дворянин и постельничий Алексей Адашев, князья и бояре И. М. Шуйский, Д. Ф. Палецкий, Д. И. Курлятев, С. В. Ростовский, И. И. Пронский-Турунтай, Д. И. Немой-Оболенский, П. М. Щенятев, П. С. Серебряный, С. И. Микулинский, окольничие Федор Адашев и Семен Морозов, печатник Н. А. Фуников. В приписке к Синодальному списку после персонального перечисления бояр, не желавших целовать крест царевичу Дмитрию, следует, как мы знаем, глухая фраза «и иные многие бояре». По А. А. Зимину, «среди «многих» бояр, возможно, были князь Ф. И. Шуйский, князь П. И. Шуйский, князь А. Б. Горбатый и князь Ю. В. Темкин-Ростовский (родичи И. М. Шуйского)», а также «брат П. С. Серебряного — князь В. С. Серебряный»{843}. Князя Владимира Андреевича, полагает А. А. Зимин, поддерживал, очевидно, «его «свойственник» Ф. М. Нагой, который входил в группу бояр, выступивших против Глинских во время восстания 1547 г. Окольничий И. И. Колычев также скорее всего держался ориентировки на князя Старицкого в силу связи Колычевых с двором этого князя. Михаил и Гаврила Ивановичи Колычевы были племянниками князя К. И. Курлятева»{844}. Ценность приписки к Синодальному списку заключается не только в том, что она расширяет сравнительно с припиской к Царственной книге круг участников мартовской крамолы 1553 года, но еще и в том, что эта интерполяция раздвигает социальные рамки мятежа, указывая на причастность к нему, помимо княжеско-боярской знати, дворян и детей боярских («и дети боярские и дворяне с нами в той думе были»). Благодаря показаниям Семена Ростовского, отраженным в приписке к основному тексту Синодального списка, стали известны новые свидетельства неблаговидной активности Ефросиньи и Владимира Старицких, перезывавших к себе на службу государевых людей{845}. В результате вырисовывается более полная картина событий начала марта 1553 года, чем это изображено в приписке к Царственной книге. Следовательно, приписки к Синодальному списку и Царственной книге не противоречат друг другу, а дополняют одна другую, создавая целостное описание мартовских событий 1553 года{846}. Полагаем, что мысль об их несовместимости, принадлежащую Д. Н. Альшицу{847}, следует отбросить. Приписка 1554 года к Синодальному списку примечательна еще и тем, что позволяет судить о том, понесли ли кару участники мятежа 1553 года. Из ее содержания (в дополнение к сказанному уже выше) можно еще раз сделать вывод о том, что крамольники благополучно избежали каких-либо наказаний. Иначе трудно понять, почему на следствии Семен Ростовский столь подробно рассказывал о собственной причастности к мартовскому мятежу 1553 года. Во всяком случае, вряд ли потому, что не хотел облегчить свою участь. Напротив: ему, наверное, казалось, что, связывая свое последнее преступление с происшествием, не повлекшим наказание его участников, он может и на сей раз рассчитывать на снисхождение и милость государя. Весьма показательно и то, что князя Семена судили не по совокупности преступлений (за участие в мартовском мятеже 1553 года и за последующую измену), а только по обвинению в государственной измене, выразившейся в передаче секретной информации зарубежному послу и намерении бегства к иноземному властителю. Отсюда ясно, что вина за мятеж 1553 года была царем Иваном прощена, наказанию за нее никто не подвергался, почему она и не была предъявлена Лобанову-Ростовскому. Касаясь вопроса о судебном расследовании по делу Семена Ростовского, Р. Г. Скрынников пишет: «Боярский суд вел дело весьма осмотрительно и осторожно. Судьи намеренно не придавали значения показаниям князя Семена насчет заговора княгини Евфросиньи и знатных бояр»{848}. По нашему мнению, боярский суд не придал значения показаниям Ростовского о мартовском заговоре 1553 года не потому, что вел дело осмотрительно и осторожно, а потому, что по велению Ивана IV вопрос об этом заговоре был закрыт, а его участники прощены. Едва ли Р. Г. Скрынников прав и тогда, когда говорит, будто «показания Ростовского на суде скомпрометировали многих знатных бояр, составивших заговор в целях передачи трона удельному князю»{849}. Большая часть бояр, названных Семеном Ростовским при допросе, вызвала подозрения (а в отдельных случаях — определенную уверенность) в заговоре еще во время мартовских событий 1553 года. Поэтому князь Ростовский вряд ли мог скомпрометировать этих бояр. Он лишь подтвердил обоснованность догадок государя и преданного ему окружения относительно их принадлежности к заговорщикам. Однако Р. Г. Скрынников настаивает на том, что «судебное дознание скомпрометировало многих знатных персон», отмечая при этом старания «руководства» замять дело{850}. На наш взгляд, следовало бы говорить не о «руководстве», а о «судной комиссии». Надо думать, что на работе комиссии не могло не отразиться вхождение в нее А. Ф. Адашева, Д. И. Курлятева, Д. Ф. Палецкого, Н. А. Фуникова — лиц, причастных к мартовскому заговору 1553 года и в этом отношении являющихся сотоварищами С. В. Лобанова-Ростовского. Названные лица, особенно могущественный и влиятельный Алексей Адашев, за которым стоял не менее могущественный и влиятельный Сильвестр, сумели убедить «судную комиссию» в том, что князь Семен совершил измену не по злому умыслу, а по своему ничтожеству и глупости — «убожеству», «малоумству» и «скудоте разума»{851}. Эту явно искусственную версию Адашев поместил в официальную летопись. В данной связи Б. Н. Флоря замечает: «Алексей Адашев, работавший в конце 50-х годов над официальным продолжением «Летописца начала царства», записал в нем признания князя Семена, что тот «хотел бежати от убожества и от малоумьства, понеже скудота у него была разума». Царский советник не был заинтересован в том, чтобы предавать гласности обнаружившиеся в связи с делом князя Семена Ростовского разногласия в среде правящей элиты»{852}. «Царский советник», думается, был главным образом заинтересован в облегчении участи Семена и потому всячески выгораживал его, выдавая совершенную им государственную измену за дурацкую затею выжившего из ума старика. Не без стараний Адашева эта выдумка превратилась в официальную точку зрения. Так, согласно инструкции, данной русским послам, отъезжавшим в Польшу осенью 1554 года, на вопросы о Лобанове-Ростовском следовало отвечать, что он «малоумством шатался», что вместе с ним «воровали его племя такие же дураки»{853}. Данная инструкция, как видим, проходила по ведомству (Посольский приказ), руководителем которого являлся И. М. Висковатый, бывший, как и А. Ф. Адашев, членом следственной комиссии, образованной для суда над С. В. Ростовским. Стало быть, Висковатый присоединился к Адашеву, стремившемуся смягчить вину князя Семена. Не являлось ли это одним из проявлений начавшегося сближения Ивана Висковатого с группой Сильвестра — Адашева? Старания Алексея Адашева и других доброхотов Семена Ростовского не были напрасны, хотя внешне судебный приговор соответствовал тяжести преступления князя: «И царь и великий князь поговорил з боляры, по его делом и по его словом осудил его казнити смертию…»{854}. Но «митрополит Макарей со владыками и архимариты отпросил его от смертные казни; и послал [царь] его на Белоозеро в тюрму»{855}. Недолго князь Семен сидел в тюрьме. Вскоре он вышел из заключения, «получил земли и служил воеводой». Князь же Катырев-Ростовский, заподозренный в сообщничестве с князем Семеном, через три года после осуждения последнего произведен в бояре{856}. Перед нами все та же политика прощения и примирения, провозглашенная Иваном IV в 1549 году. Нельзя, конечно, здесь не учитывать поддержку и помощь, которую оказывали С. В. Ростовскому как своему «единомысленнику» Сильвестр и Адашев. Иван Грозный рассказывает, что после суда над ростовским князем Семеном, «собакой и изменником старым», поп Сильвестр «того собаку учал в велице брежении держати и помогати ему всеми благими и не токмо ему, но и всему его роду»{857}. Эти слова Грозного, справедливо полагает Р. Г. Скрынников, не являлись преувеличением, а тем более — домыслом{858}. По мнению исследователя, «кружок Сильвестра принял самое непосредственное участие в судьбе боярина князя С. В. Ростовского»{859}. После сказанного не покажутся преувеличением или домыслом другие слова Ивана Грозного из послания Андрею Курбскому, касающиеся боярского мятежа 1553 года: «Та же нам пришедшим в царствующий град Москву. Богу же милосердие свое к нам множащу и наследника нам тогда давшу, сына Димитрия. Мало же времени минувшу, еже убо в человеческом бытии случается, нам же немощию одержымым бывшим и зельне изнемогшим, тогда убо еже от тебе нарицаемыя доброхотны возшаташася, яко пиянии, с попоп Селивестром и начальником вашим Алексеем Адашовым, мневше нас небытию быти, забывше благодеяний наших, ниже своих душ еже отцу нашему целовали крест и нам, еже кроме наших детей иного государя себе не искати; они же хотеша воцарити, еже от нас разстояшася в коленех, князя Володимера; младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити (и како бы им не погубити!), воцарив князя Владимира… Та же Божиим милосердием, нам узнавшим и уразумевшим внятельно, и сии совет их рассыпася»{860}. Во второй редакции данного послания Грозного последнее предложение читается иначе: «Та же Божиим милосердием, нам оздравившим, и тако сии совет разсыпася…»{861}. Обе формулировки не исключают, по-видимому, друг друга. Взятые вместе, они показывают, что замысел бояр, возглавляемых Сильвестром и Адашевым, провалился вследствие выздоровления Ивана, который вскоре узнал и ясно понял суть случившегося («узнавшим и уразумевшим внятельно»{862}). Рассказ царя Ивана примечателен тем, что определяет мартовскую 1553 года акцию бояр как заговор («совет»), вдохновляемый и руководимый Алексеем Адашевым и Сильвестром. «Возшаташася, яко пиянии», — так говорится в рассказе о поведении бояр. За этим образным выражением скрывался, по нашему мнению, боярский мятеж. Перед нами, как видим, общая характеристика событий марта 1553 года, не требующая детализации. Иной взгляд у Д.Н.Альшица. «В словах царя, — замечает он, — отсутствует как раз то, что нам было бы всего желательнее в них найти. В них нет как раз указаний на то, как происходили события. Рассказ царя может одинаково подтверждать оба известных нам противоречивых варианта (приписка к Синодальному списку и приписка к Царственной книге. — И.Ф.). В самом деле, выражение письма об участниках событий «возшаташася яко пьяни» в образной форме лишь указывает на факт измены, брожения, шатания ряда лиц, но ничего не говорит ни в пользу версии о тайном заговоре, ни в пользу версии об открытом мятеже. Дальнейший текст письма, говорящий о том, что изменники, забыв присягу, «хотеша воцарити» Владимира Андреевича, также указывает лишь на цель измены, но ничего не говорит, в какой из двух обсуждаемых нами форм она имела место. Наконец, то, что когда царь поправился, «сии совет разсыпася», — одинаково верно для обоих случаев. Как и когда вскрылось дело: потом, в 1554 г., или же все происходило открыто — также неясно из письма. Не давая, таким образом, подтверждения ни тому, ни другому рассказу приписок, письмо вносит новое противоречие. Грозный пишет, что Алексей Адашев стоял во главе изменников. Благодаря этому, о роли Адашева в событиях 1553 г. имеются три взаимно исключающие друг друга версии. Согласно первой, Адашев узнал о заговоре 1553 г. в 1554 г., когда пытал Семена Лобанова-Ростовского. Царское письмо рассказывает, что, напротив, он сам был во главе изменников. Приписка к Царственной книге сообщает, что в момент открытого мятежа он в числе первых добровольно целовал крест на верность царю и царскому сыну. Уже из одного этого видно, что царь, автор трех этих рассказов, обращался с фактами самовластно, передавая их каждый раз так, как ему это казалось наиболее подходящим в каждом случае»{863}. Что можно сказать по поводу этих заявлений Д. Н. Альшица? Когда исследователь сетует на отсутствие в послании Грозного указаний на то, как происходили мартовские события 1553 года, он забывает о жанре анализируемого памятника. Жанр послания, письма не предусматривает обязательной детализации описываемых событий. Автор того или иного послания может ограничиться общим взглядом и оценкой упоминаемых им событий, не входя при этом в подробности. Иное дело летописный жанр, требующий внимания к частностям. Поэтому в данном случае важнее было бы установить, насколько рассказ Ивана Грозного, содержащийся в послании Андрею Курбскому, соответствует по смыслу припискам к Царственной книге и Синодальному списку. К сожалению, у Д.Н.Альшица тут ясности нет. С одной стороны, он полагает, что «рассказ царя может одинаково подтверждать оба известных нам противоречивых варианта», т. е. приписки к Царственной книге и Синодальному списку. С другой стороны, ему представляется, что письмо Грозного не дает подтверждения «ни тому, ни другому рассказу приписок» и «вносит новое противоречие». Д.Н.Альшицу кажется, будто письмо царя «ничего не говорит ни в пользу версии о тайном заговоре, ни в пользу версии об открытом мятеже». С этим трудно согласиться. Желание бояр «воцарить» Владимира Старицкого возникло, несомненно, в результате их взаимных консультаций и общей договоренности — совета, по терминологии Ивана Грозного. Надо полагать, желание и договоренность свою они держали втайне. Можно ли это назвать иначе, чем тайным сговором или тайным заговором? По-видимому, нельзя. Следовательно, письмо Грозного, вопреки заявлению Д.Н.Альшица, все-таки говорит в пользу версии о тайном заговоре. Этот заговор, как явствует из царского послания, обнаружил себя в открытых действиях бояр, которые Иван, склонный к художественным образам, уподобил пьяному разгулу («возшаташася, яко пиянии»). Д.Н.Альшиц тут видит, как мы знаем, «брожение», «шатание». Но ничто не мешает назвать боярские действия, направленные против воли государя, непослушанием, неповиновением и, наконец, мятежом. Следовательно, письмо Грозного, опять-таки вразрез утверждению Д.Н.Альшица, свидетельствует в пользу версии об открытом неподчинении царю, т. е. о мятеже. Стало быть, боярская измена, о которой в данном случае говорит Иван Грозный, приобрела форму тайного заговора, переросшего в открытый мятеж. Именно такой ход событий запечатлен, по нашему убеждению, посланием Грозного князю Курбскому. Нет оснований для утверждения Д. Н. Альшица, что «о роли Адашева в событиях 1553 г. имеются три взаимно исключающие друг друга версии». Мы не располагаем данными, свидетельствующими о том, будто Адашев узнал о заговоре 1553 года только во время допроса Семена Лобанова-Ростовского в 1554 году. Приписка к Синодальному списку позволяет заключить лишь следующее: Алексей Адашев в 1554 году услышал показания Семена Ростовского о мартовских событиях 1553 года. Но это отнюдь не означает, что Адашев тогда же узнал о заговоре 1553 года. Поэтому приписка к Синодальному списку никоим образом не противоречит царскому письму, говорящему об Адашеве как «начальнике» изменников. Что касается приписки к Царственной книге, то сообщаемый ею факт «добровольного», по выражению Д. Н. Альшица, целования креста Адашевым «на верность царю и царскому сыну» не решает существа вопроса. Ведь «добровольно» целовал крест и боярин князь Д. Ф. Палецкий. Но это нисколько не помешало ему тут же снестись с Ефросиньей и Владимиром Старицкими. Неизвестно, насколько искренно присягал царю с наследником и А. Ф. Адашев. Мы не знаем, что было у него в душе. Судя по поведению его отца Ф. Г. Адашева и близкого ему Сильвестра, не все там было столь однозначно и ясно, как представляется Д. Н. Альшицу. На наш взгляд, исследователю не удалось установить правильное отношение толкуемого нами сейчас текста из письма Ивана Грозного к соответствующим интерполяциям Синодального списка и Царственной книги. Со временем сам Д. Н. Альшиц убедился в непрочности своих построений и стал развивать другие идеи. Он увидел содержательное «родство приписок к Синодальному списку и письма Грозного к Курбскому»{864}. Аналогичное родство Д. Н. Альшиц обнаружил, сопоставляя послание царя Ивана Грозного князю Андрею Курбскому с припиской к тексту Царственной книги под 1553 годом. Следовательно, приписки к Синодальному списку и Царственной книге, а также послание царя Ивана князю Андрею представляют собой единый в плане содержания комплекс источников по истории мартовских событий 1553 года. Взятые вместе и выстроенные в определенном порядке, они дают возможность проследить за тем, как у Грозного мало-помалу складывалась картина боярской крамолы, происшедшей в марте 1553 года. Но при этом необходимо помнить, что все три рассказа о боярском мятеже 1553 года, содержащиеся в летописных интерполяциях и в письме Ивана Грозного к Андрею Курбскому, появились тогда, когда Грозный имел более или менее полное представления о мартовских событиях 1553 года. Признание данного обстоятельства требует иного, чем у Д. Н. Альшица, подхода к систематизации упомянутых рассказов, т. е. замены принципа хронологического принципом содержательным. Таким образом, не время появления рассказов о боярском мятеже 1553 года в летописях и царском послании, а их содержание должно быть положено прежде всего в основу изучения данной проблемы. С этой точки зрения поздние приписки могут содержать более ранние сведения, чем приписки, составленные прежде. И здесь первой надо назвать приписку к тексту Царственной книге под 1553 годом{865}. В этой приписке отражены первоначальные впечатления Ивана Грозного, вызванные событиями 1553 года. Они еще преимущественно основаны на предположениях и догадках, вполне правомерных, но не вполне доказанных. Некоторые факты, ставшие известными царю Ивану во время мятежа и вскоре после него, еще недостаточны, чтобы явить полную картину случившегося в марте 1553 года. Таков характер приписки к Царственной книге. Но составлялась эта приписка, как установлено наукой, значительно позднее 1553 года{866}, собственно, тогда, когда Иван Грозный знал все, что можно было знать о мартовских событиях названного года, во всяком случае, намного больше того, что заключено в данной приписке. Казалось бы, весьма осведомленный составитель приписки должен был воспользоваться случаем, чтобы внести в летопись (Царственную книгу) по возможности исчерпывающий рассказ о боярском мятеже 1553 года. Однако он так не поступил, оставив многое за скобками своего повествования. Возникает вопрос: почему? Полагаем, не потому что обращался с фактами, как считал Д. Н. Альшиц, «самовластно, передавая их каждый раз так, как это ему казалось наиболее подходящим в каждом случае». Напротив, автор приписки, демонстрируя приверженность исторической правде, воспроизвел мартовские события 1553 года такими, каковыми они были в действительности и как они виделись ему в тот момент. Тот же принцип приверженности исторической правде лег в основу составления приписки к Синодальному списку. Ее сведения, дополняющие рассказ Царственной книги, основаны, как известно, на документальном материале — судном деле боярина князя Семена Ростовского 1554 года{867}. Необходимо отметить, что эта приписка в изложении фактов боярского мятежа 1553 года не выходит за рамки показаний, добытых в процессе следствия. Для определения правдивости приписки это особенно важно, если учесть, что она составлялась в то время, когда Ивану Грозному стали известны факты, не показанные Лобановым-Ростовским, в частности такой фундаментальный факт, как тайное руководство боярским мятежом 1553 года со стороны Сильвестра и Адашева. Никто не мог помешать Ивану Грозному рассказать об этой роли своих бывших фаворитов в приписке к Синодальному списку. Но он не стал править показания Ростовского и воспроизвел их без изменений, следуя принципу исторической правды. И только через десять лет, когда тайное стало явным, когда обнаружилось, кто управлял мартовским мятежом 1553 года, царь назвал имена Сильвестра и Адашева в своем разящем послании Андрею Курбскому. Здесь же он дал общую оценку тому, что случилось в марте 1553 года. Таким образом, понимание подлинной сути мартовских событий 1553 года пришло к царю Ивану не сразу, а постепенно, по мере обнаружения неизвестных ему ранее обстоятельств и появления новых свидетельств. Приписки к Царственной книге и Синодальному списку, послание Грозного князю Курбскому следует рассматривать как отражения этапов прозрения Ивана IV относительно действительного смысла события марта 1553 года. Как они видятся современному исследователю — вот вопрос, на который пришла пора ответить. Среди новейших историков, пожалуй, один И. И. Смирнов приблизился к пониманию подлинной сути мартовских событий 1553 года, воспринимая их как «попытку реакционных княжеско-боярских кругов произвести государственный переворот и захватить власть в свои руки»{868}. Тут все, на наш взгляд, верно, за исключением «княжеско-боярских кругов», поскольку состав участников государственного переворота выходил за рамки отдельных общественных категорий{869}. Тем не менее, И. И. Смирнов выгодно отличается от тех исследователей, которые стараются упростить проблему, сводя случившееся в 1553 году то к «боярскому брожению»{870}, то к «толкам в Боярской думе»{871}, то к «самым общим разговорам»{872}, то к «спорам или просто каким-то разговорам», ставшим впоследствии известным царю{873}. Не обошлось без попыток изобразить происшедшее в марте 1553 года как заурядный дворцовый эпизод, типичный не только для Руси, но и для государств Западной Европы. «Следует отметить, — говорил Б. Н. Флоря, — что для русского двора середины XVI века, как и для любого другого европейского двора того времени, была характерна постоянная борьба отдельных групп знати за степень участия во власти и за влияние на государя. В условиях, когда монарх уверенно выступал в традиционной роли верховного арбитра в отношениях между этими группами, такая борьба протекала в скрытой форме, но когда монарх (по тем или иным причинам) не мог выполнить эту роль, трения вырывались наружу. Это и произошло во время царской болезни»{874}. То была, по мысли Б. Н. Флори, «банальная история из сферы дворцовых интриг», «не имевшая никаких серьезных последствий»{875}. С этими положениями исследователя невозможно согласиться, ибо в марте 1553 года решался вопрос не о степени участия отдельных дворцовых групп во власти и о мере влияния их на царя, а об узурпации власти и передаче ее новому монарху с целью изменения государственно-политического строя Руси. Нельзя согласиться также и с Р. Г. Скрынниковым, когда он утверждает, будто «перемена лица на троне едва ли изменила бы главные тенденции политического развития государства, тем более что сторонник реформ А. Адашев и его сотоварищ Сильвестр ориентировались скорее на Старицких, чем на Захарьиных»{876}. В марте 1553 года решался вопрос отнюдь не о простой перемене лица на троне, перемене, не затрагивающей религиозно-политические основы власти московского государя. Одно дело — возведенный на царский трон Дмитрий, являющийся прямым наследником российского самодержца, восприемником всей полноты самодержавной власти, дарованной Богом. Другое дело — Владимир Старицкий, оказавшийся на троне не по «Божьему изволению, а по человеческому хотению». В случае с ним власть московского правителя теряла в значительной мере ореол божественного происхождения, а значит, и сакральный характер. Тем самым наносился непоправимый урон теократическому самодержавию, едва возникшему на Руси. Кроме того, переход трона к Старицкому таил опасность, угрожающую чистоте и незыблемости православной веры. Достаточно вспомнить, что ересь, снова поднявшая голову на Руси в середине XVI века, «свила себе гнездо… при дворе княгини Ефросиньи Старицкой»{877}. Известно также о том, что «Ефросинья охотно покровительствовала иноземцам, что двое ближних ее боярынь были немками…»{878}. Нетрудно догадаться, перед какой незавидной перспективой оказалось бы Святорусское царство, взойди на трон Владимир Старицкий, находившийся под сильным влиянием своей матери — женщины властной, всеми фибрами души ненавидевшей московское самодержавство. «Перемена лица на троне» влекла за собой и очень важные политические последствия, касающиеся прерогатив власти московского государя. Ставленник придворной клики Владимир Старицкий уже по этому своему качеству не мог быть полновластным правителем, независимым от тех, кто посадил его на царский престол. Не исключено, что у старицкого князя с партией Сильвестра — Адашева состоялась некая договоренность относительно условий, на которых предстояло ему править. И, конечно же, то были условия, связанные с ослаблением самодержавных прав московского властителя и усилением значения советников, что, как мы знаем, соответствовало установкам Избранной Рады. Тем самым создавалась реальная почва для применения положений статьи 98 Судебника 1550 года, предусмотрительно введенной в законодательство Избранной Радой и являющейся, по определению многих авторитетных исследователей, конституционным актом, ограничивающим самодержавную власть. Но это не все. «Перемена лица на троне», обусловленная волей большинства Боярской Думы, есть в сущности избрание верховного правителя. Поэтому «воцарение» Владимира Старицкого создавало прецедент, открывая возможность установления нового порядка замещения царского стола, основанного не на наследовании, а на избрании, т. е. порядка, схожего с тем, который существовал тогда в Польско-Литовском государстве{879}. Андрей Курбский, как известно, отрицал замысел мятежников посадить на царство Владимира Старицкого. В третьем послании Грозному он писал: «А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его хотели на государство; воистину, о сем не мыслих, понеже и не достоин был того»{880}. Если Курбский говорил здесь правду, то не всю, а лишь касающуюся князя Старицкого. У бояр, похоже, имелся еще один вариант плана передачи царского стола. Иван Грозный, обращаясь к Андрею Курбскому, говорит: «Тако же убо и вы… похотеста в царствии царей достойных истребити, да еще и не от наложницы, но от царствия разстоящеся колена, и хотеста воцарити. И се ли убо доброхотны есте и души за мя полагаете, еже, подобно Ироду, сущего млеко младенца моего смертию погубною хотесте света сего лишити, чюжого же царя в царство ввести?»{881} Нет сомнений, что Грозный в данном случае имел в виду мартовские события 1553 года, во время которых, как явствует из его слов, крамольники хотели «воцарити» Владимира Старицкого — дальнего родственника («от царствия разстоящеся колена»){882} царя Ивана. Но они разрабатывали и второй вариант плана, предусматривающий передачу московского престола «чужому царю», которого не следует смешивать с князем Владимиром Андреевичем Старицким. «Нам кажется трудным предположить, — писал В. Д. Королюк, — что под «чюжаго же царствия царем» Грозный понимал удельного князя Владимира Андреевича Старицкого»{883}. В. Д. Королюк ищет «чужого царя» на Западе, в Литве и Польше, полагая, что появление его на московском престоле означало бы нечто подобное унии Руси с Польско-Литовским государством{884}. Так открывается иноземный элемент в мартовском мятеже 1553 года. В этой связи существенное значение приобретает догадка А. Л. Хорошкевич о том, что «конфликт 1553 г.» был инспирирован «агентами Сигизмунда Августа»{885}. Возможно, А. Л. Хорошкевич несколько преувеличивает роль польских агентов в событиях марта 1553 года, но без их работы вряд ли могла возникнуть идея «чужого царя в царство ввести». Не исключено, что эту идею поддерживал князь С. В. Ростовский и те, кто собирался вмести с ним бежать в Литву, где знали об их пособничестве и готовы были предоставить им укрытие от преследований на Родине. Таким образом, «перемена лица на троне» была бы не столь безобидной, как кажется Р.Г.Скрынникову. Произойди она, существенным образом изменился бы вектор религиозной и политической истории России. Мартовские события 1553 года в данном отношении являют собою нечто вроде развилки истории русской государственности, открывающей два пути дальнейшего ее развития. Один путь, указываемый Избранной Радой, направлял Русь в сторону западных религиозных реформации и вел московское «самодержавство» к ограниченной монархии, а другой, обозначенный венчанием Ивана IV на царство, — к укреплению союза русской церкви с государством и восстановлению самодержавных начал, поколебленных Избранной Радой. Если говорить о непосредственных результатах мартовского мятежа 1553 года, необходимо отметить, что этот мятеж, несмотря на неудавшуюся попытку смены властителя на троне, заметно ослабил власть царя Ивана, а власть так называемых советников его, деятелей Избранной Рады, напротив, усилил. Подтверждение тому находим в одной, казалось бы, неприметной летописной записи, повествующей об отправке осенью 1553 года русского войска в поход на Астрахань. Как свидетельствует летописец, окончательное решение по данному вопросу принимали Алексей Адашев с Иваном Висковатым: «И по цареву и государеву велению и по приговору околничей Алексей и диак Иван приговорили на том, что царю и государю великому князю послати Дербыша-царя на Асторохан да воевод своих в судех Волгою многих и с нарядом <…> и нечто, даст Бог, възмут Астороханьской юрт и царевых и великого князя воеводам посадить на Асторохань царя Дербыша»{886}. По словам А. Л. Хорошкевич, «в этой летописной записи авторами «приговора» наряду с самим царем называются Адашев и Висковатый. Они выступают в двоякой роли: то равных государю (вынося «приговор»), то распорядителей его воли (решая дело в соответствии с его «велением» и «приговором»). Парадоксальность этой ситуации — лучшее доказательство причастности Адашева и соответственно Избранной рады к решению внешнеполитических задач»{887}. Не все в данном комментарии А. Л. Хорошкевич, на наш взгляд, убедительно. Так, вызывает сомнение ее мысль насчет «парадоксальности ситуации», представленной в интересующей нас сейчас летописной записи. Эта запись, судя по всему, запечатлела возникшее в результате мартовского мятежа 1553 года реальное соотношение властных возможностей Алексея Адашева «и соответственно Избранной Рады», с одной стороны, и царя Ивана IV — с другой. И тут важно отметить, что «приговор» Адашева и Висковатого обращен не только к царским воеводам, превосходящим родовитостью как окольничего, так и дьяка, но и к самому государю («приговорили на том, что царю послати»). Кроме того, «приговор» предписывает воеводам, в случае взятия Астрахани, посадить на ханский стол «царя Дербыша». Все это нельзя рассматривать иначе, как покушение на верховную власть и явное ущемление самодержавной власти Ивана. Следует оценить тот факт, что разбираемая нами летописная запись внесена в известный Летописец начала царства, к составлению которого, как не раз уже отмечалось выше, имел прямое отношение Алексей Адашев. Данный факт делает еще более очевидными притязания Адашева «и соответственно Избранной Рады» на высшую власть в России. По верному наблюдению А. А. Зимина, «вскоре после событий 1553 г. позиции Адашевых и их сторонников усиливаются»{888}. Однако с историком трудно согласиться, когда он говорит, что «влияние Сильвестра и его нестяжательского окружения с 1553 г. резко падает»{889}. Нельзя, на наш взгляд, отрывать Сильвестра от Адашева. Эти деятели находились в тесном единстве до самого конца своей политической карьеры, являясь лидерами одной придворной партии. Поэтому укрепление позиций Адашева косвенно указывает на упрочение положения Сильвестра и наоборот. Показателем ослабления власти царя Ивана после мартовских событий 1553 года служат также факты, свидетельствующие о возросшей политической силе Владимира Старицкого. В исторической литературе высказывалось мнение, что «около 1554–1556 гг. Иван IV пошел на известные уступки князю Владимиру Андреевичу. Вероятно, к этому времени относится передача старицкому князю ряда волостей в Дмитровском уезде, в бывших владениях князя Юрия Ивановича, на которые давно претендовал Владимир»{890}. Но особенно примечательно то, что в крестоцеловальной записи Владимира Андреевича на имя царя Ивана и царевича Ивана (1554) старицкий князь фигурирует в качестве регента при малолетнем наследнике{891}, тогда как в крестоцеловальной записи на имя государя и царевича Дмитрия (1553) этого нет{892}. Д. Н. Альшиц, обративший внимание на данную особенность крестоцеловальных записей, увидел здесь свидетельство о росте доверия царя Ивана к Владимиру Андреевичу{893}. Вряд ли это так, поскольку мартовские события 1553 года навсегда поселили в Ивана настороженность в отношении Владимира Старицкого. Вот почему появление в крестоцеловальной записи 1554 года старицкого князя в роли опекуна при несовершеннолетнем наследнике престола говорит, по нашему мнению, не столько о росте доверия Ивана IV к Владимиру, сколько о возросшей политической силе последнего, а точнее сказать, о возросшей власти придворной группировки Сильвестра — Адашева, поддерживающей стремление удельного правителя сесть на московский трон. Итак, приведенные факты рисуют довольно сложную ситуацию, сложившуюся в высшем эшелоне власти после мартовского мятежа 1553 года, а лучше сказать, после выхода на историческую сцену в конце 40-х годов XVI века Избранной Рады. Противникам царя Ивана в ходе хитрой политической игры и ожесточенной борьбы удалось в определенной мере если не ограничить, то потеснить самодержавие московского государя. Как выражается В. М. Панеях, «самодержавные амбиции первого русского царя при данном раскладе политических сил оказывались не во всем удовлетворенными»{894}. Установилось в некотором роде неустойчивое равновесие самодержавной власти и враждебных ей сил. Было неясно, какая чаша перевесит. Перевесило все же русское самодержавие как более других государственных форм соответствующее «реальным социально-экономическим и политическим условиям развития страны»{895}. К сожалению, из-за отсутствия соответствующих источников современный исследователь не может проследить, какие конкретные обстоятельства склонили чашу весов в его пользу. Но зримым рубежом перелома в соотношении сил двух враждебных сторон следует, по всему вероятию, считать начало Ливонской войны. * * *По словам С. Ф. Платонова, «московские умы, занимавшиеся вопросами внешней политики, должны были в то время держаться двоякой «ориентации». Для одних главною задачею момента было укрепление за Москвою сделанных ею завоеваний и оборона, по возможности активная, южных границ. Для других очередным делом представлялось приобретение торговых путей на западе и выход на Балтийское море. Первые считали главным врагом Москвы крымцев, а за ними турецкого султана. Вторые считали своевременным удар на Ливонию, которой не могли в данную минуту помочь ни Швеция, ни Литва, только что связавшие себя мирными трактатами с Москвой. Первых следует считать более осторожными политиками, чем вторых; вторые же, без сомнения, были более чуткими и смелыми людьми. К первым принадлежали Сильвестр и его друзья — рада; на сторону вторых стал сам Грозный»{896}. С. Ф. Платонов, впрочем, затрудняется сказать, куда настойчивее в тот момент «звало время» — на Ливонию или Крым. Но ему ясно, что поход с большим войском на Крым «представлял величайшие трудности, а Ливония была под рукою и явно слаба. Наступать через Дикое поле на Перекоп тогда надобно было с тульских позиций, так как южнее Тулы уже «поле бе», то есть начинались необитаемые пространства нынешней черноземной полосы, и в них не было еще таких опорных пунктов, какими в свое время против Казани стали Васильсурск и Свияжск. Активная оборона южной окраины и ее постепенное заселение были делом исполнимым и целесообразным, и поскольку это дело занимало раду Сильвестра, постольку рада была права. Но фантастический проект перебросить через Дикое поле всю громаду московских полевых войск на Черноморское побережье был, вне всякого сомнения, неисполним. Он являлся вопиющим нарушением осторожной последовательности действий. Только через двадцать лет после этого проекта Москва достигла заметных результатов в деле заселения и укрепления Дикого поля и перенесла границы государственной оседлости с тульских мест приблизительно на р. Быструю Сосну. В начале XVII века с Быстрой Сосны, от Ельца и Ливен, первый самозванец предполагал начать свой поход против татар и турок. Но и этот поход был, конечно, политическою мечтою авантюриста, а не зрелым планом государственного дельца. В исходе XVII века с еще более южной базы пробовал атаковать Крым князь В. В. Голицын, но, как известно, безо всякой удачи. Позднейшие и более удачные походы в Черноморье Петра Великого и Миниха столь же наглядно, как и походы Голицына, показали громадные трудности дела и послужили тяжким, но полезным уроком для последующих операций»{897}. С. Ф. Платонов полагал, что Сильвестр с Избранной Радой толкали Ивана Грозного «на рискованное, даже безнадежное дело», тогда как «время звало» Москву «на запад, к морским берегам»{898}. К этому надо добавить, что внушаемая Избранной Радой царю Ивану идея мира на западе и войны на востоке вполне соответствовала дипломатии Габсбургов и папской курии, отводивших Москве роль застрельщика в осуществлении задач антитурецкой лиги. Прозападная внешняя политика Избранной Рады шла, таким образом, вразрез с национальными интересами Русского государства. К чести Ивана Грозного нужно сказать, что он, обладая гениальной прозорливостью, поднимался до осознания враждебности России не отдельных западных стран, а всей Западной Европы в целом. Поэтому его не раз посещала мысль о создании русско-турецкой антиевропейской лиги{899}. Он хотел, чтобы турецкий султан бы с ним «в братстве и любви и заодин был бы на цесаря римского и на польскаго короля и на чешскаго и на французского и на иных королей и на всех государей италийских»{900}. Отсюда ясно, что время действительно звало Москву на запад, но отнюдь не только к морским берегам. Между тем в историографии, в особенности советской, утвердилось мнение, согласно которому «очень важное значение для Русского государства имело разрешение прибалтийского вопроса, установление нормальных экономических связей с Западной Европой. Правительство Ивана IV правильно поняло насущность этой внешнеполитической проблемы и начало упорную двадцатипятилетнюю борьбу за выход и утверждение на Балтике. Программа борьбы за Прибалтику отвечала интересам не только русского дворянства, но и посадской верхушки. Дворянство рассчитывало на новые поместные раздачи земель в Прибалтике. Кроме того, все больше втягивающееся в рыночные отношения дворянское хозяйство нуждалось в установлении систематических торговых отношений со странами Восточной и Западной Европы. Особенно большое значение торговля через Прибалтику имела для растущих русских городов. Русское купечество стремилось к тому, чтобы открыть русским товарам европейские рынки. Поэтому вполне естественно, что дворянство и посадские верхи поддерживали это направление русской внешней политики»{901}. Сравнительно недавно В. М. Панеях подверг сомнению это укоренившееся в историографии мнение. Причину Ливонской войны, говорит он, «обычно связывают с интересами внешней торговли, нуждавшейся в выходе на Балтику. Однако власть вряд ли это осознавала. Когда в результате успешной кампании весны — лета 1558 г. русское войско вышло на берега Финского залива, здесь даже не приступили к строительству торговых портов, а стали раздавать земли в поместья»{902}. Усомнилась в данном мнении и А. Л. Хорошкевич: «В советской историографии, как правило, подчеркивались внешнеторговые перспективы присоединения Прибалтики. Действительно, расширение границ на запад и завоевание морских портов сулило России свободу торговли, открывало то окно в Европу, в котором в наибольшей степени нуждалось русское купечество и, в первую очередь, сам царь — крупнейший поставщик русской пушнины на мировой рынок и потребитель сукон и предметов роскоши, поступавших с запада. Поддержка русским крупнейшим купечеством Ивана IV в его стремлении к Балтике и создала превратное представление у историков нашего времени, будто царь не только ясно и четко осознавал пользу прямых торговых контактов со странами Северной, Западной и отчасти Центральной Европы, но именно торговые интересы и толкали его к войне с Ливонским орденом. Этот, с нашей точки зрения, объективный фактор был, возможно, не главным в ряду причин, приведших к началу Ливонской войны. Для государя России середины XVI в. мог быть более весомым «субъективный» фактор — стремление обладать «всею вселенною», гипертрофированное желание утвердить себя в качестве истинного и законного преемника и наследника Пруса. Кроме того, достаточно уверенно в литературе того времени звучит тема России как последнего православного царства и его главы как наследника православного императора. Даже если доктрина «Москва — третий Рим» не стала политическим обоснованием нападения на Ливонию и вообще внешних акций Российского государства, то она, как и «Сказание о князьях владимирских», создавала базу для развития и поддержания идеи о божественном происхождении и назначении главы Российского царства. Одна из функций его — поддержание истинного христианства, а посему ему надлежало вести борьбу с ересями как в пределах России, так и вне ее»{903}. А. Л. Хорошкевич устанавливает «еще один объективный фактор, способствовавший эскалации войны Россией — присоединение двух ханств — Казанского и Астраханского — и подчинение одной орды — Ногайской. Большая часть населения этих государственных образований привыкла добывать пропитание и одежду путем грабежа и захвата. Перестройка хозяйств новоприобретенных земель, разумеется, не произошла. Вхождение их в состав Российского царства поставило перед его главой задачу обеспечения знатной верхушки покоренных ханств средствами существования. Иной альтернативы, кроме войны, в то время у России объективно не было»{904}. Наконец, по А. Л. Хорошкевич, существенное значение в выборе Иваном IV направления военных действий «сыграл Посвольский договор 15 сентября 1557 г. Великого княжества Литовского и Ордена, создавший угрозу установления литовской власти в Ливонии»{905}. Трудно согласиться со всеми мыслями А.Л.Хорошкевич, но ее заключение о том, что выход к морским берегам и внешнеторговые интересы России не являлись главными «в ряду причин, приведших к Ливонской войне», представляется нам плодотворным. Оно позволяет несколько иначе взглянуть на события того времени, чем принято в историографии, включая, впрочем, и труд А.Л.Хорошкевич. Завоевание Казанского и Астраханского ханств заметно улучшило безопасность южных границ России. Это позволяло русским повернуться на запад и сосредоточиться на главном и наиболее опасном противнике, олицетворяемом Польшей, Литвой и Ливонским орденом. Если со стороны мусульманского Востока Русскому государству угрожали разорительные военные набеги и домогательства по части уплаты даней, не затрагивающие основ его внутренней жизни, то со стороны католического и протестантского Запада шла политическая и религиозная экспансия, ставящая под сомнение само существование Святой Руси с ее важнейшими институтами — самодержавием, православной верой и церковью. Именно Запад принимал и укрывал изменников и государственных преступников; прямо или косвенно поддерживал политические интриги, направленные против самодержавной власти Ивана IV, превращенного западной пропагандой в кровавого тирана. Именно с Запада накатывались на Русь волны папской агрессии; оттуда же проникали в Россию и ереси, разрушавшие православную веру и апостольскую церковь, следовательно, — русскую государственность. Навредив порядком на Руси, еретики, спасаясь от справедливого наказания, бежали (и это — факт!) на Запад, в соседние Литву и Польшу, находя там надежное укрытие. Вот почему Иван Грозный, начиная Ливонскую войну, старался защитить свое царство с наиболее опасного западного рубежа, а отнюдь не стремился, как наивно считает А. Л. Хорошкевич, «обладать «всею вселенною», чтобы удовлетворить свое «гипертрофированное желание утвердить себя в качестве истинного и законного преемника и наследника Пруса». Хотя Иван и был отчасти мечтателем, но не до такой степени, как полагает А. Л. Хорошкевич. И уж совсем несправедливо корить Россию за эскалацию войны, как это делает А. Л. Хорошкевич. Война была неизбежной{906}. «Вина» царя Ивана состояла лишь в том, что он сумел выбрать самый благоприятный для России момент начала похода на Ливонию{907}. Итак, «время звало» Москву на запад, но не только к морским берегам, а к достижению таких жизненно важных для России геополитических перемен, которые позволили бы ей сохранить свою национальную, государственную, религиозную независимость и самобытность. В условиях ползущей из западных стран экспансии этого можно было добиться, лишь сдвинув границы Руси на запад и взяв под контроль важнейшие портовые города, расположенные, кстати сказать, на землях, находившихся раньше в сфере русского влияния, утраченного в результате управляемого папской курией германского «натиска на Восток»{908}. Сопротивление такой политике, шедшее со стороны Избранной Рады и ее лидеров являлось предательством национальных интересов России{909}. Иван IV преодолел это сопротивление, что свидетельствовало о приближающемся конце всевластия Сильвестра и Адашева. Но пока партия Сильвестра — Адашева была еще сильна. И царю Ивану было, по-видимому, очень не просто заставить замолчать в Думе горластых противников военной кампании на западе. Говоря о противниках и сторонниках войны с Ливонским орденом вообще, не следует, на наш взгляд, делить их по социальному признаку: бояре — противники, дворяне и богатые торговцы — сторонники. Линия раздела между ними проходила не в общественной, а религиозно-политической сфере, характеризуемой положительным или отрицательным отношением к самодержавию Ивана, соблюдением или нарушением чистоты православия и незыблемости православной церкви. За Иваном IV шла часть боярства, причем, похоже, большая часть, если судить по возобладанию решения воевать с Ливонским орденом, а не с Крымским ханством. Несомненно и то, что в числе противников войны на западе были, помимо бояр, и дворяне, так или иначе связанные с княжеско-боярской знатью{910}. Несмотря на свое поражение, противники войны с немцами не складывали оружия, перейдя к скрытым методам борьбы, переходящей нередко в прямую измену и предательство. А. Л. Хорошкевич описывает примечательный в данной связи случай. «Началу военных действий, — говорит она, — предшествовал весьма любопытный эпизод. Павел Петрович Заболоцкий, «знатый боярин», названный гонцом фогта Нейшлосса «Bawick», предупреждал о грозящем Ливонии нападении царского войска из Пскова, причем в этом походе он должен был участвовать и сам. «Bawick» советовал свезти весь хлеб в замок, пока войско еще не покинуло Пскова. 11 января 1558 г. фогт передал новость ливонскому магистру, позднее аналогичное сообщение поместил Й. Реннер в своей хронике, добавив, что русский воевода был очень хорошо настроен по отношению к немцам («gut deutsch»)»{911}. П. П. Заболоцкий, по всему вероятию, принадлежал к партии Сильвестра — Адашева. Главой войска, выступавшего из Пскова в поход на Ливонию, был назначен, как известно, бывший казанский хан Шигалей (Шах-Али){912}. По некоторым известиям, татарин не обрадовался такому назначению и, согласно многочисленным слухам, не хотел воевать с немцами{913}. Его нежелание сражаться с ливонцами во многом объяснялось влиянием А. Ф. Адашева, с которым он, по догадке некоторых исследователей, находился в близких отношениях{914}. По-видимому, эти отношения завязались во время пребывания Шигалея в конце 40-х годов при царском дворе в Москве{915}, когда к власти пришла Избранная Рада со своими вождями Сильвестром и Адашевым. Впрочем, у Шигалея имелись и свои резоны: будучи наследником ханов Большой Орды, Шах-Али враждовал с крымскими Гиреями, претендовавшими на Казань{916}. Этим также объясняется его заинтересованность «в проведении восточной политики»{917}. Важно, однако, отметить согласие Шигалея и Адашева относительно внешнеполитических приоритетов Русского государства середины XVI века, их общее стремление воевать с Крымом, а не с Ливонским орденом. Не потому ли и не по инициативе ли Адашева Шигалей был поставлен командовать царским воинством в походе на Ливонию?. В январе 1558 года Шигалей во главе сорокатысячного войска{918}, сконцентрированного в районе Пскова, перешел ливонскую границу. Орден оказался бессилен перед лицом русских войск, которые «Немецкую землю повъевали и выжгли и людей побили въ многих местех и полону и богатства множество поймали»{919}. Были взяты Новгородок, Алыст, Корслов, Костер{920}. Казалось, следовало бы развивать успех. Но Шигалей ни с того ни с сего ушел из Ливонии и, «вышедчи» из нее, отправил послания ливонскому магистру, рижскому архиепископу и дерптскому епископу, наивно предлагая им «исправитца», начать переговоры с Иваном IV и покориться ему. Произошло это, по всему вероятию, не без стараний Сильвестра и Адашева. У нас нет причин подозревать Ивана Грозного в неправде, когда он рассказывает: «Како убо, егда начася брань, еже на германы, тогда посылали есмя слугу своего царя Шихалея и боярина своего и воеводу князя Михаила Васильевича Глинсково с товарыщи германы воевати и от того времени от попа Силивестра и от Алексея и от вас каковая отягчения словесная пострадах, ихже несть мощно подробну изглаголагати! Еже какова скорбная ни сотворится нам, то вся сия герман ради случися!»{921}. И еще: «Како же убо воспомяну о германских градех супротисловия попа Селивестра и Алексия Адашова и всех вас на всяко время, еже бы не ходити бранию…»{922}. Историки по-разному рассматривают прекращение военных действий русскими зимой 1558 года. «Первое вторжение русской армии в пределы Ливонии, — говорит В. Д. Королюк, — не преследовало цели осады и захвата городов и замков. В его задачи входило разведать силы противника и настроение местного населения»{923}. Вместе с тем «параллельно в Русском государстве велись приготовления к организации планомерного завоевания Прибалтики»{924}. И вот для того, чтобы скрыть эти приготовления и «усыпить бдительность встревоженных январским походом 1558 г. Литвы, Польши, Швеции и Дании», Шигалей прервал столь успешно начатую кампанию и вернулся в Псковскую область{925}. Январский поход 1558 года Б. Н. Флоря назвал «скромным военным предприятием», представлявшим собою «военную демонстрацию, которая должна была принудить Орден отказаться от своей тактики саботажа финансовых претензий царя»{926}. По мнению Б. Н. Флори, русское правительство, посылая войска в Ливонию, «еще не приняло решения о войне. Речь шла о мерах давления, которые должны были заставить Орден выполнить взятые на себя обязательства. Не случайно, возвращаясь из похода, командующий войсками касимовский хан Шах-Али призывал власти Ордена, «будет у вас есть хотения перед государем исправитца», прислать в Москву послов, обещая в этом случае вместе с боярами ходатайствовать за них»{927}. Сходным образом рассуждает И. Граля. Он пишет: «Учитывая военный потенциал Ордена, сближение Ливонии с Польско-Литовским государством и назревающий конфликт с Данией, зимнее наступление царский войск было задумано лишь как демонстрация силы с целью вынудить ливонцев сесть за стол переговоров, которые в конечном итоге могли привести к подчинению Ливонии власти Ивана IV. Об этом свидетельствуют и два послания-манифеста, которые командующий московским войском Шах-Али направил магистру Ордена и церковным иерархам Ливонии, уговаривая их положиться на царскую милость, выплатить задолженность, но прежде всего — возобновить переговоры»{928}. Более убедительной нам представляется догадка А. Л. Хорошкевич, по словам которой «уже на первом этапе Ливонской войны дали знать о себе разные подходы к этому военному начинанию царя. Задуманный с огромным размахом, поход разбился о подводные камни внутриполитических разногласий, которые сопровождали Ливонскую войну на протяжении почти всего ее хода»{929}. Что касается посланий Шигалея, то царь Иван, «уступая боярской оппозиции, возглавляемой или вдохновляемой Сильвестром и Алексеем Адашевым», «приказал направить эти послания ливонским властям»{930}. Отдавая в данном случае должное исторической интуиции А.Л.Хорошкевич, следует все же заметить, что она сглаживает остроту ситуации, говоря о «разных подходах к военному начинанию царя» и «внутриполитических разногласиях» по данному вопросу в правящей верхушке, тогда как, по нашему убеждению, речь должна идти о предательстве России придворной партией Сильвестра — Адашева, способствующей успеху противника и военному поражению своей страны. Это предательство выступало в разной форме, в том числе в виде саботажа и нерадивости. Иван Грозный, вспоминая о возобновлении военных действий летом 1558 года, говорит Андрею Курбскому: «Егда же вас послахом на лето на германские грады, — тебе бо тогда сущу в нашей вотчине, во Пскове, своея ради потребы, а не нашим посланием, — множае убо седми посланников послали есмя к боярину нашему и воеводе, ко князю Петру Ивановичу Шуйскому, и к тебе; вы же егда поидосте с малейшими людьми, и нашим многим посланием напоминанием множае пятинадесять градов взясте. Ино, се ли убо тщание разума вашего, еже нашим посланием напоминанием грады взясте, а не по своему разуму»{931}. Все это не похоже на выдумку. И что же мы видим? Мы видим одного из виднейших военачальников, занятым в военное время своими нуждами и, следовательно, не радеющим о воинских делах. Мы видим двух воевод, игнорирующих приказы государя, которому приходится неоднократно («множае убо седми») отдавать эти приказы, пока воеводы изволят подчиниться им, а точнее — имитировать послушность. Мы, наконец, видим безынициативных командиров, действующих на территории врага не по собственному желанию и разумению, а по принуждению и указаниям из Москвы. Трудно все это именовать иначе, чем неисполнение долга и нарушение присяги, данной государю. А. Л. Хорошкевич, комментируя цитированный текст из письма Грозного Курбскому, замечает: «Оппозиционные настроения по отношению к Ливонской войне… дали о себе знать уже накануне ее. Должно быть, у Ивана IV имелись основания для жалоб на П. И. Шуйского и А. М. Курбского, которым он якобы направил семь посланий…»{932}. Слово «якобы» выдает недоверчивое отношение исследовательницы к свидетельствам Ивана Грозного. И все же она вынуждена признать обоснованность высказанных царем претензий к Шуйскому и Курбскому. Вряд ли стоит называть их жалобами, как это делает А. Л. Хорошкевич. Грозный не жаловался, а обвинял! Не следует также, на наш взгляд, прибегать к неопределенному выражению «оппозиционные настроения», когда налицо, если называть вещи своими именами, неповиновение государю, правда завуалированное и скрытое. Эту и ей подобные акции на Западе могли только приветствовать. Надо сказать, что уже первый поход на Ливонию зимой 1558 года вызвал настоящий переполох в Европе, став предметом толков на имперских, региональных и ганзейских съездах, во множестве летучих листков и в частной корреспонденции{933}. Из одного безымянного конспективного обзора международной конъюнктуры в начальный период Ливонской войны, хранящегося во флорентийском архиве Медичи, узнаем о том, что «польский король, герцог саксонский, свободные города Северной Германии (del mare di Germania) совместно решили потребовать от «Московита», чтобы он отступил в пределы своей земли и покинул Ливонию. «Московит» ответил на это, что он так и сделает, но сначала возвратит те земли, которые ливонцы оккупировали. И после того, как ливонцы пообещают, что в будущем не будут менять границ, строить укрепления, они останутся в пределах своей страны»{934}. Короли и государи, получившие такой ответ, «стали помышлять о войне, но не для того, чтобы помочь Ливонии, а чтобы удержать этого «варвара»{935}. Западная пропаганда превращала Ивана Грозного «в «наследственного врага христианства» (Erbfeind der Christenheit), а его подданных в «кровавых собак московитов»{936}. Цивилизованному Западу мерещилось, будто на него с востока надвигается нечто громадное и опасное. Один французский протестант, Юбер Лангэ, проживавший в саксонском Виттенберге, в таких гиперболических выражениях писал Кальвину: «Московский государь опустошил почти всю Ливонию и взял города Нарву и Дарбат [Дерпт]. Говорят, что совсем недавно он занял Ревель [!], большой приморский город с очень удобной и безопасной гаванью. В Любеке снаряжается флот на средства саксонских городов для подания помощи ливонцам. Но это больше ничего, как приготовление легкой добычи Мосху, который собирает до 80 или 100 тысяч конницы. Король польский остается праздным зрителем этой трагедии; но Мосх выбьет из него эту лень, если займет Ливонию, потому что Литва, Пруссия и Самогития граничат с нею. Да и не похоже, чтобы властитель Московитский успокоился: ему двадцать восемь лет, он с малого возраста упражнялся в оружии и по натуре очень свиреп, причем эта воинственность еще усилилась благодаря ряду удачных войн с татарами, которых он, говорят, побил до 300 или 400 тысяч. Он постоянно возит за собою трех пленных царей, между ними того, у которого он вырвал Казань. В недавнем времени он жестоко напал на шведского короля, который только ценой денег смог купить себе мир. Если суждено какой-либо державе в Европе расти, так именно этой»{937}. Все это показывает, что война России с Ливонским орденом имела не региональное, а общеевропейское значение, что, стало быть, Ливония являлась одновременно и форпостом Запада в его продвижении на Восток, и оборонительным валом, защищающим европейские государства от России, и в некотором роде буфером, отделяющим «просвещенную» Европу от «варварской» Руси. По сути, то была война двух цивилизаций: католико-протестантского Запада, отошедшего от истинного христианства и погрязшего в ересях, с православным Востоком, хранящим в чистоте святоотеческую веру. Вот почему Сильвестр и Адашев со своими сторонниками, выступая против войны с Орденом и чиня затем всяческие помехи ее ведению, действовали в угоду интересам Запада и во вред интересам России. К весне 1558 года царю Ивану удалось, надо полагать, преодолеть сопротивление группы Сильвестра — Адашева и возобновить военные действия. И опять — большой успех. В мае названного года русским сдалась Нарва, а в июле пал Дерпт. В итоге весной и летом 1558 года русские овладели всей восточной частью Эстонии{938}. Однако вскоре русские рати прекратили наступление, дав возможность орденским войскам в октябре — ноябре 1558 года попытаться перейти в контрнаступление{939}. Не исключено, что и здесь поработали Сильвестр с Адашевым. В январе 1559 года наступление нашей армии возобновилось. «Крупные русские силы были двинуты под Ригу. Под Тирзеном (Тирзе) были разгромлены войска рижского архиепископа. Русские войска доходили до самой Риги. У Дюнамюнде (Даугавгриве) были сожжены рижские корабли. Военными действиями была охвачена северная часть Латвии. Русские войска проникали в Курляндию и доходили до границ Восточной Пруссии и Литвы»{940}. В результате Ливонский орден в январе — феврале 1559 года оказался на грани полного разгрома. И вот «при таких, казалось бы, необычайно благоприятных для Русского государства обстоятельствах, буквально накануне полного разгрома и подчинения Ливонии, в военных и политических планах русского правительства произошел неожиданный поворот. Ливонии было предоставлено продолжительное перемирие — с марта по ноябрь 1559 г.»{941}. По справедливому мнению В. Д. Королюка, чьи слова только что приведены, «перемирие 1559 г. было заключено под влиянием группировавшихся вокруг Алексея Адашева участников Избранной рады, в руках которых в это время все еще оставалось практическое руководство военными и политическими делами»{942}. Стало быть, «вместо того, чтобы продолжать успешно начатое наступление против Ливонии, московское правительство, по настоянию Адашева, предоставило Ордену перемирие»{943}. Это было «алогичное с военной и политической точки зрения перемирие»{944}. Следует со всей определенностью подчеркнуть, что «перемирие 1559 г. было невыгодно для Русского государства. Ливонские феодалы получили совершенно необходимую им в военном отношении передышку{945}. Это прекрасно понимал и сам Грозный, когда писал Курбскому: «Лето цело даете безлепа фифлянтом збиратися»{946}. Но не менее важными оказались военно-политические последствия этого «перемирия». 31 августа 1559 года в Вильно (Вильнюсе) между Ливонским орденом и Польско-Литовским государством было заключено соглашение, по которому польский король Сигизмунд II Август принимал в свою «клиентелу и протекцию» Орден, обещая защищать ливонских рыцарей от Русии. Очень скоро (15 сентября) королевский протекторат распространился и на рижское архиепископство. Стратегическая победа ускользала из рук русских. И виной тому были Сильвестр и Адашев с подельниками. Иван Грозный, имея в виду перемирие 1559 года, скажет потом Андрею Курбскому: «И аще не бы ваша злобесная претыкания была, и з Божиею помощию уже бы вся Германия была за православием»{947}. Или: «К сему же и Ливонская брань учинилася вашею изменою и недоброхотством и нерадением безсоветным»{948}. Царь был тут, конечно, прав{949}. Становится также ясно, что не он являлся инициатором заключения перемирия, нанесшего русским национальным интересам, можно сказать, непоправимый вред. «Виленские соглашения 31 августа и 15 сентября 1559 г. Литовского княжества и Ливонии, — говорит А. Л. Хорошкевич, — полностью переломили ситуацию в Ливонии. Сигизмунд Август принимал под свою протекцию и клиентелу Ливонский орден и рижского архиепископа, получив в залог юго-восточную часть орденской территории вдоль Двины, которая тотчас была занята литовскими войсками. Ливонская война грозила превратиться в русско-литовско-датско-крымскую»{950}. По словам другого исследователя, «виленское соглашение круто изменило ход Ливонской войны. Для русской дипломатии оно было тяжелым поражением. Теперь России противостояло не слабое, раздробленное государство, а мощное Литовско-Польское государство»{951}. Больше того, «война между Русским государством и немецко-ливонскими сословиями превратилась в борьбу за ливонское наследство между всеми заинтересованными в балтийском вопросе государствами»{952}. Помимо Польши и Литвы, то были Дания и Швеция. Так война с одним противником переросла в войну с рядом европейских государств, а по существу с Западной Европой{953}. Это произошло опять-таки по вине Избранной Рады и ее лидеров — Сильвестра и Адашева, предоставивших возможность Западу произвести, пользуясь перемирием, перегруппировку сил и поставить Россию перед необходимостью вести войну на несколько фронтов. «Та же оттоле, — говорил царь Иван, — литаонский язык и готфейский и ина множайшая воздвигосте на православие»{954}. Трудно согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он, вопреки своим прежним утверждениям о роли Адашева в выборе направления главного удара, заявляет, будто «в Москве, наконец, осознали, какими опасностями грозит одновременная война в Прибалтике и в ордынских степях. Чтобы избежать распыления сил, русское правительство предоставило Ордену перемирие и предприняло выступление против Крыма»{955}, поскольку, полагает исследователь, «в глазах опытных политиков главную угрозу для России представляли степные кочевники»{956}. Согласно мнению другого исследователя, А. И. Филюшкина, Алексей Адашев как «опытный и талантливый дипломат, видимо, понимал опасность для России перспектив развития Ливонской войны. Начавшись как локальный конфликт, она быстро обнаружила тенденцию к перерастанию в большую войну европейского масштаба. А к такому крупному масштабному конфликту Россия была явно не готова. На наш взгляд, пониманием Адашевым этих обстоятельств можно объяснить его настойчивое стремление к перемирию и поиску компромисса с противником, его отзывчивость на частые просьбы дипломатов «склонить царя на мир»{957}. Вряд ли это так: московское правительство, управляемое Адашевым и стоящим за ним Сильвестром, предоставило перемирие Ордену отнюдь не потому, что стремилось «избежать распыления сил», и не потому, что понимало «опасность для России перспектив Ливонской войны» или быстро обнаружило тенденцию к ее перерастанию «в большую войну европейского масштаба», а потому, что желало спасти Ливонский орден от полного разгрома. Кстати сказать, именно Адашев своей «миролюбивой» дипломатией способствовал такому перерастанию. В. Д. Королюк справедливо квалифицирует перемирие с Орденом, заключенное правительством Адашева, как «предательство русских государственных интересов»{958}. Вот почему трудно согласиться с Б. Н. Флорей, который характеризует заключение перемирия с Орденом в качестве одной из ошибок Алексея Адашева{959}. Перед нами отнюдь не случайная ошибка, а осознанное стремление спасти Орден от катастрофы военного поражения, что нельзя именовать иначе, чем изменой Русскому государству и его главе — российскому самодержцу{960}. Имеют место попытки некоторых историков вставить предательское перемирие 1559 года с Орденом в ряд неуспехов внешней политики России. Так, А. И. Филюшкин утверждает, будто «неудачи русской дипломатии были очевидными: ей не удалось предотвратить вмешательства в конфликт Польско-Литовской стороны. И они были в первую очередь связаны с именем Алексея Федоровича Адашева»{961}. Но это как посмотреть: с точки зрения интересов Русского государства или же со стороны тайных замыслов Алексея Адашева «со товарищи». В последнем случае вряд ли стоит говорить о неудаче Алексея. Напротив, надо вести речь об удаче Адашева, озабоченного положением находящегося на грани ликвидации Ордена и сумевшего дать ливонцам передышку. Иное дело, если исходить из русских государственных интересов. Здесь им был нанесен несомненный урон, предопределивший в известной мере поражение России в Ливонской войне. Следует также заметить, что после завоевания русскими Казани и Астрахани главную угрозу для России представляли не столько степные кочевники, в частности Крымское ханство, сколько Запад. Это с особой наглядностью показала Смута начала XVII века. Что касается «выступления против Крыма», предпринятого «русским правительством» в летний период 1559 года, то оно было организовано, по всей видимости, с целью перевода внимания царя Ивана с западного фронта на южный фронт, с целью прекращения войны с Орденом, чего упорно добивалась придворная партия Сильвестра — Адашева, болевшая за Ливонию — «сирую вдовицу», по жалостливому выражению благовещенского попа. Поэтому, надо полагать, Адашев и его советники намеревались увлечь в это предприятие самого царя, который, по их плану, должен был возглавить поход на Крым. Началась даже соответствующая подготовка. Так, князю М. И. Воротынскому был отдан приказ идти за города Тулу и Дедилов «на Поле мест розсматривать, где государю царю и великому князю и полком стоять»{962}. Личным участием царя в южной экспедиции Сильвестр, Адашев и Ко хотели придать войне с Крымским ханством первостепенное значение сравнительно с Ливонской войной. Государь, однако, в поход не пошел. Крымский же поход брата А. Ф. Адашева, окольничего Д. Ф. Адашева, не принес существенных успехов{963}. Больше того, война с Крымом нанесла непоправимый вред Русскому государству: «Военные операции против Крыма, поглотившие немало средств и сил, не принесли результатов, обещанных Адашевым, а благоприятные возможности победы в Ливонии были безвозвратно упущены»{964}. Однако, вопреки всему этому, официальная летопись, к составлению которой Алексей Адашев имел непосредственное отношение, всячески расхваливала поход Даниила Адашева{965}. Столь же хвалебен и князь Андрей Курбский, по словам которого Данила Адашев с «другими стратилаты» «немалу тщету учиниша во Орде: яко самых побита, такоже жен и детей их немало поплениша, и христианских людей от работы освободили немало, и возвратишася восвояси здравы»{966}. По справедливому мнению Р. Г. Скрынникова, ближе к истине был царь Иван, «указывавший на полную безрезультатность похода»{967}. Грозный писал Курбскому: «Что же убо и ваша победа, еже за Днепром и Доном? И колико убо злая истощения и пагуба християном содеяшася, супротивным же ни малыя досады!»{968}. Вряд ли перед нами поздние впечатления монарха. Это скорее оценка результатов крымского похода, относящаяся к тому времени, когда он состоялся. Поэтому Иван не поддался на уговоры Адашева и его друзей, увлекавших государя заманчивыми перспективами борьбы с Крымской ордой. Курбский свидетельствует: «Мы же паки о сем (войне с Крымом. — И.Ф.), и паки царю стужали и советовали: или сам потщился итъти, или бы войско великое послал в то время (после возвращения Даниила Адашева из крымского похода. — И.Ф.) на Орду. Он же не послушал…»{969}. Нежелание царя Ивана слушать советы Адашева и других представителей Избранной Рады еще больше накалило между ними и без того не простые отношения. К тому же Иван мог ощутить горькие плоды внешнеполитического курса своих бывших любимцев. Перемирие, предоставленное Ордену, позволило ливонским рыцарям собрать военные силы и напасть на русских, не ожидая окончания времени перемирия. «За месяц до истечения срока перемирия орденские отряды появились в окрестностях Юрьева и обратили в бегство воеводу З. И. Плещеева. 11 ноября 1559 г. магистр Кетлер нанес московским войскам второе поражение, разгромив близ Юрьева отряды З. И. Плещеева и З. И. Сабурова. Ливонцы осаждали Юрьев в течение всего ноября»{970}. На фоне этих поражений «в декабре 1559 г. литовский посол А. И. Хоружий проводил сепаратные переговоры с дипломатической комиссией Боярской думы — А. Ф. Адашевым, Ф. И. Сукиным, И. М. Висковатым. Речь шла о необходимости найти способ повлиять на Ивана IV, склонить его к прекращению войны. В январе 1560 г. посол М. Володкевич передал российской стороне ультимативное требование немедленно прекратить войну в Ливонии. Он также пытался добиться частной встречи с А. Ф. Адашевым и И. М. Висковатым»{971} Подобные «сепаратные переговоры» и «частные встречи» с иноземными послами не были случайными. К ним нередко прибегали дипломаты Избранной Рады, проводившие «свой курс вопреки воле царя»{972}. Возможно, под впечатлением этого дерзкого своеволия, а также военных неудач осени 1559 года царь Иван послал Алексея Адашева на Ливонский фронт в качестве одного из воевод. Впрочем, вполне вероятна и еще одна причина удаления А. Ф. Адашева из Москвы, связанная с царицей Анастасией. Дело в том, что об осеннем 1559 года поражении русских войск и об осаде ливонцами Юрьева царь узнал в Можайске, будучи там на богомолье. Сильвестр и Адашев настаивали на срочном возвращении Ивана в Москву. Государь, всерьез обеспокоенный их призывами, прервал богомолье и с тяжело больной царицей отправился в обратный путь, несмотря на жестокую осеннюю распутицу, превратившую дороги в труднопроходимые болота. По свидетельству летописца, ехать «невозможно было ни верхом, ни в санех: беспута была кроме обычая на много время. А се грех ради наших царицы не домогла»{973}. Каково же было удивление и негодование царя, когда он, воротившись в столицу, обнаружил, что зря спешил, что для столь срочного его возвращения в Москву не было никакой надобности{974}. Потом Грозный с досадой и раздражением скажет: «Како убо воспомяну, иже во царствующий град с нашею царицею Анастасиею с немощною от Можайска немилостивное путное прехождение? Едина ради мала слова непотребна!»{975}. Царь имел все основания и в данном случае быть недовольным Адашевым и Сильвестром, мог даже подозревать своих советников, понудивших его отправиться в столь трудную дорогу, в желании навредить «немощной» Анастасии, чтобы ускорить ее кончину. Но как бы то ни было, посылка Адашева на Ливонский фронт являлась знаковой. Она свидетельствовала о немилости Ивана Грозного по отношению к своему недавнему фавориту, будучи, в сущности, началом царской опалы{976}. Что касается самого Адашева, бывшего главой московского правительства{977}, то отрешение от этой должности и отъезд из столицы означали начало конца его политической карьеры. Вряд ли это было полной неожиданностью, свалившейся, как снег, на голову Алексея. Предвестником падения могущественного правителя можно считать уход в монастырь старшего Адашева — Федора Григорьевича, который постригся в монахи (около 1555–1556 гг.{978}) под именем Арсения. Не уловил ли Ф. Г. Адашев начавшуюся перемену в отношении царя Ивана к своему сыну Алексею? И не потому ли он счел за благо укрыться в монашеской келье? Утвердительный ответ здесь весьма возможен. Однако вернемся опять на ливонский театр военных действий. Летом 1560 года война в Ливонии распространилась на значительную территорию{979}. Русская армия, возглавляемая И. Ф. Мстиславским и А. Ф. Адашевым, перешла в наступление. В результате, несмотря на мощные укрепления, пал город Мариенбург (Алуксна). Затем московские рати двинулись на Феллин (Вильянди), слывший лучшей крепостью Ливонии. На пути к этому городу стала орденская армия, которую наши наголову разгромили в битве 2 августа 1560 года. Вскоре русское войско под командованием А. М. Курбского осадило Феллин и взяло его. Среди взятых в плен рыцарей оказался также престарелый магистр Ордена Фюрстенберг, отправленный к царю Ивану и милостиво принятый им. Военный успех Москвы не был, однако, безоблачным: русские потерпели неудачу под Вейссенштейном (Пайде). Тем не менее В. Д. Королюк резонно говорит, что «военные действия 1560 г. в целом нельзя не признать удачными. Главным результатом их был полный разгром Ордена как военной силы»{980}. И все же, по словам В. Д. Королюка, «царь не был доволен поведением своих командующих и впоследствии упрекал своих бывших сотрудников по Избранной раде во главе с Адашевым в нерасторопности, считая успехи 1560 г. явно недостаточными»{981}. Действительно, Грозный писал Курбскому: «Потом же послахом вас с начальником вашим Алексеем и зело со многими людьми, вы же едва один Вельян взясте, и туто много наряду нашего погубисте. Како же убо тогда от литовские рати детскими страшилы устрашистеся. Под Пайду же нашим повелением неволею пойдосте, и каков труд воином сотвористе и ничтоже успеете!»{982}. В. Д. Королюк, толкуя данные упреки Ивана Грозного, замечает: «Возможно, что причиной недовольства царя был отказ воевод двинуться под Ревель (Таллин), на чем настаивал Грозный. Вместо того была предпринята неудачная осада Вейссенштейна (Пайде)… В поведении обоих воевод (Алексея и Даниила Адашевых. — И.Ф.) царь, по-видимому, угадывал теперь сознательное стремление ограничить в Прибалтике успехи русского оружия»{983} От исследователя ускользнула одна существенная деталь в словах государя, а именно то, что воеводы под Феллином «много наряду нашего погубисте». Царь, очевидно, хотел этим указать на ничем не оправданное, чрезмерное расходование воеводами воинского снаряжения{984}, а сказать конкретнее — на потери в орудийном парке{985}. Учитывая саботаж военачальников, о котором догадывался В. Д. Королюк, можно предположить намеренное с их стороны небережливое отношение к армейскому снаряжению, к важнейшей его пушечной части с тем, чтобы затруднить дальнейшее ведение военных действий. Царь Иван понимал реальность подобных нежелательных последствий, осознавал их пагубность для русских войск в войне с Орденом и потому вспомнил в своем послании Курбскому предосудительное поведение воевод под Феллином. И, тем не менее, успехи летнего наступления 1560 года открывали «возможность быстрого завершения войны с Ливонией. Военные силы Ордена были сокрушены, по всей Эстонии крестьяне восстали против немецкого дворянства. Однако русское командование в Ливонии, во главе которого оказался тогда А. Ф. Адашев, не использовало благоприятной обстановки». Адашев «противился расширению военных действий против ливонцев»{986}. Сопровождавшие войну в Ливонии бесконечные интриги, нерадивость, саботаж и предательство воевод, связанных с Алексеем Адашевым и попом Сильвестром, переполнили чашу терпения царя Ивана. Последней каплей, выплеснувшей его гнев наружу, стала кончина царицы Анастасии 7 августа 1560 г{987}. * * *Летописец сообщает: «Преставися благовернаго царя и великого князя Ивана Василиевича вся Русии царица и великая княгиня Анастасия и погребена бысть въ Девичье монастыре у Вознесения Христова въ городе у Фроловских ворот. Та бысть первая царица Русская Московского государьства, а жила со царем и великим князем полчетвертанатцата году, а осталися у царя и великаго князя от нее два сына: царевичь Иван 7 лет, а царевич Федор на четвертом году. Бе же на погребении ея Макарей митрополит всея Русии и Матфей епископ Крутицкий и архимандриты и игумены и весь освященный собор, со царем же и великим князем брат его Юрьи Василиевич и князь Володимер Ондреевич и царь Александр Сафа-Киреивич и бояре и велможи. И не токмо множество народу, но и все нищии и убозии со всего града приидоша на погребение, не для милостыни, но со плачем и рыданием велием провожаше; и от множества народу въ улицах едва могли тело ея отнести въ монастырь. Царя и великаго князя от великаго стенания и отъ жалости сердца едва под руце ведяху. И роздаде же по ней милостыню доволну по церквам и по монастырем въ митрополие и во архиепископиах, и во всех епископиях, не токмо по градцким церквам, но и по всем уездом, много тысящь Рублев; и во Царьград и во Ерусалим и во Святую гору и в ыные тамошние страны и во многие монастыри многую милостыню посла. Бяше о ней плачь не мал, бе бо милостива и беззлобна во всем»{988}. Как видим, смерть и похороны Анастасии вылились в событие огромного общественного значения. Москва погребала первую русскую царицу и добрую, милостивую женщину, готовую всегда прийти на помощь ближнему. Тем тяжелее вина людей, возможно, повинных в ее смерти. Надо сказать, Иван Грозный был уверен в насильственной смерти своей супруги. Современная наука подтвердила эту уверенность{989}. Он также нимало не сомневался в том, среди кого надо искать виновников этой трагедии. Царь говорил Курбскому: «А из женою вы меня про что разлучили? Толко бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было»{990}. Грозный был уверен, что Анастасия погибла вследствие заговора Адашева, Сильвестра и К°. Не случайно также за повествованием государя о тяжком пути из Можайска в Москву с больной царицей, предпринятом по вине Сильвестра, за рассказом о том, что из-за неожиданного отъезда в «царствующий град» пришлось прервать богомолье и тем лишиться покрова Божьего и, следовательно, защиты Господа, за словами об отсутствии врачебной помощи Анастасии и «чадам» ее следует такое заявление Грозного: «И сице убо нам в таковых зелных скорбех пребывающим, и понеже убо такова отягчения не могохом понести, еже нечеловечески сотвористе, и сего ради, сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники, милостивно ему свой гнев учинили; смертные казни не положили»{991}. Иван, как видим, поставил в прямую связь судьбу царицы Анастасии с изменой «собаки Алексея Адашева». Однако, когда государь проявлял «милостивный» гнев по отношению к своему недавнему любимцу, ему, судя по всему, не было еще известно о причастности Адашева к смерти Анастасии. Вскоре эта причастность вскрылась. И теперь уже ничто не могло его спасти. Р. Г. Скрынников отмечает, что «в дни отставки Адашева в Москве не было влиятельных членов Избранной рады. Д. И. Курлятев с весны находился в Туле, откуда его перевели в Калугу. И. Ф. Мстиславский и М. Я. Морозов сражались в Ливонии»{992}. Д. И. Курлятев, кстати сказать, тоже находился в Ливонии, сидя в Юрьеве, куда в 1558 году царь послал его на год воеводой{993}. Но, будь даже эти влиятельные люди в Москве, они все равно не сумели бы защитить Алексея Адашева, судьба которого царем Иваном была уже решена бесповоротно. Несмотря на пришедшее к государю в августе 1560 года известие от воевод об одержанных победах и, следовательно, о заслугах Адашева, являвшегося во время этих побед помощником главнокомандующего{994}, тот был снят с должности третьего воеводы Большого полка и определен воеводой в Феллин{995}. Надо заметить, это произошло через три недели после смерти царицы Анастасии, что косвенно свидетельствует о связи данных событий. Назначение Адашева в Феллин, пусть даже воеводой, означало отстранение назначенца от руководства Ливонской кампанией. Царь явно не доверял своему прежнему фавориту. Однако посылка Адашева в Феллин не являлась в строгом смысле слова отставкой, как считает Р. Г. Скрынников{996}, или почетной отставкой, как об этом пишут А. А. Зимин и А. Л. Хорошкевич{997}. Правильнее, на наш взгляд, было бы рассматривать назначение А. Ф. Адашева воеводой в Феллин как резкое понижение по службе. Согласно Р. Г. Скрынникову, Феллин — «замок, стоявший на острие русского копья, направленного в глубь Ливонии»{998}. То была «самая опасная точка»{999}. Но опасность здесь грозила Адашеву не столько от ливонцев, сколько от своих. Едва он появился в Феллине, как один из дворянских голов О. В. Полев, не имевший ни думного, ни воеводского чина, затеял тяжбу с ним о местах, бив челом государю, что ему, Полеву, «меньши Алексея Одашева быть невместно»{1000}. В этом местническом споре царь Иван стал на сторону Полева, не отказав себе в удовольствии лишний раз показать, что взял и возвысил Адашева «из гноища». В Феллине Адашев навлек, по-видимому, на себя со стороны Ивана Грозного новое серьезное подозрение. Князь Андрей Курбский, рассказывая о пребывании Алексея Адашева в Феллине, говорит о том, будто «не мало градов вифлянских, еще не взятых, хотяще податись ему, его ради доброты…»{1001}. Трудно поверить в такую готовность «градов вифлянских»{1002}. Но, быть может, в приведенном рассказе Курбского заключена завуалированная информация о контактах Адашева с ливонцами, что и насторожило царя Ивана. Понятным тогда становится перевод его в Дерпт (Юрьев) под начало и надзор боярина князя Дмитрия Хилкова. Юрьев — последнее пристанище Алексея Адашева. Здесь вкусил он горечь лишений и унижений. Отсюда он ушел на тот свет. О предсмертных днях Адашева узнаем из Истории о великом князе московском А. М. Курбского и Пискаревского летописца. В Истории Курбского читаем: «И абие повелел (Царь Иван. — И.Ф.) оттуду (из Феллина. — И.Ф.) свести в Дерпт и держан быти под стражею. И по дву месяцех потом в недуг огненный впаде, исповедався и взяв святыя Христа Бога нашего тайны, к нему отъиде. Егда же о смерти его услышавше, клеветницы возопиша цареви: «Се твой изменник сам себе здал яд смертоносный и умре»{1003}. Другой источник, Пискаревский летописец, сообщает: «И как почал множитца грех земской и опришнина зачинатися, и князь велики его послал на службу в Юрьев Ливонской к воеводе ко князю Дмитрею Хилкову, а велел ему быти в нарядчиках. И князь Дмитрей ему быти в нарядчиках не велел, и он ему бил челом многожды, и он не велел быти… И послал его убити князь велики. Пригнал гонец убити, а он преставился за день и лежит в гробу. И послали о нем государю»{1004}. А. А. Зимин, оценивая приведенные известия, замечал: «Обстоятельства последней ссылки Адашева неясны. Курбский пишет, что царь его «повелел оттуду свести в Дерпт, и держан бысть под стражею». По словам автора Пискаревского летописца, царь «его послал на службу в Юрьев Ливонский, а велел ему быти в нарядчиках. И князь Дмитрей ему быть в нарядчиках не велел, и он ему бил челом многажды, и он не велел быти»{1005}. Историк, похоже, усматривал в Истории о великом князе московском и Пискаревском летописце источники, освещающие последнюю ссылку Алексея Адашева разноречиво и несогласованно, тогда как они, на наш взгляд, не противоречат друг другу, а скорее, дополняют друг друга. Из них явствует, что перевод А. Ф. Адашева из Феллина в Юрьев означал окончательное падение временщика, хотя внешне могло показаться, что он еще остается при деле. Ведь царь велел Адашеву быть в Юрьеве «нарядчиком», т. е. командиром крепостной артиллерии{1006}. И это было в порядке вещей. Известно, например, по летописи, что в один из моментов Ливонской войны «нарядчиком» выступал брат Алексея Адашева Даниил Адашев: «А у наряду околничей и воевода Данило Федорович Адашев да Дмитрей Пушкин да с ними дети боярские многие и головы стрелецкие»{1007}. Назначался на ту же должность и Г. Нагой: «А у наряду Григорий Нагой»{1008}. Так что назначение Адашева в Юрьев на роль «нарядчика» вряд ли могло вызвать у Алексея особые опасения. Правда, это назначение сравнительно даже с его положением воеводы Феллина, не говоря уже о предшествующих постах, являлось существенным понижением по служебной лестнице. Трагический поворот в собственной судьбе Адашев в полной мере осознал, вероятно, по прибытии в Юрьев в распоряжение воеводы князя Д. И. Хилкова, который обошелся с недавним своим начальником самовластно, запретив ему быть «нарядчиком». Как понимать поведение Хилкова? Так ли, что тот нарушил повеление государя? По-видимому, нет. И вот, надо думать, почему. На наш взгляд, Грозный о посылке Адашева в Юрьев «нарядчиком» распорядился устно: он велел, а не указал быть ему при «наряде». О том, что слово велел в рассказе Пискаревского летописца употребляется в смысле устного распоряжения, говорит текст, относящийся к Хилкову, который Алексею «быти в нарядчиках не велел, и он бил ему челом многажды, и он не велел быти». Едва ли воевода оформлял свой запрет письменно. И здесь Хилков, конечно, следовал примеру царя. Но, если бы существовал письменный указ Ивана Грозного о назначении Алексея Адашева «нарядчиком» в Юрьев, воевода вряд ли посмел нарушить его. Не исключено также и то, что Иван, передав через гонца устный приказ Адашеву, одновременно через другого посланца инструктировал Дмитрия Хилкова, как обращаться с Адашевым. Грозный играл с Адашевым как кошка с мышью. Подобные игры были в духе его артистической натуры. О негласной инструкции царя Ивана воеводе Хилкову свидетельствует, по нашему мнению, арест Адашева, о котором сообщает Курбский, и реальность которого признают современные исследователи{1009}. Жизнь свою Алексей Адашев закончил в тюрьме. Причина его смерти остается до сих пор не выясненной, и исследователи высказывают по этому поводу разные версии. Например, А. А. Зимин говорит о том, что Адашев умер «неожиданной смертью» от непонятного «огненного недуга»{1010}. С. Г. Шмидт, не касаясь подробностей кончины Адашева, пишет: «В 1560 г. был заключен под стражу в Юрьеве (Тарту), где и умер»{1011}. Столь же немногословен А. Г. Кузьмин: «В 1560 г. умерла Анастасия. В том же году умер в Юрьеве и Адашев»{1012}. Согласно Р. Г. Скрынникову, «Адашев не выдержал свалившихся на его голову бед и «в огненный недуг впал». Он умер от нервной горячки»{1013}. По догадке В. Б. Кобрина, Адашев умер накануне ареста, должно быть оттого, что «сердце не выдержало тяжелых переживаний, связанных с падением Избранной рады»{1014}. Сразу после смерти Адашева возникли слухи, что он сам покончил с собой, приняв яд. По-видимому, проявления «огненного недуга» походили на отравление. Однако князь Курбский отрицал самоубийство Адашева, называя эти слухи клеветническими{1015}. Поступить иначе Курбский не мог. В противном случае Адашев предстал бы как великий грешник, совершивший богопротивное дело — самоубийство. К тому же это самоубийство легко истолковывалось людьми того времени как признание самоубийцей своей виновности. Курбский, изображавший Адашева человеком, который «ангелом подобен»{1016}, ни под каким видом не мог принять версию о его самоубийстве. Но это не значит, что данная версия должна быть отброшена как несостоятельная. Нам она кажется вполне допустимой. По всему вероятию, Алексей Адашев совершил самоубийство после собора 1560 года, признавшего его виновным в смерти царицы Анастасии{1017}. Воображение внушало ему, что теперь от жизни ждать нечего, кроме страшных мучений. И он решился на крайнюю меру. Нельзя, конечно, исключать и того, что князь Хилков или его люди заставили Адашева принять яд, выполняя приказ Грозного. Если это так, то царь «отмеривал мерой», какою «мерили» его противники, пытавшиеся отравить государя. И в этом отношении смерть Алексея Адашева предвосхищает смерть Владимира Старицкого. И последнее замечание относительно судьбы Алексея Адашева. Возникает вопрос, почему Иван Грозный не захотел доставить Адашева для разбирательства в Москву. Думается, потому, что, во-первых, он не сомневался в его виновности и, во вторых, в столице у Адашева было еще немало сторонников, по терминологии царя Ивана, «единомышленников», которые могли вступиться за опального. Это показали ближайшие события после падения Адашева. Но, прежде чем говорить об этом, предельно кратко об уходе Сильвестра с политической сцены. Грозовые тучи, нависшие над Алексеем Адашевым, убедили Сильвестра в безвыходности собственного положения. Он счел за благо ретироваться и просил царя Ивана отпустить его на покой в монастырь. У исследователей нет твердой уверенности, в каком монастыре оказался Сильвестр. Одни из них называют местом его пребывания Кирилло-Белозерский монастырь{1018}, другие — Соловецкий{1019}, третьи говорят, что Сильвестра постригли в монахи и «отправили сначала в Кирилло-Белозерский, а потом еще дальше — в Соловецкий монастырь»{1020}, наконец, четвертые колеблются, упоминая в данной связи то Соловецкий, то Кириллов монастырь{1021}. Для нас неважно, в каком монастыре поселился Сильвестр. Более существенно то, что Грозный, положив опалу на Адашева и Сильвестра, обошелся с ними сравнительно милостиво. Напомним, как Иван сам говорил об этом: «Сыскав изменщ собаки Алексея Адашева со всеми его советники, милостивно ему свой гнев учинили; смертные казни не положили, но по розным местом розослали. Попу же Сильвестру, видевше своих советников ни во что же бывше, и сего ради своею волею отоиде, нам же его благословне отпустившим, не яко устыдившеся, но яко не хотевшу ми судитися здесь, но в будущем веце, пред агньцем Божиим, еже он повсегда служа и презрев лукавым своим обычаем, злая сотвори ми; но в будущем веце хощу суд приятии, елико от него пострадах душевне и телесне… И того ради убо попу Селивестру ничего зла не сотворих»{1022}. Царь не тронул и Анфима — сына Сильвестра: «Того ради и чаду его сотворих и по се время во благоденстве пребывати; точию убо лица нашего не зря»{1023}. Государь пощадил Сильвестра даже после того, как собор признал его вместе с Адашевым виновным в смерти царицы Анастасии. Преставился Сильвестр, по предположению исследователей, где-то около 1570 года{1024}. Как видим, Иван IV, проявляя «милость к падшим», еще не убедился в необходимости «Кроновых жертв». Примечательно, что царь мирно обошелся с «единомысленниками» и «советниками» Адашева и Сильвестра, приведя их к новой присяге на верность престолу, но, увы, напрасно: «Исперваже убо казнию конечною ни единому коснухомся; всем же убо, иже к ним (Адашеву и Сильвестру. — И.Ф.) не приставше, повелехом от них отлучитися, и к ним не приставати, и сию убо заповедь положивше и крестным целованием утвердихом». Однако, продолжает Иван, «наша заповедь ни во что же бысть и крестное целование приступивше, не токмо отсташа от тех изменников, но и болми начаша им помогати и всячески промышляти, дабы их на первый чин возвратити и на нас лютейшее составляти умышление…»{1025}. Измены, следовательно, не прекратились и после падения Сильвестра и Адашева. Можно сказать больше: они, судя по всему, даже умножились. Для этого были свои причины. Главная из них состояла в том, что «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады, в которой они были ключевыми фигурами»{1026}. Это крушение затрагивало «интересы влиятельных политических сил»{1027}, прежде всего тех, что стремились переделать самодержавство Ивана IV в ограниченную монархию наподобие королевской власти в Польско-Литовском государстве. Именно Избранная Рада, возглавляемая Сильвестром и Адашевым, пыталась «утвердить в Русском государстве систему ограниченной монархии, где царь «почтен» лишь «председанием», обладает лишь номинальной властью, в то время как власть реальная находится в руках его советников»{1028}. С падением Избранной Рады рушились и планы переустройства Русского государства на западный манер. Становилось ясно, что парламентаризм в России Ивана Грозного не пройдет{1029}. Но оставшиеся при власти члены упраздненной Избранной Рады, а также их сторонники не расставались с надеждой изменить политическую систему на Руси в соответствии с западными образцами. Скомпрометированные участием в политике Избранной Рады, враждебной русскому самодержавию, лишенные опоры в Избранной Раде, ликвидированной Грозным, они вынуждены были перейти от легальной борьбы к борьбе нелегальной, воплотившейся в разного рода изменах. * * *Эти измены нередко принимали форму побегов от царя в Литву, к польскому королю Сигизмунду II Августу. То были отнюдь не безобидные «перелеты», как может показаться с первого взгляда. В бегство обычно пускались те, кто обладал ценной информацией о Русии, часто информацией секретной. Ценой измены престолу и выдачи государственных секретов беглецы покупали благорасположение к себе короля и безбедную жизнь в Польско-Литоском государстве. Сохранилась крестоцеловальная Запись князя Василия Михайловича Глинского, родича государя по материнской линии, составленная в связи с чрезвычайным обстоятельством, произошедшим с ним. О том, что этот случай имел место, удостоверяет начальный текст Записи: «Се яз князь Василей Михайлович Глинский, что есми перед своим Государем перед Царем и Великим князем Иваном Васильевичем всеа Русии проступил, и яз за свою вину бил челом Государю своему Царю и Великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, отцем его, господином своим, Макарием Митрополитом всеа Русии и его детми, своими господами…»{1030}. Глинский не уточняет своей вины перед Иваном. «В чем состоял проступок Глинского, — говорит А. А. Зимин, — сказать трудно. Возможно, князь Василий, как и многие в придворной среде, выражал недовольство браком царя с «бусурманкой», т. е. с Марией Темрюковной{1031}. Но из содержания Записи, толкующей в первую очередь о недопустимости отъезда князя в Литву{1032}, с полной очевидностью, как нам представляется, следует, что провинность его связана с неудавшейся попыткой бегства за рубеж или, во всяком случае, с замыслом этого бегства. Польский король, тамошние князья и паны часто провоцировали такого рода побеги, посылая к потенциальным беглецам через лазутчиков{1033}, соблазнительные грамоты и речи{1034}. Они замышляли лихо и на русского государя, засылая к нам исполнителей лихих дел — «лиходеев», по терминологии крестоцеловальной грамоты. Это следует из таких ее слов: «А к лиходеем ми Государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии в здешней земле, и в иных землях (выделено нами. — И.Ф.) ни в которых никак не приставати никакими делы, никоторую хитростию. А хто мне учнет говорити какие речи на Государя моего лихо Царя и Великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, и о его Царице и Великой Княгине Марье, и о Государя моего детех и о их землях, Русин, или Литвин, или Лях, ино иной хто ни буди: и мне ко Государю своего лиходеем не приставати никакими делы, никоторую хитростью…»{1035}. Следовательно, измена таких людей, как В. М. Глинский, таила опасность не только Русскому государству, но также лично Ивану Грозному и всей его семье. И все же царь, идя навстречу просьбе митрополита Макария и Освященного собора, простил князя и «вину ему отдал»{1036}. Это прощение приобретает особую значимость, если учесть, что В. М. Глинский приходился родным племянником боярину Д. И. Немому, являвшемуся сторонником князей Старицких{1037}, доставивших царю Ивану массу неприятностей. По весьма вероятному предположению Р. Г. Скрынникова, «Глинский через свою родню боярина князя Немого не раз «износил» Старицким царскую думу»{1038}. И все же царь не держал зла на Глинского. Напротив, он «возводит его в бояре (в конце 1561 — начале 1562)… Осенью 1562 г. князя Василия Михайловича мы встречаем третьим в «навысшей раде» (Ближней думе), после И. Д. Бельского и И. Ф. Мстиславского, и вторым (после Бельского) в комиссии бояр, ведших переговоры с литовским посольством»{1039}. Аналогичный происшествию с В. М. Глинским случай был у князя И. Д. Бельского, тоже царского родственника, но дальнего. В отличие от Глинского, «Бельский был не заподозрен, а уличен в измене и намерениях бежать в Литву»{1040}. Согласно летописи, в январе 1562 года «царь и великий князь положил опалу свою на боярина на князя Ивана Дмитриевича Бельского за его измену, что преступил крестное целование и клятвенную грамоту, а царю и великому князю изменил, хотел бежати в Литву и опасную грамоту у короля взял; а с князем Иваном хотели бежать дети боярские царя и великого князя Богдан Посников сын Губин, Иван Яковлев сын Измайлов да голова стрелецкий Митка Елсуфьев: тот ему дорогу на Белую выписывал. И царь и великий князь князя Ивана посадил за сторожи на Угрешском дворе, а животы его велел запечатати, а з двора возити их не велел; а Митке Елсуфьеву велел вырезати язык зато, что князя Ивана подговаривал в Литву бежати он; а Ивана Михайлова и Богдана Посникова велел казнити торговою казнью, бити кнутьем по торгу, и сослал их с Москвы на заточение в Галичь»{1041}. Помимо летописи, сведения об «измене» князя Ивана Бельского сохранились в крестоцеловальной Записи, составленной в апреле 1562 года с учетом материалов его допроса, на котором он повинился, признав, что изменил царю Ивану: «Преступил есми крестное целованье и свое обещанье, по которой есми грамоте положил на себя клятву и неблагословение, и, забыв жалованье Государя своего, Государю есми своему Царю и Великому Князю Ивану изменил, з Жигимонтом Августом Королем есми ссылался, и грамоту есми от него себе опасную взял, что мне к нему ехати, и хотел есми бежати от государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии к Жигимонту Королю…»{1042}. Бельский присягнул на том, что «к Жигимонту Августу Королю Польскому и Великому Князю Литовскому, или иной хто Государь будет на Литовской земле, и мне к ним не отъехати; также ми и к иным Государем ни к кому не отъехати и до своего живота… А которые дети Государя моего на уделех, и мне к ним не отъехатиж; также ми и к удельным князем ни к кому не отъехати, и не приставати ми к удельным князем ни в какове деле никоторую хитростию; и с ними ми не думати ни о чем, и с их бояры и со всеми их людьми не дружитеся, и не ссылатися с ними ни о каком деле»{1043}. В поручной грамоте бояр, поручившихся за князя Бельского, среди возможных мест, куда он мог бежать, называется еще и Крым: «Ему [Бельскому] за нашею порукою от Государя нашего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, и от его детей от Царевича Ивана да от Царевича Федора не отъехать в Литву, ни в Крым, ни в иные никоторые государства ни в уделы»{1044}. Поручная запись «по тех бояр, кои поручилися по Князе Иване Дмитриевиче Бельском», содержит тот же перечень мест княжеского отъезда{1045}. Вряд ли приходится сомневаться в том, что иноземные правители, принимавшие беглецов, были настроены враждебно по отношению к русскому царю. Довольно симптоматичны с точки зрения политической ситуации в Русском государстве начала 60-х годов XVI века другие клятвенные обязательства И. Д. Бельского и, в частности, следующее: «а к лиходеем ми Государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии никак не приставати никакими делы, никоторую хитростию. А хто ни буди учнет мне говорити какие речи на Государьское лихо Царя и Великого Князя Иваново, и его Царицы и Великие Княгини, и их детей, и о их землях: и мне к Государскому лиходею не приставати ни какими делы, никоторую хитростью; а которые речи учнет мне говорити, и мне речи их сказати своему Государю Царю и Великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и его детем в правду, безо всякие хитрости. Или где которого лиходея Государя своего Царя и Великого Князя Иванова изведаю, или услышу думаючи на Государя своего лихо, или от кого ни буди что изведаю или услышу о Государя своего Царя и Великого Князя Иванова, и о его Царице и Великой Княгине, и о их детех и о их землях о добре или о лихе: и мне то сказати Государю своему Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и его детем в правду безо всякие хитрости, по сей укрепленной грамоте»{1046}. Существенный интерес представляет обязательство Бельского, в соответствии с которым он клятвенно обещает: «Иноземцев мне никаких к себе не приимати, и с ними не говорити ни о каком деле, ни приказывати ми к ним ни с кем никакова слова. А хто мне иноземцы учнут говорити, или ко мне что прикажут с каким человеком ни буди: и мне те их речи все сказати Государю своему безо всякие хитрости, а не утаити мне у Государя никакова слова никакою хитростью, по сему крестному целованью»{1047}. Это обязательство, сходное с тем, которое давал князь В. М. Глинский, свидетельствует об актуальности вопроса, связанного с политическими происками иностранцев, приезжающих со «спецзаданиями» в Россию. Какие наблюдения и выводы можно вывести из летописи и крестоцеловальной грамоты, где заключены известия об «измене» князя Дмитрия Ивановича Бельского, о попытке его бегства за рубеж к польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу? Первое, о чем надлежит сказать, заключается в том, что за годы правления Избранной Рады измена русскому самодержцу и, следовательно, самодержавному государству пустила длинные корни, пронизавшие всю толщу господствующего класса от княжеско-боярской знати до низших слоев служилого люда{1048}. Недаром к измене князя Бельского пристали дети боярские Б. Ф. Губин-Маклаков (Богдан Посников), И. Я. Измайлов (Иван Яковлев), а с ними стрелецкий голова Н. В. Елсуфьев (Митька Елсуфьев){1049}, причем то были дети боярские царя и великого князя Ивана, а что касается Елсуфьева, то еще пуще, поскольку перед нами не рядовой служилый человек, а один из начальников трехтысячного корпуса стрельцов — личной охраны царя{1050}, дислоцированной в «Воробьевской слободе»{1051}. Этот Елсуфьев, имевший поместье в Белой, расположенной поблизости от литовского рубежа{1052}, не только подговаривал Бельского бежать в Литву, но и составил для него, как свидетельствует летопись, подорожную роспись до границы, проявив тем самым деятельное участие в подготовке побега. Показательна причастность к измене князя Бельского и Б. Ф. Губина-Маклакова, отец которого Постник Федор Губин-Маклаков во время правления Алексея Адашева служил в Посольском приказе, принадлежал к числу самых влиятельных приказных дельцов{1053} и, по-видимому, был связан с вождями Избранной Рады. Вот почему участие его сына в измене Бельского приобретало для государя особый смысл. «В глазах царя, — справедливо замечает Р. Г. Скрынников, — заговор Бельского, вероятно, был связан с семенами «измены», посеянными Избранной Радой»{1054}. Следует только добавить, что так оно и было в действительности. Если изменники находились в ближнем служилом кругу Ивана Грозного, то можно представить, сколько их было среди детей боярских, служивших княжеско-боярской знати и прочно связанных с ней. А это означает, что угроза русскому «самодержавству» исходила не только от боярства, но и от определенной части дворянства. Вспомним хотя бы детей боярских старицкого князя Владимира, приготовлявшихся в 1553 году к захвату власти в пользу своего сюзерена, что, несомненно, привело бы к уничтожению московского «самодержавства». Вспомним также сына боярского Матвея Башкина и группировавшихся вокруг него детей боярских, которые уже вследствие приверженности еретическим воззрениям являлись противниками теократического самодержавия, выпестованного православным учением о высшей земной власти. Вспомним еще и о том, что «первые опалы царя Ивана поразили главным образом рядовых дворян, и в особенности родственников и «согласников» павших вельмож…»{1055}. Поэтому принятая в советской историографии мысль о том, будто дворянство, в отличие от боярства, являлось главной опорой самодержавия{1056}, нуждается, по крайней мере, в оговорках. Иван IV жил в постоянной тревоге за безопасность собственную и своей семьи. Отсюда, надо полагать, требование к И. Д. Бельскому сторониться «лиходеев», замышляющих зло в отношении царя и его домашних, а также извещать государя о подобных «лиходеях». Это требование согласуется со словами Грозного о том, что после падения Сильвестра и Адашева их сторонники начали «на нас лютейшее составляти умышление»{1057}, т. е. искать случая, чтобы совершить цареубийство и произвести замену на троне. Эти помыслы соответствовали интересам удельного княжья, в первую очередь интересам старицкого князя Владимира Андреевича. Поэтому Запись требует от князя Бельского не отъезжать и не «приставать» к удельным князьям, ни в каком деле и думе с ними не быть, с их людьми и боярами не дружить и «не ссылатися с ними ни о каком деле». По Р. Г. Скрынникову, данный «запрет имел в виду удельных князей Старицких, Воротынских, Вишневецких и т. д.»{1058}. Возможно, это так. Но главная опасность все-таки исходила от Владимира Старицкого и его матери княгини Ефросиньи. Поэтому, несмотря на широкую формулировку этого запрета, включающую всех удельных князей (даже не существующих, но могущих появиться в будущем), он прежде всего подразумевал, на наш взгляд, старицких князей. Вскоре жизнь снова подтвердила названную опасность. Непосредственно царю Ивану грозили не только враги внутренние, но и внешние. Здесь весьма характерен запрет, налагающий на князя И. Д. Бельского обязанность никаких иноземцев у себя не принимать, никакие дела с ними не обсуждать, ничего им не «приказывать» и «приказов» их не слушать, а обо всех их речах докладывать государю «безо всякие хитрости». Последнее обстоятельство указывает на государственную важность вопросов, поднимаемых иноземными вояжерами. Значит, иностранцы, приезжающие в Россию, вмешивались во внутреннюю жизнь Русского государства, действуя через влиятельных в Москве людей в интересах правительств своих стран. Деятели типа князя Бельского, сотрудничающие с враждебными Русии иностранцами, являют собой яркий пример изменников и предателей. И таких тогда было немало. Недаром в польском сейме существовало преувеличенное, но не беспочвенное мнение о том, что при одном появлении королевского войска на территории Русского государства «много бояр московских, много благородных воевод, притесненных тиранством этого изверга (Ивана Грозного. — И.Ф.), добровольно будут приставать к его королевской милости и переходить в его подданство со всеми своими владениями». Р. Г. Скрынников, характеризуя случай с И. Д. Бельским, говорит: «На допросе Бельский во всем повинился и признал, что изменил государю <…>. Несмотря на признание, следствие по делу Бельского вскоре зашло в тупик. Слишком много высокопоставленных лиц оказалось замешанным в заговоре. Среди подозреваемых оказался Вишневецкий. Причастность этого авантюриста к заговору не вызывает сомнения. Бельский получил тайные грамоты из Литвы к январю 1562 г. Обмен письмами с королем должен был отнять не менее одного-двух месяцев. Следовательно, тайные переговоры начались не позднее ноября-декабря 1561 г. Но именно в это время в Москву приехал Вишневецкий, уже имевший охранные от короля грамоты. Нити измены тянулись в Белевское удельное княжество и, возможно, в другие, более крупные уделы. В такой ситуации правительство сочло благоразумным вовсе прекратить расследование»{1059}. С князем Бельским Иван Грозный поступил милостиво, тем более что Освященный собор во главе с митрополитом Макарием ходатайствовал за него. За Бельского поручились влиятельные члены Боярской Думы и «более сотни княжат, дворян и приказных»{1060}. Это солидарное поручительство выдает в некоторой мере умонастроения поручителей, причем отнюдь не лучшего свойства. Однако ради прошения и челобитья отцов церкви государь простил Ивана Бельского{1061}. После освобождения князь «вернулся к исполнению функций официального руководителя Боярской Думы, хотя доверие Ивана он надолго потерял{1062}. По-другому он обошелся со своими детьми боярскими, вина которых усугублялась тем, что они были царскими служилыми людьми. Стрелецкому голове Елсуфьеву царь «велел вырезати язык» за то, что подговаривал Бельского бежать в Литву. Остальных было приказано подвергнуть торговой казни и отправить в заточение в Галич. Важно отметить, что ни один из изменников не был казнен смертною казнью. Тут опять-таки проявился нрав Ивана IV, отнюдь не кровожадный, как об этом принято думать. На первых порах Грозный не хотел прибегать к репрессиям{1063}. Однако класть голову в песок и не замечать «изменных дел» своих недругов царь уже не мог, так как слишком опасными и рискованными для Русского Православного Царства они становились. В конце июля 1562 года царь Иван, будучи в Можайске, узнал об измене князя Д. И. Вишневецкого. Летописец сообщает: «Приехали ко царю и великому князю Ивану Васильевичи) всеа Русии в Можаеск с Поля з Днепра Черкасские казаки Михалко Кирилов да Ромашко Ворыпаев и сказали, что князь Дмитрей Вишневецкой государю царю и великому князю изменил, отъехал с Поля з Днепра в Литву к Полскому королю со всеми своими людьми, которые с ними были в Поле; а людей его было триста человек». Вишневецкий взял также с собой в Литву «казацкого Московского атамана Водопьяна с его прибором, с полскими (службу несущими в Поле. — И.Ф.) казаки, а казаков с ним было с полтораста человек». Часть казаков перебежчик пытался увести к польскому королю принудительно, но не сумел: «А которые Черкасские Каневские атаманы служат царю и великому князю полскую службу, а живут на Москве, а были на Поле со князем Дмитреем же Вишневецким, Сава Балыкчей Черников, Михалко Алексиев, Федка Ялец, Ивашко Пирог Подолянин, Ивашко Бровко, Федийко Яковлев, а с ними Черкасских казаков четыреста человек, — и князь Дмитрей имал их в Литву к королю Полскому с собою силно, и они со князем Дмитреем в Литву не поехали и королю служити не похотели и приехали ко царю и великому князю со своими приборы, со всеми Черкасскими казаки, на Москву служити государю царю и великому князю всеа Русии»{1064}. Князь Д. И. Вишневецкий, как видим, привел к Сигизмунду Молодому пятьсот пятьдесят воинов, т. е. за малым вычетом целый полк. Это — существенное воинское прибавление к королевскому войску. Мало того, он оголил важный участок русской обороны на юге. Однако была еще одна очень важная (быть может, самая главная) услуга, оказанная Вишневецким польскому королю. Оправдываясь перед «Жигомонтом» за свой прежний отъезд к русскому царю на Русь, он писал польскому властителю, что хотел «годне» ему служить, «справы того неприятеля (Ивана IV. — И.Ф.) выведавши»{1065}. Вероятно, с этими «справами» (московскими государственными секретами) Вишневецкий и ехал в Литву. Комментарии здесь, как говорится, излишни. Новая царская опала обрушилась на князей Воротынских. В сентябре того же года «царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии положил свою опалу на князя Михаила да князя Олександра на Воротынских за их изменные дела, и вотчину их Новосиль и Одоев и Перемышль и в Воротынску их доли велел взяти на себя, и повеле князя Михаила посадити в тюрму со княгинею на Белеозере, а князя Александра и со княгинею велел посадити в тыне в Галиче за сторожи»{1066}. Важный штрих, дополняющий картину, содержится в описи царского архива, в котором, как явствует из нее, находился «сыскной список и расспросные речи боярина князя Михаила Ивановича Воротынского людей 71-го году»{1067}. Дознание показало, что Михаил Воротынский «пытался околдовать («счаровать») царя и добывал на него «баб шепчущих»{1068}. Тогда это было равносильно покушению на жизнь государя, бывшему по тем временам наиболее тяжким преступлением. Если сюда добавить подозрение Грозного (по всей видимости, обоснованное) о приготовлении Воротынских к отъезду в Литву{1069}, то станет ясно, что Иван Грозный не без основания опалился на них{1070}. Тем удивительнее обращение царя с М. И. Воротынским. В тюрьму «опальному боярину было разрешено взять с собой 12 слуг и 12 черных мужиков и «женок». На содержание семьи опального князя отпускалось ежегодно около 100 рублей. В июне 1563 г. опальному были присланы из Москвы шубы, кафтаны, посуда и т. д. Только в счет за 1564 г. Воротынский получил в следующем году «жалованье» три ведра рейнского вина, 200 лимонов, несколько пудов ягод (изюма), а также 30 аршин бурской тафты, 15 аршин венецианской на платье княгине и т. д.»{1071}. Одним словом, не тюрьма, а курорт какой-то. Однако наши историки продолжают уныло твердить о злобном, жестоком и злопамятном нраве царя Ивана IV. Но справедливо ли? А. А. Зимин, а вслед за ним и Р. Г. Скрынников, как бы смягчая действительную вину Воротынских, замечают, что на князя А. И. Воротынского царь со времени свадьбы своей с Марией Темрюковной «косо смотрел» и даже «на него гнев великой держал»{1072}. «Причиной раздора, — полагает Р. Г. Скрынников, — был, вероятно, вопрос о выморочной трети Новосильско-Одоевского удельного княжества, перешедшего после смерти князя А. И. Воротынского (1553) в руки его вдовы княгини Марьи. Земельное уложение 1562 г. начисто лишало двух младших братьев Воротынских права на выморочный «жеребей», включающий лучшие земли удела. Новый закон обсуждался в Боярской думе в январе 1562 г., и Воротынские, надо думать, выразили свое отношение к нему. Обсуждение затрагивало имущественные интересы, и бояре не выбирали выражений. Официальная версия сводилась к тому, что «князь Михаиле государю погрубил», что и явилось причиной опалы на Воротынских. Помимо того, власти подозревали, что Воротынские намерены идти по стопам Бельского и Вишневецкого и готовят почву для отъезда в Литву. Опасения подкреплялись тем, что Новосильско-Одоевское удельное княжение расположено было на самой литовской границе»{1073}. С нашей точки зрения, личные стычки царя Ивана с князьями Воротынскими нельзя считать основной причиной их опалы и ареста. Таковой были «изменные дела» удельных князей, включавшие, судя по всему, покушение на жизнь государя со стороны Михаила Воротынского, который посредством «чар» и «шепчущих баб» старался извести его. Перед нами еще одно свидетельство правдивости Ивана Грозного, говорившего в послании Курбскому о том, что после отставки Сильвестра и Адашева бояре не только не исправились, но стали «составляти» на самодержца «лютейшее умышление». Веским основанием для изоляции Воротынских послужило также подозрение насчет подготовки ими почвы для отъезда в Литву на службу к «Жигимонту». Здесь благодушие и выжидательность могли обернуться крупными потерями для Русии, и лучше было перестараться, нежели дать свершиться измене. Ведь владетельные князья уходили к новому сюзерену вместе с людьми, над которыми властвовали. В условиях Ливонской войны такого рода потери были для Русского государства совершенно нежелательны. Что касается неприятия удельными князьями, в частности Воротынскими, земельного уложения 1562 года, то за этим неприятием надо видеть отвержение самодержавия Ивана Грозного, распоряжающегося по собственному усмотрению и в интересах государства земельными владениями своих вассалов. Поэтому за официальным сообщением о том, что при обсуждении земельного уложения 1562 года «князь Михаиле государю погрубил», скрывалось раздражение самодержавными приемами властвования царя Ивана. Воротынские боролись против русского «самодержавства». На фоне наших суждений странно звучат слова С. Б. Веселовского, размышлявшего над причиной наказания Воротынских. «На этот раз, — говорит он, — дело шло не о побеге, и неизвестно, были ли Воротынские в чем-либо уличены. Летописец говорит коротко, что за «изменные дела» царь положил опалу на Воротынских…»{1074}. Летописец, на самом деле, говорит кратко. Но это не значит, что «дело шло не о побеге», что «неизвестно, были Воротынские в чем-либо уличены». Летописец недвусмысленно заявляет об их «изменных делах», оставляя нас, правда, догадываться относительно конкретного содержания этих дел. Но о самой измене удельных князей он заявляет ясно и прямо. Однако мы знаем, что измена князей в рассматриваемое время главным образом состояла в бегстве к иностранному правителю. Вот почему в поручной записи бояр «по князе Александре Ивановиче Воротынском» речь идет только о гарантиях поручителей относительно такого бегства и ни о чем другом: «Ему [А. И. Воротынскому] за нашею порукою от Государя нашего Царя Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, и от его детей от Царевича Ивана, да от Царевича Федора, да от Царевича Василья не отъехати в Литву, ни в Крым, ни в иные ни в которые государства, ни в уделы»{1075}. Поручная за князя А. И. Воротынского была составлена по случаю прощения Иваном Грозным преступления удельного правителя. Царь простил, в конце концов, и Михаила Воротынского, который в специальной поручной (1566) признал, что «проступил» против государя, и тот своего «холопа пожаловал» и «вины ему отдал»{1076}. 29 октября 1562 года Иван положил опалу на близкого друга, соратника Сильвестра и Адашева боярина князя Д. И. Курлятева, бывшего в Избранной Раде ключевой фигурой, одним из «подлинных вершителей дел при Адашеве», по выражению Р. Г. Скрынникова{1077}. Для Грозного это было, безусловно, отягчающим вину опального боярина обстоятельством. «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, — сообщает летописец, — положил свою опалу на князя Дмитрея Курлятева за его великие изменные дела; а велел его и сына его князя Ивана постричи в черньцы и отослати в Коневец в монастырь под начало; а княгиню княже Дмитрееву Курлятева и дву княжон велел постричи в Оболенску, а, постригши их, велел вести в Каргополе в Челмъской монастырь»{1078}. По словам С. О. Шмидта, отдаленность от столицы Коневецкого Рождественского монастыря, расположенного на острове Коневец на Ладожском озере, «и соответственно известная независимость ссыльных и монастырских властей от правительства допускали возможность — реальную или кажущуюся царю — облегчения участи осужденных. Кроме того, местонахождение монастыря недалеко от западной границы государства могло вызвать опасения, что Курлятев снова предпримет попытку бегства…»{1079}. Для подобных опасений у царя Ивана были основания. Дело в том, что после суда над Сильвестром Д. И. Курлятева назначили воеводой в Смоленск. Оттуда вскоре Курлятев прислал в Москву грамоту, которая хранилась в государевом архиве в «коробочке 187» со следующей пометой: «Да тут же грамота князя Дмитреева Курлятева, что ее прислал государь, а писал князь Дмитрей, что поехал не тою дорогою; да и списочек воевод смоленских, в котором году, сколько с ними было людей»{1080}. Р. Г. Скрынников по этому поводу ставит ряд правомерных вопросов (он их называет «недоуменными») и дает на них, по нашему мнению, правильный ответ: «Зачем сосланному в Смоленск Курлятеву понадобилось оправдываться перед царем за то, что он поехал не тою дорогой? Куда мог заехать опальный боярин, если иметь в виду, что Смоленск стоит на самом литовском рубеже? Для какой цели царю нужны были сведения о воеводах, служивших в Смоленске до Курлятева, о численности их вооруженных свит и т. д.? Все эти вопросы получают объяснения в том случае, если предположить, что во время пребывания в Смоленске Курлятев предпринял попытку уйти за рубеж в Литву, но был задержан и оправдался тем, что заблудился. То обстоятельство, что он «заблудился» со своим двором и вооруженной свитой, вызвало особое подозрение у правительства и служило уликой против опального»{1081}. Следует поставить еще два вполне уместных в данном случае вопроса. Почему Курлятев был назначен в порубежный город, откуда легко было уйти в Литву? Как такое назначение могло состояться? По свидетельству Ивана Грозного, уже приводимому нами, «приятели» Адашева и Сильвестра после отставки этих «изменников» начали им всячески помогать и «промышляти, дабы их воротить на первый чин». Нет ничего невероятного в том, что друзья Сильвестра и Адашева, а значит и Курлятева, позаботились об опальном боярине и сумели добиться его посылки в Смоленск, чтобы облегчить ему бегство в Литву. И Курлятев попытался бежать, но был задержан. Данное предположение приобретает еще большую убедительность при сопоставлении с другим событием, связанным с Дмитрием Курлятевым. Известно, что постриженного в монахи Курлятева отправили в Коневецкий монастырь, расположенный, как отметил С. О. Шмидт, неподалеку от западной границы России{1082}. Оттуда хотя сложнее и труднее, чем из Смоленска, но все-таки можно было бежать за рубеж. Облегчало побег и то обстоятельство, что Курлятев, несмотря на пребывание в Коневецком монастыре «под началом», находился там в качестве чернеца, а не узника. Возможно, московские друзья Курлятева помогали ему и здесь. Царь, по-видимому, понял это и распорядился перевести «изменника» в другой монастырь. В описи Посольского приказа 1626 года читаем: «Столпик, а в нем государева (Ивана IV. — И.Ф.) грамота из Троицы из Сергиева монастыря к Москве, к дияку к Ондрею Васильеву, да другая ко князю Дмитрею Хворостинину да к дияку к Ивану Дубенскому, писана о князе Дмитрее Курлетеве, как велено ево вести в монастырь к Спасу на Волок…»{1083}. Надо полагать, то был Иосифо-Волоколамский монастырь, хотя абсолютной уверенности тут у исследователей нет{1084}. Но если это так, то перед нами знаковое событие. По замечанию Р. Г. Скрынникова, «именно этот монастырь служил тюрьмой для наиболее опасных государственных преступников»{1085}. Следует добавить: Иосифо-Волоколамский монастырь «служил тюрьмой для наиболее опасных государственных преступников», поврежденных, как правило, ересью. По всей видимости, не являлся здесь исключением и Курлятев, так как другие руководящие деятели Избранной Рады, насколько мы знаем, не отличались чистотой православной веры. Если верить А. М. Курбскому, князь Д. И. Курлятев и его сродники через какое-то время («по коликих летех) были погублены («подавлено их всех»){1086}. В деле Курлятева внимание С. Б. Веселовского привлекло то, что можно, как он полагает, «нередко наблюдать в опалах царя Ивана, это — тесное сплетение политических мотивов опалы с личными счетами царя»{1087}. Поэтому исследователь предлагает двойственное определение причины расправы с Курлятевым и его семьей. Он пишет: «Из послания царя Ивана к Курбскому видно, что кн. Дмитрий Курлятев был «единомысленником» Сильвестра и Алексея Адашева, т. е. в числе бояр, которые, по представлению царя, отняли у него всю власть. Можно думать, что Д. Курлятев продолжал держать себя независимо и высказывать непрошеные и неугодные царю советы, и в этом была вся суть его вины. Но оказывается, что дело было не только в этом. В том же послании <…> царь с большой горечью вспоминает такие интимные подробности своих ссор с боярами, которые нам совершенно непонятны, но очень характерны: «А Курлятев был почему меня лучше? Его дочерям всякое узорочье покупай, — благословно и здорово, а моим дочерям — проклято да за упокой. Да много того, что мне от вас бед, всего того не исписати»{1088}. Весьма сомнительно, что князь Курлятев после опалы своих друзей Сильвестра и Алексея Адашева «продолжал держать себя независимо и высказывать непрошеные и неугодные царю советы». Не такой он был простак, чтобы не чувствовать заколебавшейся под собою почвы. Внимательное прочтение приведенного отрывка из послания Грозного Курбскому убеждает в том, что царь действительно вспоминает непонятные современному исследователи интимные подробности, но ничего не говорит о ссорах с боярами. Из слов Ивана следует, по нашему мнению, лишь одно: «единомышленники» вождей Избранной Рады вели себя недостойно, обидно и оскорбительно по отношению к государю; он это запомнил и по прошествии многих лет выказал свою обиду Курбскому. Но то была обида не столько на самого Курлятева, сколько на тех, кто унижал государя. Поэтому при объяснении опал Ивана Грозного не стоит столь усердно сплетать политические мотивы с личными счетами царя, хотя отвергать последние полностью тоже не следует. Вопрос в том, что превалировало в решениях Ивана Грозного. По нашему убеждению, Иван IV, будучи, как сейчас выражаются, государственником, исходил, прежде всего, из государственных интересов страны, которой правил. Вот почему, говоря о Курлятеве, необходимо сказать, что он подвергся опале по совокупности преступлений перед самодержавным государством и поплатился за все «изменные дела», содеянные им в период правления Избранной Рады и несколько позже, за близость к Сильвестру и Адашеву — недругам российского самодержца и Святорусского царства. Громкую известность приобрело бегство к польскому королю князя А. М. Курбского, в недавнем прошлом видного деятеля Избранной Рады{1089}, ставшего главнокомандующим русскими войсками в Ливонии и наместником ее{1090}. Было это в конце апреля 1564 года{1091}. Бежал Курбский под покровом ночи из Юрьева, куда царь его направил на годичную службу после полоцкого похода. Князь, вероятно, воспринял приказ государя как дурное предзнаменование{1092}. Он мог вспомнить, что «Юрьев послужил местом ссылки «правителя» Алексея Адашева. Не прошло и трех лет с того дня, как Адашев после победоносного похода в Ливонию отбыл к месту службы в Юрьев, где он был заключен в тюрьму и умер в опале»{1093}. Это, наверное, побудило его замыслить побег. Однако не следует думать, будто Курбский неожиданно снялся с места и, гонимый страхом, побежал в Литву. Его бегству предшествовали достаточно длительные секретные переговоры с польско-литовской стороной. «Сначала царский наместник Ливонии получил «закрытые листы», т. е. секретные письма, не заверенные и не имевшие печати. Одно письмо было от литовского гетмана князя Н. Ю. Радзивилла и подканцлера Е. Воловича, а другое — от короля. Когда соглашение было достигнуто, Радзивилл отправил в Юрьев «открытый лист» (заверенную грамоту с печатью) с обещанием приличного вознаграждения в Литве. Курбский получил тогда же и королевскую грамоту соответствующего содержания»{1094}. В решающую фазу, согласно предположению Р. Г. Скрынникова, переговоры вступили «в то самое время, когда военная обстановка приобрела кризисный характер. Сильная московская армия вторглась в пределы Литвы, но гетман Н. Радзивилл, располагающий точной информацией о ее движении, устроил засаду и наголову разгромил царских воевод. Произошло это 26 января 1564 года. Через три месяца Курбский бежал в Литву»{1095}. Становится ясно, что князь Андрей оказывал услуги врагам России уже во время переговоров с ними, причем не бесплатно. Он продал свое Отечество, получив за предательство немалые деньги. Русско-литовскую границу беглец перешел с мешком золота, в котором звенели 300 золотых, 30 дукатов, 500 немецких талеров и 44 московских рубля. Но, как говорится, «Бог шельму метит». Когда Курбский добрался до замка Гельмет, где его поджидали королевские люди, то тамошние «немцы» отняли у него золото. В замке же Армус местные дворяне забрали у перебежчика лошадей и даже содрали с головы лисью шапку{1096}. Курбский служил польской короне старательно. «Интриги против «божьей земли», покинутого отечества, занимали теперь все внимание эмигранта. По совету Курбского король натравил на Россию крымских татар, а затем послал свои войска к Полоцку. Курбский участвовал в литовском вторжении. Несколько месяцев спустя с отрядом литовцев он вторично пересек русские рубежи. Как свидетельствуют о том вновь найденные архивные документы, Курбский благодаря хорошему знанию местности сумел окружить русский корпус, загнал его в болота и разгромил. Легкая победа вскружила боярскую голову. Изменник настойчиво просил короля дать ему 30-тысячную армию, с помощью которой он намеревался захватить Москву. Если по отношению к нему есть еще некоторые подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружили стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те тотчас же застрелили его, если заметят в нем неверность; на этой телеге, окруженный для большего устрашения всадниками, он будет ехать впереди, руководить, направлять войско и приведет его к цели (к Москве), пусть только войско следует за ним»{1097}. Предатель служил новым господам истово, «не за страх, а за совесть». Только совесть эта, как сказал бы царь Иван, «прокаженна». Прав Р. Г. Скрынников, когда говорит: «На родине Курбский не подвергался прямым преследованиям. До последнего дня он пользовался властью и почетом. Когда же он явился на чужбину, ему не помогли ни охранная королевская грамота, ни присяга литовских панов-сенаторов. Он не только не получил обещанных выгод, но, напротив, подвергся прямому насилию и был ограблен до нитки. Он разом лишился высокого положения, власти и золота. Жизненная катастрофа исторгла у Курбского невольные слова сожаления о земле божьей — покинутом отечестве. Изменник не мог сказать ничего конкретного по поводу несправедливостей, причиненных ему на родине. Но он должен был как-то объяснить свое предательство. Именно поэтому он встал в позу защитника всех обиженных и угнетенных на Руси, в позу критика и обличителя общественных пороков… Курбский ничего не мог сказать о преследованиях на родине, лично против него направленных. Поэтому он прибегнул к обширным цитатам богословского характера, чтобы обличить царя в несправедливости»{1098}. Таким образом, князь Курбский, отвергавший вместе с другими деятелями Избранной Рады самодержавное развитие Русии, стал на путь сознательной измены и предательства своей родной Земли и своего Государя{1099}, угождая польскому королю, чья ограниченная вольностями вельможных панов власть являлась для беглого князя притягательней и выгодней, чем самодержавие русского царя. Курбский не был гоним на Руси. Он сам погнался за идеей «конституционной монархии». Этот «первый диссидент», как его иногда называют в современной историографии, мечтал о «феодальной демократии». Перед нами, так сказать, продавший душу мамоне первый феодальный демократ на Руси — исторический предтеча нынешних российских демократов. С. Б. Веселовский верно указал на то, что во времена Ивана Грозного и раньше побеги за границу не имели уже ничего общего с правом отъезда служилых людей от сюзерена к сюзерену, что «огромное большинство московских служилых родов уже более двухсот лет служило наследственно, от отца к сыну, что случаи отъездов в этой среде были крайне редким исключением даже в XV в…»{1100}. Посему так называемые отъезды, имевшие место при Иване Грозном, необходимо квалифицировать в качестве бегства, являвшегося не чем иным, как клятвопреступлением, т. е. одним из серьезнейших правонарушений. Однако едва ли можно согласиться с С. Б. Веселовским, когда он сводит опалы, направленные против именитых бояр и удельных князей, к личным конфликтам Ивана Грозного со знатью, не пытаясь уловить в этих опалах смысл государственной необходимости{1101}. Затушевывая изменнический характер побегов, историк склонен видеть в них форму «уклонения от грозы гонений, к которой прибегали слуги царя Ивана»{1102}. Подобный упрощенный подход к политике Ивана IV для нас неприемлем, как неприемлемо и то, что говорит С. Б. Веселовский, устанавливая последовательность царских опал и предательских побегов за рубеж: «Опалы вызывали побеги, и обратно, побеги влекли за собой новые опалы…»{1103}. На самом деле ситуация была, по нашему мнению, несколько сложнее. Как уже отмечалось, «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады»{1104}. И это, безусловно, явилось толчком к побегам. Царь Иван, по всей видимости, предвидел подобные последствия отстранения от власти Адашева и Сильвестра. Отсюда отчасти его стремление обойтись со всеми мирно, приведя к новой присяге на верность государю княжеско-боярскую знать, связанную с руководителями Избранной Рады. Присяга, увы, оказалась напрасной: бояре побежали, а с ними — их люди. Последовали опалы. Если рассматривать события начала 60-х годов XVI века (до введения Опричнины) в данной плоскости, то придется согласиться с тем, что в тот короткий период не опалы порождали побеги, а, напротив, побеги вызывали опалы. В истории побегов XVI века начало 60-х годов занимает особое место. Из спорадических и двусторонних (из Литвы в Россию и в Литву из России) они превращаются в одностороннюю систему побегов из Руси за рубеж. Ко времени учреждения Опричнины бегство становится, по верному наблюдению С. Б. Веселовского, «заурядным явлением»{1105}. Разумеется, нельзя представлять себе это так, будто исследователь имеет дело с повальным бегством. Бежали главным образом лица, замешанные в изменах времени правления Избранной Рады, бежали, опасаясь справедливого возмездия. Особенно возрастает количество побегов таких лиц после изгнания из власти Адашева и Сильвестра. Расширяется также и география «изменных» побегов. Поначалу изменники бежали преимущественно в Литву, а затем и в другие страны. С. Б. Веселовский, помимо Литвы, называет Швецию и Турцию{1106}. Но это — далеко не полный перечень. Более обстоятельное представление о нем дает поручная запись Михаила Ивановича Воротынского (апрель 1566 г.), в которой князь обещает «от своего Государя Царя и Великого князя Ивана Васильевича всея Русии, и от его детей от Царевича Ивана и от Царевича Федора, и от тех детей, которых детей ему Государю вперед Бог пошлет из их земли в Литву к Жигимонту Августу Королю Польскому и к Великому Князю Литовскому, и к его детем, или иной хто на Королевстве Польском или на Великом Княжестве Литовском будет, и к Папе Римскому, и к Цесарю, и к Королю Угорскому, и к Королю Датцкому, и к Королю Свейскому, и ко всем Италийским Королем и ко Князем, и поморским Государем не отъехати и до своего живота; и не ссылатися в Литву и Польшу с Королевскою с Литовскою и с Лятцкою радою, и с иными ни с кем на Государское лихо не ссылатися. Также мне не отъехати к Турскому Салтану, и к Крымскому Царю, и в Нагай и в иные бесерменьские государства, и не ссылатися с ними ни грамотою, ни человеком…»{1107}. Список властителей и государств, куда стремились «отъехати» изменники русского самодержца, составлен, без сомнений, на основании прецедентов, связанных с их побегами. Ясно также и то, что они бежали отнюдь не к друзьям царя Ивана, которые могли вернуть беглецов обратно, выдав московским властям, а к врагам и недоброжелателям. И что же мы видим? Мы видим, что к середине 60-х годов XVI века количество побегов возрастает, что тогда Русскому государству так или иначе противостояла почти вся Западная Европа и Восток в лице Турции, Крыма и Ногайской орды. Причиной, судя по всему, послужило успешное Казанское и Астраханское «взятье» и начавшаяся удачно Ливонская война. Казалось, весь мир объединился против России. И вина за это лежит на Избранной Раде и партии Адашева — Сильвестра, намеренно упустивших победу над Ливонией в самом начале войны с ней и всячески препятствующих налаживанию отношений между Русью, Крымом и Турцией. * * *Однако и после отставки Сильвестра и Адашева сторонники политики этих вождей Избранной Рады продолжали противиться успеху русского оружия в Ливонской войне. Вспоминается такой, в данной связи довольно характерный эпизод. Осенью 1562 года, когда шла подготовка к Полоцкому походу, на литовском фронте по распоряжению боярина, воеводы и наместника «града Юрьева и иных Ливонские земли» Ивана Петровича Федорова-Челяднина были вдруг прекращены все военные действия. В результате «совершенно неожиданно для царя и великого князя страна оказалась в состоянии перемирия с Великим княжеством Литовским»{1108}. Что побудило И. П. Федорова на столь неожиданный и рискованный для него шаг? Оказывается, адресованная ему грамота (10 сентября 1562 г.{1109}) литовского надворного гетмана и Троцкого воеводы Григория Александровича Ходкевича, который призывал юрьевского воеводу остановить войну и ненависть, никаких «шкод» друг другу не чинить и кровь людскую не проливать{1110}. Гетману, вероятно, были известны некоторые слабые струны тщеславного боярина, и он не скупился на льстивые слова: «А иж слышу о том гораздо, иж ты, брат мой, будучи от государя своего на той украйне [Ливонии], всякое дело порадно и промышлено доспеваешь, и домысл твой люди во многом хвалят, для того виделося мне до тебе брата моего грамоту мою выписати и в познанье с тобою прийти. И игдыж слышу о тебе брате моем, иж еси человек побожного и справедливого живота, яко один с православия сущих христиан, чаю, иж от доброго дела слуху своего не отлучишь…»{1111}. Обращение надворного гетмана произвело на Ивана Петровича самое хорошее впечатление, пробудив в нем приятные исторические воспоминания, относящиеся к совсем недавнему прошлому: «А и преж сего бывало, государя нашего царя и великого князя отец князь великий Василей Иванович, бывший государь, с вашего государя отцем, с бывшим королем с Жигимонтом-Августом, меж государей розмирье станетца и меж их война учи-нитца, и от королевских панов великих и от ваших отцов и от ваших дядь присылали бывали ко государя нашего бояром, ко отцем нашим, к дядям нашим, чтоб бояре московские государя своего великого князя наводили, чтоб меж государей был мир и братство и доброе пожитье и кровь бы хрестьянская на обе стороны не лилася, а вашего государя паны также наводили своего государя. Яз помню, брат твой при бывшем государе нашем, при великом князе Василье Ивановиче всеа Руси, как Миколай Миколаевич Радивил присылал на Москву к дяде моему Григорью Федоровичю Давыдовичю, чтоб бояре государя, своего великого князя Василья Ивановича всеа Руси, бывшего государя наводили с вашим государем с королем Жигимонтом, бывшим государем, в дружбу и в братство и в доброе пожитье, чтоб кровь христианская межи ими не лилася, да по той ссылке меж государей и мир составлен. И мы нынеча также хотим, чтоб меж государя нашего и меж вашего государя дружба и братство и смолва сталася и кровь бы христианская не лилася»{1112}. И вот ливонский наместник без «обсылки» с царем Иваном и Боярской Думой отдал приказ о прекращении в Ливонии военных действий: «И мы ныне для доброго дела, чтоб меж государей дал Бог доброе дело ссталося, государя своего воеводам по городом Ливонские земли и всем воинским людем заказали, чтоб вашего государя людем войны никоторые не чинили до государева указу…»{1113}. Услужливость Ивана Петровича очень понравилась Г. А. Ходкевичу, и в одном из последующих своих писем он любовно обращается к боярину: «брат наш милый и приятель»{1114}. Но та же услужливость дала литовским панам повод писать ему отнюдь не в просительном тоне, примером чего может служить грамота князя Александра Ивановича Полубенского, где читаем: «И ты бъ, господин Иван Петрович <…> своей господе и братье бояром писал, штоб они православного и благочестивого государя, царьское его величество, молили умилно, чтоб с нашим государем мир взял о земли свои, о люди, о городы, о землю Ливонскую помирилися; а в те поры накрепко прикажи до Алыста и до Вельяна и по нашим городом, штоб люди твои не входили в землю Ливонскую…»{1115}. Это уже похоже на приказ, возможный лишь при одном условии: какой-то зависимости «господина Ивана Петровича» от литовских панов. В чем она состояла конкретно, сказать определенно, конечно, нельзя из-за отсутствия у нас источников, раскрывающих ее. И. П. Федоров-Челяднин принял, очевидно, единоличное решение о перемирии, не удосужившись выслушать других царских воевод, о чем можно судить по датам переписки литовского гетмана с московским боярином: 15 сентября 1562 года «чухна Андреш» вручил И. П. Федорову грамоту Г. А. Ходкевича, а на следующий день, 16 сентября, ответ был уже готов и отправлен адресату{1116}. Ясно, что за такое короткое время наместник вряд ли мог оповестить воевод и сообразовать свое решение с их позицией. Эта поспешность, с какой Федоров откликнулся на послание Ходкевича, выдает в боярине и осмысленность совершенных им поступков, и его предрасположенность к ним. Понятно, что с уведомлением государя о своей «миролюбивой» акции Федоров не спешил. Только 25 сентября, т. е. через 10 дней после получения грамоты Ходкевича, он написал царю о произошедшем{1117}. По-видимому, ему надо было время, чтобы повязать остальных воевод круговой порукой и, самое главное, полностью остановить войну в Ливонии, поставив Ивана Грозного перед свершившимся фактом. И. П. Федорову удалось сплотить своих подчиненных: грамота царю была отправлена из Юрьева от имени воеводы Ивана Петровича Федорова и всех воевод да дьяка Шемета Шелепина{1118}. Самоуправство И. П. Федорова-Челяднина вызвало у Грозного явное неудовольствие, отразившееся в ряде посланий (грамот), отправленных государем из Москвы в Юрьев. Судя по этим посланиям, обстановка в столице была непростой. Боярская Дума во главе с «навышшим боярином» Иваном Дмитриевичем Бельским готова была поддержать своего собрата, допустившего, с точки зрения самодержца, непростительное своеволие. Бояре били челом государю, «учиняся все поспол». Но царь настоял на том, чтобы Федоров послал Ходкевичу вторую грамоту, текст которой он, очевидно, составил сам. Ливонскому наместнику надлежало переписать этот текст «слово в слово» и отправить своему корреспонденту{1119}. Грозный справедливо считал, что установлению перемирия должны предшествовать переговоры, для чего польско-литовской стороне предлагалось направить в Москву «своих послов или посланников с таким делом, которое на доброе дело постановити могло»{1120}. А пока Иван Грозный, в сущности, отменил решение И. П. Федорова-Челяднина, причем весьма дипломатично и умно. Царь так распорядился: «А что он (Г. А. Ходкевич. — И.Ф.) съ своей стороны людем государя своего заказал чтоб зацепки и шкоты нашим людем не чинили, а ты бъ нашим людем их земли воевати не велел, а доколе к тебе от нас в том деле отписка будет, а к нему от короля какова отписка будет, и о том бы заказал ты накрепко, чтоб наши люди их людем, которые в Лифлянской земле, зацепки не чинили»{1121}. Наряду с тем Иван указал: «А нечто вперед к тебе Григорей Хоткеевич пришлет грамоту о том, чтоб тебе боярину нашему нашим воинским людем из Смоленска, с Велижа, с Невля, с Заволочья, с Опочки, с Себежа и иных наших порубежных городов войны на литовские места чинити не велети, и ты б о том к нему отписал, что ты боярин нашь и наместник и воевода Вифляндские земли, и ты нашим Вифлянские земли воиньским людем литовским людем зацепки и шкоты чинити не велел на время <…>; а по иным порубежным городом нашим воеводы наши иные, и по тем городом те воеводы наши о порубежных делех и ведают, и тебе к нему про те порубежные городы, чтоб из них война уняти, без нашего ведома отписати нельзя»{1122}. Следовательно, царь Иван приказал боярину самому дезавуировать перед Ходкевичем свое решение о перемирии, расписавшись в бессилии обеспечить в полном объеме реализацию этого решения и «унять войну», поскольку не обладал властью над «воинскими людьми» порубежных городов, откуда совершались военные рейды. Таким образом, боярину было указано его место{1123}. В грамоте от 4 октября 1562 года государь строго предупреждал Федорова на будущее: «А нечто вперед какова от Григорья Ходкева к тебе грамота будет, и ты бы по той грамоте отписки к нему не учинил до нашего указу, а тое бы еси его грамоту прислал к нам»{1124}. Ивану хорошо был знаком боярский нрав, и, надо полагать, поэтому он повторил данный наказ в другой своей грамоте, датированной 11 октября 1562 года: «А нечто Григорей Хоткевич к Ивану отпишет, и Иван бы тое грамоту прислал ко государю; а без государевы бы обсылки Иван к Григорью Хоткееву грамоты от себя не посылал, а присылал бы те грамоты ко государю часу того».{1125} С другой стороны, неоднократное напоминание Федорову о недопустимости самостоятельной переписки с Ходкевичем характеризует вину и степень ответственности, взятой на себя юрьевским воеводой. Более конкретно сказать об этом царь повелел самому И. П. Федорову в грамоте Г. А. Ходкевичу: «А яз, сколко могу, взял на свою голову через царское повеление, столко о покое христьянском на границах в своем управлении берег»{1126}. Действительно, боярин взял на себя слишком много, вступив в самостоятельную переписку с надворным гетманом и приняв решение без ведома государя. Конечно, он понимал это и раньше, а вместе с ним — воеводы, сидевшие в ливонских городах и поддержавшие его, да дьяк Шемет Шелепин, находившийся при нем. Все они, наверное, наделялись, что их самоуправство останется без последствий. Но просчитались. И тогда, оробев, писали Ивану: «Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Руси холопи твои Иванец Петров Федоров и все воеводы да Шеметець Щелепин челом бьют»{1127}. Причина для страха была нешуточная: к чему бы сами ни стремились И. П. Федоров и воеводы, затеянное ими не санкционированное царем перемирие полностью противоречило русским интересам и могло если не сорвать, то, по крайней мере, затруднить поход на Полоцк, подготовка к которому шла полным ходом с осени 1562 года, если не раньше{1128}. Независимо от субъективных целей наместника Ливонии, установленное им де-факто перемирие с Литвой объективно являлось очередным предательством по отношению к России, напрягавшей силы в борьбе с наседавшими на нее со всех сторон врагами. Однако, сказать по правде, в данном случае, на наш взгляд, субъективные и объективные моменты совпадали. Возникает вопрос, почему так повел себя И. П. Федоров-Челяднин? Отвечая на этот вопрос, А. Л. Хорошкевич говорит: «Показательна приверженность Федорова к давним традициям внешних сношений. Он с удовольствием вспоминал, как в 1520–1522 гг. его дядя стал инициатором заключения перемирия с Великим княжеством Литовским. Он верил, что его авторитет как представителя «Ближней рады» царя ничуть не ниже, нежели его дяди 40 годами раньше. Поэтому Федоров решился на весьма опасный, как показала его будущая судьба, дипломатический шаг: он самостоятельно, даже без уведомления царя де-факто установил перемирие с Литовским княжеством. На совершение столь смелого поступка оказали влияние и воспоминания о родственных традициях, и новая для Руси практика боярского правления в период малолетства Грозного, когда именно бояре самостоятельно решали все сложные международные вопросы. Однако с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом, а Федоров оказался недостаточно дальновиден. Для Грозного единственным авторитетом в области международных отношений давно стал только он сам, поэтому Федоров получил отповедь, читавшуюся между строк послания, направленного ему царем для пересылки Ходкевичу. И на протяжении каких-нибудь двух месяцев — конца сентября — конца ноября 1562 г. — Федоров должен был твердо усвоить непреложную для самодержавия истину: власть в международных отношениях всецело и полностью принадлежит царю»{1129}. И. П. Федоров-Челяднин был, надо думать, не настолько глуп, чтобы не понимать безвозвратность ушедших в прошлое традиций, на основе которых строились взаимоотношения великих московских князей с высшей знатью. Поэтому его поведение обусловливалось не воспоминаниями о недавних временах, а явлениями современной ему жизни, в которой он занимал вполне осознанную политическую позицию, отвергающую самодержавную власть, причем не только в сфере международной политики, но и в области всей функциональной деятельности Русского государства середины XVI столетия. Или «самодержавство» Ивана Грозного, или ограниченная Боярской Думой монархия по типу Польско-Литовского королевства — так стоял вопрос. Федоров был в ряду тех, кто противился восстановлению поколебленного Избранной Радой царского самодержавия. Противники самодержавной власти в России искали и находили поддержку и помощь в Литве, а сказать точнее, — на Западе. Вот почему их борьба с самодержавием и лично с Иваном IV как его носителем имела не только внутриполитический, но и внешнеполитический характер. Именно на этой почве и происходили смычки с внешними силами русских бояр, детей боярских и других, выливавшиеся нередко в прямую измену и предательство. Таково, по нашему мнению, происхождение «самостоятельной» политики боярина и воеводы И. П. Федорова в «Вифлянской земле» и, в частности, прекращение здесь военных действий без каких-либо консультаций с Москвой, но в угоду надворному гетману Г. А. Ходкевичу и, в конечном счете, — враждебной Русии Литве. Сходного происхождения оказались и события, последовавшие за взятием 15 февраля 1563 года Полоцка, «ключевого пункта на Двине»{1130}. Элементарная военная логика требовала не останавливаться на достигнутом и развивать наступательные действия. Вот почему царь Иван уже на следующий день, т. е. 16 февраля 1563 года, послал «Литовские земли воевати царевича Ивана да воеводу своего князя Юрия Петровича Репнина, а с ним Татар пятнатцать тысечь, опричь иных загонщиков»{1131}. Но вдруг все застопорилось: «Февраля в 21 день{1132}, по Полоцкое взятие в 6 день, прислали из Литовского войска в царевы и великого князя полки к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитреевичю Белскому и к иным бояром королевска рада пан Николай Яновичь Радивил, воевода Виленский, да пан Николай Юриевичь Радивил, воевода Троцкий, да Григорей Александровичь Хоткевичь Павла Бережицкого с листом, а писали о том, чтобы они государя своего царя и великого князя на то не наводили, чтобы государь их царь и великий князь болши того крестьянские крови розливати не велел и миру и покою со государем их Жигимонтом-Августом королем похотел, а государь Жигимонт-Август король послов своих пришлет ко Успению святей Богородицы»{1133}. Обращает внимание тот факт, что литовский посланец, как свидетельствует летописец, едет «с листом» не прямо к царю Ивану, а «к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитриевичи) Белскому и к иным бояром»{1134}. О том же узнаем из ответной грамоты русских бояр литовским панам: «Что прислали есте ко мне, боярину навышшему и намеснику володимерскому, ко князю Ивану Дмитреевичю Белскому, и ко мне боярину и намеснику псковскому, и государя нашего царя и великого князя державце полотцкому, ко князю Петру Ивановичю Шуйскому, к боярину и намеснику тверскому к Данилу Романовичи) Юрьевича-Захарьина, и к боярину и намеснику ржевскому к Василью Михайловичи) Юрьевича-Захарьина, и ко мне к боярину и воеводе и намеснику коломенскому к Ивану Петровичи) Яковля-Захарьина; и к иным государя нашего, царского величества, к бояром и воеводам ты пан Миколай Янович Радивил, и пан Миколай Юрьевич Радивил, и пан тротцкий Григорей Александрович Хоткевича посланника своего Павла Бережитцкого с листом»{1135}. Литовские паны хорошо знали, к кому обращаться, они знали, кто им поможет. Дальше летописец извещает: «И царь и великий князь по грамоте королевские рады войну уняти велел и от Полотцска в далние места поход свой отложил. А в грамоте королевские рады велел бояром князю Ивану Дмитреевичю Белскому и иным бояром своим отписати от себя грамоту к Виленскому воеводе пану к Миколаю Яновичю Радивилу с товарыщи, что их для челобития государь их царь и великий князь к иным городом к Литовским не пошел и мечь свой унял…»{1136}. Стало быть, князь Бельский и бояре «навели» царя на то, что было выгодно Литовско-Польскому государству. Вряд ли можно сомневаться, что Иван принял это, мягко говоря, странное решение под давлением известного своими симпатиями к Литве князя И. Д. Бельского и других бояр{1137}, которых литовские паны просили повлиять на царя Ивана так, чтобы «границам государя нашего, городом, двором, селом и всим землям покой был захован»{1138}. Литовская сторона, как видим, очень боялась продолжения войны. И вот на помощь Сигизмунду и панам пришел Бельский с собратьями по Боярской Думе. Они старались изо всех сил, о чем сообщали радным панам неоднократно, будто ставя это себе в заслугу перед литовской стороной: «сколко нашии мочи было, столко есмя государю своему били челом, а послом было притти мочно и врать»{1139}; «извещаем сем своим листом, и сколко нашие мочи было, столко есмя о добре христьянском настояли и государя своего к началу к покою христианскому навели»{1140}; «а мы сколко нашие мочи, и мы столко государю своему радили и вперед думаем, чтоб государь наш похотел с братом своим, с государем вашим доброго пожития и смолвы»{1141}. Им удалось побудить царя Ивана дать Литве перемирие, а на подмогу привлечь к себе Владимира Старицкого, заручившись его поддержкой. Чтобы царь «с вашим государем похотел миру», сообщали панам радным наши «миротворцы», «мы, поговоря з братьею своею, все поспол учинися рада государская, били челом брату его царского величества князю Володимеру Андреевичи) и с ним вместе молили царское величество, чтоб он з братом, с вашим государем, похотел миру и согласия…»{1142}. По верному замечанию А. Л. Хорошкевич, «бояре решили заручиться поддержкой Владимира Андреевича, а не обращаться к царю напрямую»{1143}. Иначе говоря, они плели интригу, и старицкий князь активно включился в нее. Нельзя, впрочем, считать правильным мнение А. Л. Хорошкевич, согласно которому решение о перемирии «принималось в спешке и необдуманно»{1144}. Боярам не надо было долго рассуждать над решением о перемирии и обдумывать свои ходы, поскольку они являлись проводниками тщательно продуманной политики, осуществлявшейся до того Избранной Радой и, в частности, ее руководителями Адашевым и Сильвестром. Это, собственно, невольно признает и А. Л. Хорошкевич, когда говорит: «Согласившись на заведомо невыгодные для России условия перемирия с ВКЛ, бояре из верных государевых слуг превратились в «изменников». Они незаметно для себя продолжили линию внешней политики Адашева, явно расходившуюся с намерениями царя»{1145}. Позволим себе здесь несколько замечаний. И. Д. Бельский, В. М. Глинский, И. Ф. Мстиславский П. И. Шуйский и другие, кто доброхотствовал польскому королю и панам Рады, никогда не были «верными государевыми слугами». Они то и дело норовили изменить московскому царю: вспомним совсем недавнее дело о бегстве в Литву князей И. Д. Бельского и М. В. Глинского, не забудем и того, как князь И. Ф. Мстиславский водил с литовцами шашни, получая от них секретные послания{1146}. Нельзя изображать этих тертых в политике калачей наивными людьми, не ведающими, что творят. Эти бояре прекрасно понимали, что продолжают на новом этапе и в новых условиях внешнеполитический курс Алексея Адашева, расходящийся не только с планами царя, но и с государственными интересами России. Однако, если все же говорить о том, что решение насчет перемирия «принималось в спешке и необдуманно», то скорее применительно только к царю Ивану, которого бояре намеренно торопили, чтобы нахрапом вырвать у него согласие на прекращение военных действий. И здесь они также выполняли пожелание панов Рады, ждавших возвращения своего посланца не иначе как во вторник 24 февраля 1563 года{1147}. «А того у нас гораздо просите и напоминаете, — отвечали московские бояре литовским панам, — чтоб посланник ваш с отказом нашим в сей вовторник у вас был поздорову безо всякие зацепки был отправлен. И того посланца вашего Павла Бережитцкого поздорову на тот час и день к вам отправили»{1148}. При этом бояре, стремясь, по-видимому, произвести благоприятное впечатление на панов королевской Рады, подчеркивали свою расторопность, с какой отнеслись к их просьбе: «И мы тот ваш лист у вашего посланника у Павла Бережитцкого приняли в понедельник, а он приехал в неделю вечером»{1149}. Паны могли быть довольны: в понедельник Павел Бережицкий вручил Бельскому «с товарыщи» панский «лист», а во вторник уже возвращался с военно-дипломатической победой. Впрочем, бояре несколько поспешили обрадовать свою литовскую «братью», поскольку на деле Бережицкий уехал не во вторник, а в среду. Бояре униженно оправдывались: «А вашего есмя человека, Павла Бережитцкого во вторник не отпустили к вам, потому что в неделю приехал к нам поздно, а отпустили есмя его к вам в середу, февраля месяца 24 [?] день»{1150}. Размышляя о поведении бояр, добивавшихся перемирия с Литвой, А. Л. Хорошкевич приходит к довольно интересным, но не всегда, на наш взгляд, обоснованным выводам. «Поставленные литовцами, — говорит она, — перед необходимостью в кратчайший срок решать, продолжать ли военные действия или заключить перемирие на условиях статус-кво, они пошли на поводу у литовцев и под аккомпанемент слов о непролитии христианской крови, обычный для риторики того времени, дружно приняли условия, предложенные побежденной стороной. Возглавил боярскую «коалицию» и поддержал ее позицию Владимир Андреевич Старицкий. В нем царь, естественно, мог увидеть своего главного оппонента по военным проблемам, как до того увидел его в лице Сильвестра. Зависимость царя, по сути самодержца, как утверждает большинство современных российских историков, хотя пока и без официального титула (царского титула. — И.Ф.){1151} от мнения Боярской думы продемонстрирована весьма наглядно эпизодом с остановкой в Полоцке. Кто он — нерешительный политик, никудышный стратег и тактик или игрушка в руках боярства, прочно стоявшего на позиции «худой мир лучше доброй ссоры»? С военной точки зрения остановка войска в пределах городской черты Полоцка и прекращение боевых действий — грубейшая ошибка, не только тактическая, но и стратегическая. Очередная бесплодная попытка примирения с ВКЛ, где и после взятия Полоцка не признавали его царского титула, — сродни химере, в чем Грозный имел возможность убедиться неоднократно на протяжении 40–60-х гг. Трудно допустить, что царь не обладал качествами даже заурядного политического деятеля и не был в состоянии понять, чем грозило ему вступление в новые переговоры с Литовским княжеством. Остается предположить, что вплоть до 1563 г. он не чувствовал в себе силы для реализации собственной внешнеполитической линии»{1152}. Разберемся, однако, во всем по порядку. А. Л. Хорошкевич, безусловно, права, когда замечает, что «с военной точки зрения остановка войска в пределах городской черты Полоцка и прекращение боевых действий — грубейшая ошибка, не только тактическая, но и стратегическая». Она права и в том случае, когда говорит, что Грозный понимал ошибочность вступления «в новые переговоры с Литовском княжеством», т. е. ошибочность заключения перемирия с точки зрения интересов России. Возникает естественный вопрос, сознавали ли это бояре и князь В. А. Старицкий, настаивавшие на перемирии? Думается, хорошо сознавали, тем более что среди них были такие опытные военачальники, как И. Ф. Мстиславский и П. И. Шуйский, отлично разбирающиеся в военном искусстве. Следовательно, как со стороны Ивана Грозного, так и со стороны бояр-пацифистов на этот счет не было никаких заблуждений. Спрашивается, почему же все сошлись на одном — на целесообразности заключения невыгодного для русских перемирия. Судя по всему, у каждой стороны были свои резоны. Мотивы бояр, которых возглавил Владимир Старицкий, не представляют большой загадки. Все они так или иначе стояли на позициях недавно упраздненной Грозным Избранной Рады и ее руководителей Адашева и Сильвестра — ярых противников Ливонской войны, а если сказать больше, то войны с Западом вообще. В этом плане нет, по-видимому, принципиальной разницы между перемирием с Ливонским орденом в 1559 году, заключенным стараниями Алексея Адашева, и перемирием 1563 года, предоставленным Литве благодаря усилиям бояр и старицкого князя. Оба дипломатических акта являлись предательством русских государственных и национальных интересов. Поэтому их творцов должно и нужно считать изменниками и предателями Святорусского царства. Что касается царя Ивана, то он оказался в очень сложном положении. Сторонники перемирия, находившиеся в русском лагере и старавшиеся угодить литовским панам и польскому королю, сумели сплотить всех бояр, заручиться поддержкой Владимира Старицкого и выступить единым, так сказать, фронтом, или, по боярскому выражению, «все поспол учинися рада государская». Что же оставалось делать Ивану? Неужели он действительно не чувствовал «в себе силы для реализации собственной политической линии»? Нет, у него было достаточно сил, чтобы заставить бояр продолжать войну. Ведь принудил же государь бояр идти на Ливонскую войну, несмотря на упорное сопротивление Избранной Рады, Адашева и Сильвестра в частности. Ведь хватило у него сил, чтобы убрать с политической сцены и того и другого. Царь Иван был уже не тот, каким мы видели его после мартовских событий 1553 года. Самодержавство его постепенно восстанавливалось, и к 1563 году оно уже заметно продвинулось в этом направлении. Повторяем, Грозный мог заставить своих слуг продолжить войну после взятия Полоцка. Но он не сделал этого и поступил в высшей степени разумно и осмотрительно{1153}. Воевать руками тех, кто решительно не хотел воевать, было опасно. Война велась не первый год, и царь уже не раз наблюдал подозрительную медлительность воевод, проигранные странным образом сражения, ему известны были случая сдачи врагу крепостей. Он не мог не считаться с этим и потому решил, вероятно, сохранить то, что уже завоевал, удовольствовавшись тем на данном этапе войны. В создавшейся ситуации то было единственно верное решение, свидетельствующее о государственном уме русского государя, его умении ждать нужного момента и принимать взвешенные решения. Царь Иван прекрасно справился с этой непростой для себя задачей, изобразив трогательное согласие с «миротворцами»: «И царь и великий князь Иван Васильевич, выслушав литовского короля рады грамоты, и приговорил со князем Володимером Андреевичем и со всеми своими бояры и с воеводами…»{1154}. К сказанному надо добавить еще и то, что, склоняя Ивана IV к перемирию с Литвой, И. Д. Бельский и другие бояре играли на самых чувствительных душевных струнах православного монарха — его благочестии, набожности и глубокой религиозности, мотивируя свои уговоры «христианским добром», «покоем христианским», греховностью «пролития крови христианской». Когда Грозный поймет, наконец, эти уловки, он в сердцах воскликнет: «В тех странах (Ливонии и Литве. — И.Ф.) несть христиан, разве малейших служителей церковных и сокровенных раб Господних»{1155}. После предоставления Литве стараниями Бельского и боярской «братьи» перемирия Грозный, по всей видимости, в очередной раз имел возможность убедиться в том, что дело Адашева живет, что сам он стал жертвой очередной боярской измены. Не потому ли он так круто обошелся со своим близким другом князем Андреем Курбским, велев ему ехать в Юрьев на воеводскую службу, а не в Москву за наградами и почестями. Если верить боярскому посланию панам Рады, будто бояре в вопросе о перемирии «поспол учиняся», то надо признать, что Курбский являлся сторонником прекращения военных действий, к чему, по-видимому, склонял и Грозного. За это он, вероятно, и поплатился. Ведь о связях Курбского с польским королем и панами, о готовящейся измене князя Андрея царь Иван тогда еще не знал, даже не догадывался{1156}. Своими уговорами Курбский, наверное, вызвал в памяти Ивана Грозного образ ненавистного Алексея Адашева и тем самым рассердил государя. Гнев Грозного был тем более силен, поскольку он понимал, что по взятии Полоцка перед русским оружием открывалась победоносная перспектива, которая была, к сожалению, потеряна вследствие государственной измены, невольным участником которой стал он сам. Поэтому, видимо, Иван не поднял шума вокруг совершенной измены, но кое-кого наказал и, в частности, своего друга Андрея Курбского{1157}. Однако мысль об измене в Полоцке, судя по всему, не покидала царя{1158}. Отсюда понятно, почему Иван Васильевич столь болезненно и мгновенно реагировал на случаи новых измен. Взять хотя бы заговор стародубских воевод. Было это так. В конце марта 1563 года царь Иван, возвращавшийся из похода на Полоцк, получил, будучи в Великих Луках, вестовую отписку от смоленского воеводы М. Я. Морозова — недавнего деятеля Избранной Рады. Желая, быть может, выслужиться и загладить свою вину за сотрудничество с Адашевым и Сильвестром или просто отвлечь от нее внимание государя, Морозов сообщал, что прислал к нему «казачей атаман Олексей Тухачевский литвина Курняка Созонова, а взяли его на пяти верст от Мстиславля, и Курьянко сказал: король в Польше, а Зиновьевич [литовский воевода] пошел к Стародубу в чистой понедельник [21 февраля 1563 г] и с ним литовские люди изо Мстиславля, из Могилева, из Пропойска, из Кричева, из Радомля, из Чечерска, из Гоим, а вышел по ссылке Стародубского наместника — хотят город сдати»{1159}. Как явствует из Разрядов, наместником Смоленска тогда служил князь В. С. Фуников-Белозерский, а с ним воевода «для осадного времени» И. Ф. Шишкин, дальний родич Алексея Адашева{1160}. Последнее обстоятельство особенно насторожило царя, пославшего в спешном порядке в Стародуб воеводу Д. Г. Плещеева, а буквально вслед за ним воеводу С. А. Аксакова «и еще несколько дворян»{1161}. Фуникова и Шишкина арестовали и доставили в Москву. Началось следствие, которое вывело на родственный адашевский клан. В результате под стражу были взяты, а затем казнены брат Алексея Федоровича Адашева окольничий Даниил Федорович Адашев с сыном Тархом, тесть Даниила костромич Петр Иванович Туров, а также «шурья» Алексея Адашева — Алексей и Андрей Сатины. Жестокость наказания была, вероятно, обусловлена не только родственными связями казненных с Алексеем Адашевым, но и тем, что измены приобрели к середине 60-х годов XVI столетия катастрофический для Святорусского царства характер. Выразительным контрастом здесь служит «дело Тарваское про тарваское взятье». Во время осады города Тарваста в 1561 году литовский гетман Радзивил предлагал тарвастским воеводам князю Т. А. Кропоткину, князю М. Путятину и Г. Трусову изменить русскому «окрутному и несправедливому государю» и «з неволи до вольности» перейти на службу к польскому королю. Гетман пугал воевод жестокостями, которые творит «Иван Васильевич, бездушный государь»{1162}. Тарваст враги взяли. Грозный подозревал, что воеводы сдали город. Когда они вернулись из плена, был произведен розыск, и Кропоткин со своими сослуживцами угодили в узилище, просидев там около года. Выступая же в поход на Полоцк, царь Иван простил их: «пожаловал» и велел «вымать» из тюрьмы{1163}. Однако уже через два-три года обстановка в стране настолько изменилась, что прощение изменников стало гибельным для Русского государства. Репрессии, таким образом, превращались в историческую необходимость, которая, к несчастью, часто соседствует с несправедливостью. К тому же опять обострилась опасность, идущая со стороны князей Старицких, особенно со стороны неукротимой княгини Ефросиньи. * * *В официальной летописи под 1563 годом помещен следующий рассказ: «Того же лета, Июня, царь и великий князь положил был гнев свой на княже Ондрееву Ивановича княгиню Ефросинию да на ее сына на князя Володимера Ондреевича, потому что прислал ко царю и великому князю в Слободу княже Володимеров Ондреевича дьяк Савлук Иванов память, а в памяти писал многие государские дела, что княгини Офросиния и сын ее князь Володимер многие неправды ко царю и великому князю чинят и того для держат его скована в тюрме. И царь и великий князь велел княгине Офросиние и князю Володимеру Савлука к себе прислати. И Савлук сказывал царю и великому князю на княгиню Ефросинию и на князя Володимера Ондреевича многия неизправления и неправды. По его слову многие о том сыски были и те их неисправления сыскана. И перед отцем своим и богомолцом Макарием митрополитом и перед владыками и перед освещенным собором царь и великий князь княгине Ефросиние и ко князю Владимеру неисправление их и неправды им известил и для отца своего Макария митрополита и архиепископов и епископов гнев свой им отдал. И княгини Ефросиния била челом государю царю и великому князю, чтобы государь позволил ей постричися; и царь и великий князь княгине Ефросиние постричися поволил. И постриг ее на Москве на Кириловском дворе Кириловской игумен Вассиан Августа в 5 день, и наречено бысть имя ей во иноцех Евдокия. А похоте же житии на Белеозере в Воскресенском девичье монастыре, где преже того обет свои положила и тот монастырь соружала. А провожали ее до Белаозера боярин Федор Иванович Умного-Колычев да Борис Ивановичь Сукин да дьяк Рахман Житкове; отец же ея духовной Кириловской игумен Вассиан проводил до монастыря. Поволи же ей государь устроити ествою и питием и служебники и всякими обиходы по ее изволению, а для бережения велел у нее в монастыре быти Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Федорову сыну Щепотеву да подьячему Ондрюше Щулепникову, и обиход ее всякой приказано им ведати. У князя Володимера Ондреевича повеле государь быти своим бояром и дьяком и столником и всяким приказным людем; вотчиною же своею повеле ему владети по прежнему обычаю. Бояр же его и дьяков и детей боярских, которые при нем блиско жили, взял государь в свое имя и пожаловал их, которой же которого чину достоит»{1164}. Кроме летописи, сведения о соборном суде над Владимиром и Ефросиньей Старицкими содержатся (с некоторыми сокращениями и небольшими разночтениями) в наказной памяти боярину Федору Ивановичу Умному-Колычеву, отправленному в феврале 1567 года во главе посольства «в Литву к Жигимонту-Августу королю польскому и великому князю литовскому». Царь наказывал боярину: «А нечто вспросят про князя Володимера Андреевича и про матерь его княгиню Офросинью, чего для царь и великий князь на князя Володимера гнев держал и матерь его постриг и бояр и детей боярских от него отвел? И боярину Федору Ивановичю с товарыщи говорити: княгиня Офросинья и сын ея князь Володимер Андреевич во многих делех учали были государю нашему не прямити, и государь наш того дела сыскал, и княгиня Ефросинья и сын ея князь Володимер Андреевич, узнав свои вины, били челом государю нашему царю и великому князю за свои вины преосвященным Макарием, митрополитом всея Русии, и архиепископы и епископы и всем освященным собором. И государь наш для отца своего и богомолца Макария, митрополита всея Русии, и архиепископов и епископов и всего освященного собора княгиню Офросинью и сына ея князя Володимера пожаловал, вины их великие им отдал, а для тех вин бояр его и диаков у князя Володимера отвел, потому что они в той же думе были, а дал государь наш от себя своих бояр и диаков; а в вотчины место старые пожаловал его государь наш иными городы в вотчину же. И князь Володимер Андреевич теми городы владеет потомуже, как и старою вотчиною владел, и государь его ныне жалует по прежнему обычаю. А княгиня Офросинья била челом государю нашему, чтоб ей поволил постричися, и государь наш на то волю ей дал, и она и постриглася по своему хотению в том монастыре, которой преж того сама же строила, и по своему произволенью обиход ей всякой и дворовые люди всякие у нее учинены и ества и питье ей устроена, сколко ей надобе, и во все том государь наш поволности у нее не отнял»{1165}. Мы привели сообщения источников о «неисправлениях» и «неправдах» старицких правителей полностью, без малейших сокращений, чтобы избежать возможных в таких случаях неточностей и домыслов, нередко возникающих при пересказе текстов, в частности летописных. Причиной тут порою служит заявленное в исторической литературе ложное ощущение, будто «с ведома царя официальная летопись поместила краткий и нарочито туманный отчет о суде над старицким удельным князем и о выдвинутых против него обвинениях»{1166}. В тумане же, как известно, мерещится всякое. Р. Г. Скрынников, к примеру, воспринимает произошедшее не с точки зрения отношений Ивана IV с Владимиром и Ефросиньей Старицкими, а в плане взаимоотношений Захарьиных со Старицкими. По его словам, «приход к власти Захарьиных оживил давнее соперничество между Старицкими и их заклятыми врагами Захарьиными. Вполне понятно, что Старицкие не только примкнули к удельно-княжеской оппозиции, но и возглавили ее. Со стороны Захарьиных лишь ждали удобного повода, чтобы избавиться от опасной родни. После Полоцкого похода такой повод наконец представился. Едва правительство завершило расследование о заговоре Стародубских воевод, как был получен донос на Старицких»{1167}. Р. Г. Скрынников как бы заслоняет фигуру Ивана Грозного правительством Захарьиных, делая его послушным орудием в руках последних. Летопись, между тем, ясно и недвусмысленно говорит об отношениях царя со Старицкими без посредничества Захарьиных. Ясно также, что дело Старицких 1563 года возникло не по случайному поводу, а по причине их «неисправлений» и «неправды», о чем дал весть Ивану дьяк старицкого князя Савлук. Исследователь также преувеличивает, как нам кажется, негативные последствия для Старицких перехода на сторону врага дворянина Б. Н. Хлызнева-Колычева. «Есть все основания полагать, — пишет Р. Г. Скрынников, — что перешедший к литовцам дворянин был вассалом князя В. А. Старицкого. Семья Хлызневых издавна служила при дворе Старицких князей, вследствие чего ее члены не значатся в списках царского двора 50-х годов. Старший из рода Хлызневых И. Б. Колычев был членом думы Старицкого княжества и одним из главных воевод удельной армии. Родным племянником его был бежавший в Литву Б. Н. Хлызнев. Полагая, что беглец имел какие-то поручения к королю от своего сюзерена, царь утвердил бдительный надзор за семьей удельного князя. На другой день после падения Полоцка он направил в Старицу доверенного дворянина Ф. А. Басманова-Плещеева с речами к княгине Ефросинье. Когда 3 марта 1563 г. князь В. А. Старицкий выехал из Великих Лук в удел, его сопровождал царский пристав И. И. Очин-Плещеев. Спустя три месяца, в июне, царь, будучи в слободе, объявил Старицким опалу. Интересно, что к началу июня царь вызвал митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы. Официально было объявлено, будто царь с боярами уехал в село (слободу) на потеху. На самом деле переезд Думы в слободу был вызван отнюдь на «потешными» делами»{1168}. При чтении данного отрывка из книги Р. Г. Скрынникова можно подумать, будто с целью надзора за княгиней Ефросиньей был отправлен в Старицу Ф. А. Басманов-Плещеев. По правде сказать, в летописи, на которую ссылается исследователь, нет полной ясности в том, что Басманова царь направил именно в Старицу. Летописец рассказывает, как после взятия Полоцка государь направил князя Михаила Темрюковича Черкасского с вестью о победе в Москву «ко отцу своему и богомолцу к Макарию митрополиту всеа Русии и ко царице и великой княгине Марие и к детем своим, ко царевичю Ивану и к царевичю Федору, и къ брату своему ко князю Юрию Василиевичю»{1169}. Перед названными лицами Михаил Черкасский держал речи от имени государя. А вот перед Ефросиньей Старицкой речь говорил Федор Басманов, что и понятно, поскольку М. Т. Черкасский должен был произносить речи только перед членами царской семьи и митрополитом. Не исключено, что княгиня Старицкая находилась тогда в Москве на своем кремлевском подворье, где слушала речь из уст Басманова. Но как бы то ни было, эта речь была весьма лояльна по отношению к Ефросинье. Посланец говорил ей: «Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии велел тебе княже Ондрееве Ивановича княгине Офросиние челом ударити и велел тябя о здоровие вспросити: как тебя Бог милует? Государь наш царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии велел тебе сказати: Божиим милосердием и пречистые Богодицы и великих чюдотворец молитвами, да и отца нашего и богомолца Макария митрополита всеа Русии молитвами, мы по се часы дал Бог, здорово»{1170}. Эта речь, по сути, не отличается от речи, которую произнес князь Черкасский, обращаясь к митрополиту Макарию: «Царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии тебе, отцу своему и богомолцу Макарию митрополиту всеа Русии, велел челом ударити и велел тебя о здравии вспросити, как тебя, отца нашего, Бог милует? Государь наш царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии велел тебе, отцу своему и богомолцу, сказати: Божиим милосердием и пречистые Богородицы и великих чюдотворец молитвами, да и твоими отца нашего и богомолца молитвами, и родителей наших молитвами мы, дал Бог, по се часы здорово»{1171}. Сразу после речи Басманова к Ефросинье летописец замечает: «А речь ему и список дан таков же, з болшие речи»{1172}. Надо полагать, что в «большой речи» сообщалось о победе русского воинства в Литве — взятии Полоцка. Следовательно, речь Федора Басманова являлась в принципе созвучной речам, произнесенным князем М. Т. Черкасским перед митрополитом Макарием и членами царской семьи. А это означает, что она никак не связана с высказываемой Р. Г. Скрынниковым мыслью о бдительном царском надзоре над княгиней Ефросиньей и вообще за семейством удельного князя. Вряд ли можно извлечь что-либо конкретное из сообщения о том, что царский пристав И.И.Очин-Плещеев сопровождал старицкого князя, выехавшего в свой удел из Великих Лук. И уж вовсе не оправдывает надежд исследователя источник, используя который Р.Г.Скрынников заявляет, будто еще в начале июня 1563 года царь Иван вызвал в Александрову слободу «митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы». Причиной вызова, как явствует из рассуждений автора, приведенных нами выше, явилось замышляемая Грозным опала на Ефросинью и Владимира Старицких. Но при внимательном чтении Посольских книг, на которые, кстати сказать, ссылается Р.Г.Скрынников, вырисовывается несколько иная картина. 24 мая 1563 года «писал ко царю и великому князю из Смоленска боярин и воевода Михаиле Яковлевич Морозов, да дияки Онфим Селиверстов, да Истома Кузмин, что прислали к ним из Орши оршинской державца Ондрей Одинцович грамоту о том, что государь его король отпущает ко царю и великому князю посланника; а будет посланник на границе после Велика дни перед седмою суботою, а имени посланнику не писал»{1173}. В ту пору государь «для своего дела ездил в Одоев и в Белев». Соответствующие грамоты он получил на стане в деревне Лыково, когда «ехал из Колуги к Москве». Вскоре выяснилось, «что идет ко царю и великому князю королевский посланник Юрьи Быковский, а людей с ним двенатцать человек, да с ним же вместе идет посланник Войтех к Макарию митрополиту и ко царевым великого князя бояром от королевские рады»{1174}. Дипломатическая миссия двух посланников, Юрия Быковского и Войтеха Сновицкого (Новицкого), истолкована А. Л. Хорошкевич так, что якобы «в Литве считали равными Партнерами и царя, и бояр»{1175}. При этом она в данном случае упустила из вида митрополита Макария, к которому, наряду с боярами, ехал Войтех Сновицкий. Стремление литовской стороны вовлечь Макария в несвойственные его сану земские дела, о чем он сам неоднократно заявлял ранее{1176}, свидетельствовало о провокации со стороны короля и панов, преследующей цель омрачить отношения между святителем и царем. Государь это понял и принял необходимые меры. Сначала, когда он еще не знал даже имени литовского посланника, предполагалось принять посольство в Москве. Поэтому русскому приставу, сопровождавшему посольство, предписывалось следующее: «А как приедет пристав на останошной ям от Москвы, и он бы обослался к Москве»{1177}. Но как только царю Ивану стало известно, что вместе с Юрием Быковским едет Войтех Сновицкий к митрополиту Макарию и к боярам от королевской Рады и от епископа виленского Валериана, он сразу же изменил место встречи. Приставу Патрикею Бестужеву было велено, «чтоб он с литовским посланником ехал ко царю и великому князю в слободу, не ездя к Москве, из Можайска на Дмитров, а из Дмитрова к Троице в Сергеев монастырь, а от Троицы в слободу»{1178}. Изменение маршрута Патрикей Бестужев должен был так объяснить посланнику Быковскому: «Государь поехал по селам, а ему (Патрикею. — И.Ф.) с посланником велено ехати прямо ко царю и великому князю в Олександровскую слободу»{1179}. К этому времени царь уже вызвал в слободу «навышшего» боярина Ивана Дмитриевича Бельского и других бояр. Под видом человека Бельского государь также послал Казарина Трегубова навстречу Войтеху Сновицкому сказать ему, «что князь Иван Дмитреевич и все государевы бояре с царем и великим князем на потехе в селе, в слободе»{1180}. Приведенные факты говорят о том, что бояре были вызваны царем в Александрову слободу не по делу Старицких, как полагает Р. Г. Скрынников, а в связи с прибытием посольства из Литвы. Прием посланников Быковского и Сновицкого не в Москве, но в Слободе объясняется, по всей вероятности, двумя причинами: нежеланием Ивана Грозного вовлекать митрополита Макария в земские дела и стремлением Ивана ограничить контакты посольства с посторонними людьми. Последнее обстоятельство особенно беспокоило царя, наученного горьким опытом измен и предательств: «А приставу б с ним (посланником. — И.Ф.) дорогою идти велели бережно, чтоб к посланнику опричные люди не приходили и не говорил с ним никто ничего»{1181}; «и ехать ему с ним бережно и беречи того, чтоб с ним опричные люди не говорил никто»{1182}. Что касается митрополита Макария, то в Александрову слободу его, вопреки утверждению Р. Г. Скрынникова, царь не вызывал. Не случайно Патрикей Бестужев получил от Грозного такое указание: «А которой посланник послан к митрополиту и к бояром, и ты бы ему молвил, что бояря наши все с нами, а про митрополита бы ecu ему молвил, что чаешь (курсив наш. — И.Ф.) и митрополит с нами»{1183}. Аналогичный наказ был дан Казарину Трегубову: «А вспросит про митрополита где, и ему молвити, что митрополит был с государем у Живоначалные Троицы в Сергееве монастыре у празника, а ныне его чаят со государем же; а он дополна не ведает, что был в именье»{1184}. Стало быть, и Бестужев, и Трегубов высказывались в предположительном тоне (чают, т. е. надеются{1185}), якобы не зная точно, в Слободе ли митрополит Макарий. Но они лукавили, ибо, по всей видимости, знали, что святителя там нет. Об отсутствии в Александровой слободе митрополита свидетельствуют дипломатические встречи гонца Войтеха Сновицкого только с Иваном Дмитриевичем Бельским и другими думцами (бояре И. Ф. Мстиславский, Д. Р. Юрьев, князь И. И. Пронский и др.), хотя «грамота королевы рады» была адресована митрополиту и боярам{1186}. На прощальной аудиенции поклон виленскому епископу передал вместо митрополита Макария все тот же И. Д. Бельский: «Да молвил князь Иван, приподывся: Войтех, бископу Валериану от нас поклон»{1187}. Отсюда ясно, что Макарий с Войтехом не встречался, о чем, кстати, прямо говорит летописец: «А у Макария митрополита Войтех Сновитцской не был»{1188}. Литовский посланник не посетил Макария потому, что митрополит в Александровой слободе тогда отсутствовал, пребывая, очевидно, в Москве, куда литовское посольство не заезжало. Получается, таким образом, что царь Иван с конца мая 1563 года, когда он узнал об отъезде в Россию королевского посланника{1189}, по 18 июня того же года, когда Юрий Быковский и Войтех Сновицкий отбыли из Александровой слободы домой{1190}, был занят подготовкой приема посланников, самим приемом и отправлением их обратно в Литву. Митрополита Макария все это время в Слободе не было. Поэтому мысль Р. Г. Скрынникова о том, что в июне 1563 года Иван Грозный, будучи в Александровой слободе, «объявил Старицким опалу» и по их делу в начале июня «вызвал в слободу митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы»{1191}, виснет в воздухе. В первой, по крайней мере, половине июня 1563 года царь, судя по всему, еще ничего не знал о «неисправлениях» и «неправдах» старицких правителей. Государь к Ефросинье и Владимиру Старицким относился тогда вполне благожелательно. Об этом говорит посылка царем Ф. А. Басманова к Ефросинье с пригожими речами после взятия Полоцка в феврале 1563 года. О том же свидетельствует и тот факт, что Иван, возвращаясь из Полоцкого похода, заехал «на городок на Старицу; а в Старице пожаловал, был у княже Ондреевы Ивановича у княгини Ефросинии и у сына ее у князя Володимера Ондреевича, их жаловал, у них пировал»{1192}. По тем временам, пированье — знак полного расположениям доверия. Этого и удостоились старицкие князья. Надо думать, где-то во второй половине июня 1563 года Ивану Васильевичу в Александрову слободу поступила «память» от дьяка Савлука Иванова, где сообщалось, что «княгини Офросиния и сын ее князь Володимер многие неправды ко царю и великому князю чинят»{1193}. Тогда же государь велел начать расследование, что подтверждает летопись: «Того же лета [1563], Июня, царь и великий князь положил был гнев свой на княже Ондрееву Ивановича княгиню Ефросинию да на ее сына на князя Володимера Ондреевича…»{1194}. Летописец говорит о «неисправлениях» и «неправдах» Ефросиньи и Владимира глухо, не поясняя, о чем у него идет речь. В Посольских книгах содержится несколько иная формула: «Княгиня Офросинья и сын ея князь Володимер Андреевич во многих делех учали были государю нашему не прямити…»{1195}. Здесь, на наш взгляд, проглядывает намек на измену клятве, данной царю и великому князю по части «прямой» службы. И все же летописный текст вызывает у некоторых исследователей затруднения в истолковании. «В чем состояли «неправды» и «неисправления» старицких князей, — замечает С. Б. Веселовский, — неизвестно. Неисправлением называлось вообще всякое нарушение присяги»{1196}. Заслуживают внимания соображения на сей счет Б. Н. Флори, который с сожалением отмечает, что «официальная летопись ни одним словом не объясняет, в чем состояли «многие неисправления и неправды» старицких князей перед Иваном IV. Одна деталь дала возможность исследователям высказать догадки о характере «неправд». В описи царского архива XVI века имеется помета, что 20 июля было послано царю во «княж Володимере деле Ондреевича» дело, «а в нем отъезд и пытка княже Семенова деле Ростовского» <…>. Судя по сохранившимся свидетельствам, в нем приводились показания о том, что во время тяжелой болезни Ивана IV многие бояре вступили в тайные переговоры со старицким князем о возведении его на трон в случае смерти царя. Это позволяет думать, что в начале 60-х годов царь получил какие-то новые сведения о сношениях Владимира Андреевича с недовольной знатью»{1197}. Б. Н. Флоря правильно, на наш взгляд, связал интерес Ивана Грозного к архивным материалам с поведением старицких князей в начале 60-х годов XVI века. Этот интерес был обусловлен отнюдь не тем, будто Грозному, как полагает Р. Г. Скрынников, не хватало улик «для открытого осуждения Старицкого»{1198}, а тем, что события десятилетней давности, запечатленные архивными документами, стояли в одном ряду с поступками старицких правителей, ставшими предметом летнего сыска 1563 года. Политический, по сути, антигосударственный характер поведения Ефросиньи и Владимира Старицких приобретает достаточную наглядность, если учесть распоряжение Ивана Грозного «быти» у князя Владимира Андреевича «своим боярам и дьяком и столником и всяким приказным людем… Бояр же его и дьяков и детей боярских, которые при нем блиско жили, взял государь въ свое имя и пожаловал их, которой же которого чину достоит»{1199}. Люди князя Владимира от боярина до сына боярского, поддерживавшие политические амбиции своих удельных властителей{1200}, готовы были идти с ними на самые крайние меры вплоть до убийства законного государя. Поменяв названных людей на своих бояр, стольников и пр., царь Иван, образно говоря, вырвал жало у старицких князей{1201}. И сделал он это с полным основанием, поскольку действия Старицких приобрели, как показал розыск, характер заговора, не исключавшего цареубийства. Р. Г. Скрынников, отдавая дань распространенной среди исследователей склонности находить у Ивана Грозного необоснованные страхи, говорит, что в 1563 году «власти приписали заговорщикам планы убийства царя и двух его сыновей»{1202}. По нашему мнению, слово приписали здесь неуместно, поскольку ничем не обосновано. Скорее, власти резонно предполагали возможность подобного убийства. Вероятно, государь проявил интерес к мартовским событиям 1553 года еще и потому, что тогдашними заговорщиками, желавшими посадить на московский трон Владимира Старицкого, была предпринята неудачная попытка цареубийства. Сам Иван нисколько не сомневался в том, что ему в начале 60-х годов, как и в 1553 году, грозила смерть. Царь долго помнил об этом и во втором послании Курбскому вопрошал: «А князя Владимира на царство чего для естя хотели посадити, а меня и з детьми известь?»{1203}. Необходимо заметить, что Курбский, отвечая на сей страшный для него вопрос, обошел стороной столь тяжкое обвинение, затронув лишь тему о воцарении Владимира Старицкого: «А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его хотели на государство; воистину, о сем не мыслих, понеже и не достоин был того»{1204}. Беглый князь об одном умалчивал, а по поводу другого явно лукавил, ибо московским западникам середины XVI века, к числу которых принадлежал князь А. М. Курбский, вовсе не нужен был властитель, по-настоящему достойный царского престола. Им необходим был покорный исполнитель воли боярского «сингклита», послушное орудие в руках советников, окружавших царя. Слабый и недалекий Владимир Старицкий{1205}, воспитанный матерью в повиновении, как нельзя лучше подходил к такой роли. Официальная летопись в той части, где речь идет о суде над старицкими князьями, содержит известие, не оцененное еще в должной мере исследователями. Согласно этому известию, Ефросинью и Владимира Старицких судило высшее духовенство, причем без участия Боярской Думы: «И перед отцем своим и богомолцем Макарием митрополитом и перед владыками и перед освещенным собором царь и великий князь княгине Ефросинье и ко князю Владимеру неисправление их и неправды им известил»{1206}. По словам Р. Г. Скрынникова, «Боярская дума участвовала в рассмотрении дела Старицких, но не в его решении. Царь не желал делать бояр судьями в своем споре с братом. Участь удельной семьи предстояло решить духовенству»{1207}. В других своих работах историк объясняет, почему Грозный не захотел привлечь Боярскую Думу к суду над удельной родней. «Спустя несколько дней после ознакомления с архивами, — говорит он, — царь созвал для суда над Старицкими священный собор. Боярская дума формально в соборе не участвовала. Во-первых, царь не желал делать бояр судьями в своем споре с двоюродным братом и, во-вторых, в думе было немало родственников и приверженцев Старицких…»{1208}. Возможно, Р. Г. Скрынников прав. Но есть еще один элемент судебного разбирательства, проливающий свет на то, почему судил Старицких Освященный собор, а не Боярская Дума. Все приобретает ясность, если допустить, что новый заговор Старицких, как и старый (в марте 1553 года), не исключал убийства Ивана Грозного — Богоданного и Богоизбранного Царя, посредника между людьми и Богом, личность, по понятиям того времени, сакральную. Предметом судебного обсуждения был, следовательно, вопрос о судьбе теократического самодержавия и царя, его олицетворяющего. Это было главным во всех «неисправлениях» и «неправдах» Ефросиньи и Владимира Старицких. Понятно, что в данной ситуации высшее духовенство во главе с митрополитом Макарием, являвшимся одним из наиболее активных созидателей самодержавной монархии в России, не могло оставаться в стороне. Больше того, Освященный собор должен был выйти на первый план. Улики оказались настолько очевидны{1209}, что княгиня Ефросинья, игравшая, вероятно, основную роль в заговоре против государя, заявила о желании уйти в монастырь замаливать свой смертельный грех. Впрочем, об этом несколько историографических замечаний. В исторической литературе нередко высказывается мнение, согласно которому Ефросинью Старицкую постригли в монахини насильно. Так думал П. А. Садиков, утверждавший, будто Иван приказал Ефросинью «постричь в монахини»{1210}. Таково суждение и А. А. Зимина, который писал: «Царь Иван внял извету дьяка (Савлука Иванова. — И.Ф.) и «положил был гнев свой» на Ефросинью, а 5 августа даже насильно постриг ее в монахини»{1211}. Сомневается в добровольном уходе княгини Ефросиньи в монастырь и Б. Н. Флоря: «Мать Владимира Андреевича, княгиня Ефросинья (якобы по ее собственному желанию) 5 августа была пострижена в монахини в Воскресенском девичьем монастыре на Белоозере»{1212}. Особенно настойчиво проводит идею принудительного пострижения старицкой княгини Р. Г. Скрынников, повторяя ее с некоторыми вариациями из одной своей книги в другую: «Официальная версия гласила, будто княгиня Ефросинья, уведав свои вины, сама просила у царя позволения постричься в монастырь, что совершенно не соответствует ни обстоятельствам дела, ни характеру действующих лиц. Непреложным фактом остается то, что правительство добилось от высшего духовенства осуждения Старицких и что по приговору собора Ефросинья была заточена в один из отдаленных северных монастырей. Грозный «простил» Старицких вовсе не на соборе, как утверждает официозная летопись, а значительно позже, когда старица Евдокия была водворена в монастырь. 5 августа 1563 г. княгиня Ефросинья была принудительно пострижена в монахини на подворье Кирилловского монастыря в Москве»{1213}; «свою тетку — энергичную и честолюбивую княгиню Ефросинию — Иван не любил и побаивался. В отношении нее он дал волю родственному озлоблению. Ефросинии пришлось разом ответить за все. Нестарой еще женщине, полной сил, приказали надеть монашеский куколь. Удельная княгиня приняла имя старицы Евдокии и стала жить в Воскресенском женском монастыре, основанном ею самой неподалеку от Кириллова <…>. Воскресенская обитель не была для Ефросинии тюрьмой. Изредка ей позволяли ездить на богомолье в соседние обители»{1214}; «Иван считал душой заговора не своего недалекого брата, а его мать. Ее постигло суровое наказание. Ефросинью доставили из Старицы на подворье Кирилло-Белозерского монастыря, и 5 августа 1563 г. игумен Васьян постриг ее в монашеский чин. Официальная версия гласила, будто тетка царя, уведав свои вины, хама попросилась в монастырь. Но эта версия едва ли соответствует обстоятельствам дела. Ефросинья была полна сил, ее обуревали честолюбивые замыслы, и по своей воле она никогда бы не покинула мир <…>. Местом заточения удельной княгини стал Воскресенский Горицкий монастырь»{1215}. И еще: «Ефросинья подверглась принудительному пострижению и была отправлена к месту заточения…»{1216}. Здесь же Р. Г. Скрынников говорит о ссылке Ефросиньи{1217}. Что можно сказать по поводу этих суждений историка? Желательно все же было бы иметь ясность в вопросе о том, являлся ли Воскресенский монастырь для старицкой княгини тюрьмой и местом заточения или не являлся, находилась ли она здесь в ссылке или на иноческом жительстве. Неопределенность в данном вопросе, а тем более разноречивые ответы, предлагаемые Р.Г.Скрынниковым, запутывают и без того сложную историю с Ефросиньей Старицкой. Р. Г. Скрынников полагает, будто «Старицкие были в опале в течение нескольких месяцев»{1218}. «Опалу» же удельных князей, по всей видимости, надо начинать с так называемого «принудительного пострижения» Ефросиньи, которое состоялось, как известно, 5 августа 1563 года. Однако уже 15 сентября, согласно вкладной в Симонов монастырь, упоминаемой Р. Г. Скрынниковым, царь, пожертвовав деньги в обитель, велел молиться о здравии инокини Евдокии{1219}. Следовательно, к этому времени «опальная» княгиня была прощена царем. А это означает, что Р. Г. Скрынников, говоря о нескольких месяцах опалы Старицких, увлекается. Но была ли в действительности сама опала и последующее прощение княгини Ефросиньи и князя Владимира? Какие факты приводит исследователь в обоснование своей точки зрения? «В царском архиве в ящике 214, — отмечает Р. Г. Скрынников, — подле дела об отпуске на Белоозеро «княж Ондреевы Ивановича княгини во иноцех Евдокии» хранился особый документ — «отписка, как государь со старицы Евдокеи и сына со князя Володимера Ондреевича с сердца сложил». Данные подлинной архивной описи не оставляют сомнения в том, что сначала Ефросинья подверглась принудительному пострижению и была отправлена к месту заточения, и лишь после этого государь специальной грамотой объявил о прощении опальной семьи»{1220}. Обратимся к описи: «Ящик 214. А в нем отпуск на Белоозеро, в Воскресенский монастырь, княж Ондреевы Ивановича княгини, во иноцех Евдокеи, о обиходе, как быти ей на Белеозере, и отписка, как государь со старицы Евдокеи и сына ее со князя Володимера Ондреевича с сердца сложил…»{1221} В данном случае, как видим, ничего не сказано об опале Ефросиньи. Это особенно показательно при сравнении с дальнейшим текстом, относящимся к М. И. Воротынскому: «И отписки, в опале о князе Михаиле Воротынском, на Белоозеро»{1222}. Надо думать, что, будь Ефросинья Старицкая (инокиня Евдокия) в опале, была бы и соответствующая отписка. Но о ней в описи нет упоминаний. Относительно Ефросиньи (Евдокии) в описи говорится только в связи с документами, толкующими об отпуске княгини в Воскресенский монастырь, о ее обиходе в обители и о том, как она и ее сын были прощены («с сердца сложил») царем Иваном. Все это — звенья одной цепи. Поэтому рассматривать их следует не отдельно друг от друга, а в комплексе. В результате получается, что прибытие княгини Старицкой на Белоозеро, в Воскресенский монастырь, было обставлено если не тремя, то, по крайней мере, двумя грамотами, определяющими ее положение на новом месте. Это, во-первых, — грамота об отпуске Ефросиньи в женскую обитель с определением обихода, «как быти ей на Белеозере»{1223}. Слово отпуск, которое, по нашему убеждению, необходимо понимать в смысле отпустить, разрешить уйти{1224}, указывает на добровольный характер пострижения княгини Старицкой и ухода ее в монастырь, что соответствует сообщению официальной летописи, подтверждаемому, таким образом, документально. О том же говорит и поселение ее в Воскресенский монастырь по собственному выбору. Окажись она в опале и постриженной насильно, вряд ли Иван согласился бы отпустить Ефросинью в облюбованный, ею же сооруженный монастырь. Неизвестно в таком случае, куда бы забросила ее судьба. Ясно одно: ее содержали бы в строгости, как это практиковалось в отношении государственных преступников. Но тут ей установили такой «обиход», т. е. повседневную потребность, потребление, расход{1225}, какому любой опальный мог бы только позавидовать. Старице Евдокии государь распорядился «устроити ествою и питием и служебники [прислугой] и всякими обиходь; по ее изволению…»{1226}. За «несчастной» княгиней последовали 12 человек — ближние боярыни и слуги, имена которых частично восстанавливаются по Синодику опальных Ивана Грозного: Иван Ельчин, Петр Качалкин, Федор Неклюдов, Марфа Жулебина и Акулина Палицына{1227}. Знатной инокине позволили организовать в обители некое подобие вышивальной мастерской, собрав под монастырской крышей «искусных вышивальщиц. Изготовленные в ее мастерской вышивки отличались высокими художественными достоинствами»{1228}. Ей даже дозволено было держать при себе детей боярских, которых испоместили на Белоозере. В одной Памяти (1568) из приказа Большого Прихода в Поместный приказ говорится: «Бил челом царю государю и великому князю Кирилова монастыря игумен Кирил з братьею, а сказал, что их монастырьская вотчина в Белозерском уезде в Городецком стану на Мауриных горах деревня Кнутово и иные деревни, а сошного в них письма было полтретьи сохи; и тое-де их вотчину деревню Кнутово отписал Михаиле Колычев и роздал-де тое землю по дворы княжи Володимеровы Ондреевича матери княгине Евдокее детям боярским…»{1229}. Эти дети боярские старицкой княгини, обосновавшейся в монастыре, получили в его окрестностях около 2000 четвертей пахотной земли в одном поле, «а в дву по томуж»{1230}. Исходя из принятых тогда минимальных для детей боярских норм поместного оклада, можно предположить, что количество испомещенных служилых людей «княгине Евдокее» составляло около двадцати. Что это означало на практике относительно крестьян? По данным, изученным А. Л. Шапиро, еще в конце XV века в Новгородской земле, т. е. в регионе, соседствующим с Белозерьем, однолошадные-однообежные крестьянские хозяйства «составляли львиную долю всех крестьянских хозяйств»{1231}. Если считать, что обжа в среднем равнялась 10 четвертям пахотной земли в поле{1232}, то количество крестьянских дворов, розданных детям боярским Ефросиньи Старицкой, будет исчисляться примерно двумя сотнями. Эти 200 крестьянских дворов государство отписало на себя, а затем часть доходов с них передало служилым людям «опальной» удельной княгини, обеспечив за счет государственных средств содержание ее служилых людей. Опала, таки, очень странная. Столь необычный «обиход», предназначенный княгине-инокине, испытывавшей давние враждебные чувства к Ивану IV (и это в русском обществе не являлось секретом), мог повергнуть в недоумение белозерские власти и даже вызвать некоторую неуверенность в том, действительно ли так надо обхаживать и ублажать новоприбывшую. Поэтому в специальной грамоте царь во избежание, надо полагать, возможных недоразумений простил Ефросинью и Владимира{1233}, о чем посредством письменного уведомления («отписки»{1234}) были извещены местные власти. Итак, «отпуск», «обиход» и «прощение» представляли собою единую подборку документов, которые современному исследователю надлежит рассматривать не врозь, а в общем пакете. При таком подходе теряет всякую убедительность догадка о принудительном пострижении Ефросиньи Старицкой. В этой связи весьма красноречив тот факт, что С. Б. Веселовский, не упускавший случая, чтобы уязвить Грозного, должен был признать добровольный характер ухода старицкой княгини в монастырь: «Кн. Ефросинья изъявила желание постричься и удалиться в построенный ею Воскресенский Горицкий монастырь на р. Шексне, получила на это милостивое разрешение царя…»{1235}. А. Л. Хорошкевич также поддерживает мысль о добровольном пострижении Ефросиньи Старицкой: «Княгиня Евфросиния била Ивану IV челом о разрешении принять постриг и 5 августа получила милостивое позволение»{1236}. Необходимо согласиться с названными исследователями и отвергнуть идею принудительного ухода в монастырь старицкой княгини. Не кто иной, но именно она проявила желание укрыться от мира в монастырской келье. Сделано это было, вероятно, под впечатлением неопровержимости доказательств «неисправлений» и «неправд» старицких князей, о которых царь «известил» митрополиту и Освященному собору, а также под влиянием миролюбия государя, сложившего свой гнев и простившего виновных, пойдя навстречу просьбе иерархов церкви. О том, что Ефросинья была прощена на Соборе и не подверглась опале, свидетельствуют ее проводы в Воскресенский монастырь: «А провожали ее на Белоозеро боярин Федор Ивановичь Умного-Колычев да Борис Ивановичь Сукин да дьяк Рахман Житкове; отец же ея духовной Кирилловской игумен Вассиан проводил до монастыря»{1237}. Правда, некоторые историки, стремящиеся в поведении царя Ивана найти во что бы то ни стало негативные мотивы и побуждения, рисуют мрачными красками отъезд Ефросиньи Старицкой в избранную ею обитель. Так, Р. Г. Скрынников, изображая ее уход в монашество как ссылку, замечает: «Эта ссылка имела в глазах царя столь важное значение, что он поручил сопровождать Евдокию на Белоозеро члену регентского совета ближнему боярину Ф. И. Умному-Колычеву»{1238}. Сопровождение Евдокии на Белоозеро, о котором говорит Р. Г. Скрынников, сильно похоже на доставку преступника в тюрьму, что и понятно, поскольку исследователь, как мы знаем, отождествлял пребывание Евдокии в монастыре с заключением. Сходным образом изображает отъезд старицкой княгини А. И. Филюшкин: «Ефросинья Старицкая отправилась в ссылку под конвоем боярина Ф. И. Умного-Колычева, а также Б. И. Сукина, Р. Житкова»{1239}. Двойственную позицию в вопросе о характере отъезда Ефросиньи-Евдокии заняла А. Л. Хорошкевич, по словам которой «проводы ее в Воскресенский Белозерский монастырь были обставлены весьма торжественно. Она уезжала в сопровождении (или под конвоем?) Ф. И. Умного-Колычева, Б. И. Сукина и дьяка Рахмана Житкова»{1240}. И тут опять для назидания всем скептикам, не верящим в добрые побуждения царя Ивана, вспомним о С. Б. Веселовском, не отличавшемся какими-либо симпатиями к Грозному, но вынужденном признать, что Ефросинья «с почетом была отправлена на Белоозеро»{1241}. Царь Иван, разумеется, не был простодушным человеком. Он знал, с кем имеет дело, и понимал, что за неукротимой теткой нужен глаз да глаз. Поэтому не исключено, что Ф. И. Умной-Колычев получил некоторые инструкции на этот счет. Но главное все же было не в присмотре за Ефросиньей, а в том, чтобы окружить почетом отправление родственницы царя в монастырь. Не потому ли Федор Умной-Колычев, Борис Сукин и Рахман Житков сопровождали постриженицу только до Белоозера, а уже кирилловский Вассиан проводил ее до Воскресенского монастыря. Во всяком случае, односторонний подход к факту проводов старицы Евдокии, особенно в рамках конвойной, так сказать, концепции, должен быть, на наш взгляд, скорректирован. Почетные проводы Ефросиньи означали, что конфликт, возникший между ней и государем, исчерпан, что она прощена царем Иваном. Последующие события свидетельствуют о том же. Летопись сообщает: «Для бережения [Ефросиньи] велел [царь] у нее быти Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Федорову сыну Щепотеву да подъячему Ондрюше Щулепникову, и обиход ее всякой приказано им ведати»{1242}. Если по вопросу о проводах старицкой княгини из Москвы в Воскресенский монастырь мнения ученых разошлись, то здесь они сошлись, причем не в положительном для Ивана Грозного смысле. «Для бережения», т. е., попросту сказать, для надзора к ней был приставлен Михаил Иванович Колычев», — писал С. Б. Веселовский{1243}. С почетом отправлена на Белоозеро под надзор надсмотрщиков — таково несколько причудливое представление С. Б. Веселовского об отъезде княгини Ефросиньи в монастырь. О «присмотре» за Старицкой М. И. Колычева и других лиц говорит А. А. Зимин{1244}. Точку зрения С. Б. Веселовского повторил Р. Г. Скрынников: ««Для бережения» (надзора) к старице был приставлен М. И. Колычев, двоюродный брат Умного»{1245}. В аналогичном плане рассуждает Б. Н. Флоря: «Для бережения» царь приставил к тетке своих доверенных людей, которые должны были контролировать ее контакты с внешним миром»{1246}. Согласно А. Л. Хорошкевич, «доглядывать за княгиней в монастыре были назначены М. И. Колычев, А. Ф. Щепотев и подьячий А. Шулепников»{1247}. Обращаясь к летописи, откуда наши историки почерпнули свои сведения о пребывании Ефросиньи Старицкой в монастыре, встречаем вполне определенное свидетельство о том, что приставленным к старице М. И. Колычеву и другим лицам государь повелел быть для «бережения» столь знатной особы, а также для того, чтобы «обиход ее всякой ведати». В Академическом словаре русского языка XI–XVII вв. приводится несколько значений слова «береженье»: 1) Охрана, защита; 2) Предосторожность, принятие мер для ограждения от какой-нибудь опасности, вреда; 3) Оберегание, заботливое отношение, присмотр; 4) Бережливость, расчетливость{1248}. Кроме того, в Словаре раскрывается содержание фразы «держати береженье»: а) охранять, оберегать; б) содержать под стражей, стеречь, следить, внимательно наблюдать за кем-либо{1249}. Казалось бы, семантика слова «береженье» позволяет согласиться с исследователями, говорящими о присмотре М. И. Колычева, А. Ф. Щепотева и А. Шулепникова за старицей Евдокией. Но это будет полуправдой, поскольку в летописном контексте данное слово имеет по отношению к старицкой княгине позитивный смысл, означающий ее оберегание, заботливое отношение к ней. Именно поэтому Колычеву с товарищами велено ведать всякий обиход, установленный для старицы. Потому же мы видим «Михаилу Колычева» раздающим земли детям боярским старицкой княгини. Надо полагать, что названная тройка присматривала за Ефросиньей, но вместе с тем она обязана была заботиться о княгине, исполняя ее пожелания. Таким образом, ни о насильственном пострижении Ефросиньи, ни об опале, наложенной на. нее, говорить не приходится. Из летописи мы знаем, что князю Владимиру Старицкому, как и его матери, княгине Ефросинье, царь Иван «гнев свой отдал», т. е. простил, в присутствии митрополита Макария и высших иерархов церкви, выслушавших государя, известившего о «неисправлениях» и «неправдахъ» старицких князей, признавших вину последних, но просивших о снисхождении и милосердии к ним{1250}. Прощение последовало без промедления и было объявлено тут же на Освященном соборе, а не через месяц или два и неизвестно где, как полагают отдельные историки. Но коль так, то о какой тогда опале на Владимира Старицкого можно рассуждать? Тем не менее в исторической литературе подобные рассуждения встречаются. А. А. Зимин, например, пишет: «Опале на некоторое время подвергся и князь Владимир Андреевич Старицкий. Наиболее преданные князю Владимиру бояре, дети боярские и дьяки переведены были в государев двор, а к старицкому князю приставлены царские бояре и дворовые люди»{1251}. При этом А. А. Зимин, вспоминая события 1541–1542 гг., когда произошло нечто подобное, замечает: «Смена ближайшего окружения старицкого князя была проведена не впервые»{1252}. Необходимо, однако, учесть, что замена дворецкого, а также бояр и детей боярских из ближайшего окружения Владимира Андреевича, произведенная в самом начале 40-х гг., не носила опальный характер, поскольку была осуществлена во время прекращения опалы на старицких князей и освобождения их из «нятства»{1253}. Значит, и смена в 1563 году бояр, детей боярских и дьяков Владимира Старицкого на таковых из государева двора не может рассматриваться исключительно как проявление царской опалы. И все ж А. Л. Хорошкевич повторяет А. А. Зимина в данном вопросе, добавляя, правда, некоторые спорные подробности: «В опалу попал и Владимир Старицкий, вскоре лишившийся своего двора, переведенного государем «в свое имя»: «у князя Володимера Ондреевича повеле государь быти своим бояром, и дьяком, и стольником, и всяким приказным людей». Однако полностью расправиться с Владимиром Андреевичем — неудачливым (?) победителем Полоцка, пользовавшимся поддержкой и, вероятно, симпатией боярства, он тогда еще не решился»{1254}. По-видимому, так вопрос не стоял. Царь Иван обошелся с Владимиром милостиво не столько потому, что с пугливой оглядкой смотрел на бояр, симпатизирующих и поддерживающих старицкого князя, сколько потому, что не исчерпал пока терпения и надежды на исправление удельных правителей, как-никак приходившихся ему все же родичами. Кроме того, он слишком почтительно относился к своему «отцу и богомольцу» митрополиту Макарию и Освященному собору, чтобы не прислушаться к их просьбе о помиловании Владимира и Ефросиньи Старицких. Так что Иван не решился полностью расправиться с Владимиром Андреевичем не потому, что не мог, а потому, что не захотел, движимый, по всей вероятности, желанием все уладить миром. Обращался к царской «опале» на Владимира Старицкого в 1563 году и такой видный знаток истории России времен Ивана Грозного, как Р. Г. Скрынников. «Во время розыска об измене Старицких князь Владимир подвергся опале и был сослан в Старицу. Только осенью царь объявил о прощении брата и вернул ему наследственный удел. Но при этом прежнее правительство Старицкого было распущено», — пишет Р. Г. Скрынников в книге «Начало опричнины»{1255}. В последующей своей работе, написанной четверть века спустя, исследователь как бы усилил мысль об опале Владимира, сделав ее пространнее, чем это мы наблюдаем у других исследователей: «Обвинив брата в измене, Грозный велел взять его под стражу и отправил в ссылку в Старицу. Среди документов 1563 г. в царском архиве хранилась «свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича в Старицу…». Опала и ссылка Владимира сопровождалась конфискацией его удельного княжества <…>. Пока князь Владимир пребывал в опале, власти осуществили далеко идущие санкции. После династического кризиса 1553 г. Старицким запретили вызывать в столицу удельных бояр и «двор». В 1563 г. в связи с возвращением удела Владимиру его «двор» подвергся самой основательной чистке. Власти позаботились о роспуске удельной Боярской Думы… Приставив к князю Владимиру верных людей, правительство Грозного учредило своего рода опеку над удельным князем, взяв под контроль всю жизнь Старицкого удельного княжества. Суд над Владимиром дал повод правительству перекроить границы удельного княжества. Давние соперники Старицких Захарьины торжествовали победу. После конфискации удела они приглядели самые ценные из удельных сел и добились их передачи Дворцовому приказу, который они возглавляли. 23 ноября 1563 г. князь Владимир лишился городка Вышгорода и удельных дворцовых волостей Алешин и Петровской в Можайском уезде, а взамен получил земли в восточных уездах — городок Романов с селами»{1256}. Одним из важных проявлений царской опалы, которой подвергся старицкий князь, Р. Г. Скрынников считает, как мы могли убедиться, конфискацию удельного княжества. Фактов, подтверждающих эту конфискацию, исследователь не приводит, и не потому, что они общеизвестны, а потому, что их нет. Правда, отдельные историки пытаются подвести под частичное изъятие удела обмен землями между царем Иваном и князем Владимиром. «У Владимира Андреевича забрали часть его удела, дав, впрочем, взамен другие земли», — пишет В. Б. Кобрин{1257}. Но обычно в трудах историков царствования Ивана Грозного речь о конфискации старицкого удела в 1563 году не идет{1258}. И это, на наш взгляд, правильно. Владимир Старицкий вместе со своей матерью, княгиней Ефросиньей, был прощен царем Иваном по «печалованию» митрополита и Освященного собора на самой встрече государя с иерархами церкви. Тем самым устранялись основания для наказания провинившихся. Поэтому не надо мудрить. Надо просто прислушаться к летописцу и согласиться с ним в том, что после прощения Владимира, объявленного на Соборе, государь повелел старицкому князю владеть своей вотчиной «по прежнему обычаю»{1259}. Если владельческие права удельного князя и были прерваны, то лишь на время розыска, когда он находился под следствием, и до соборного заседания, на котором Владимир получил прощение своего венценосного брата и восстановление в правах. Теперь о так называемой ссылке князя Владимира Андреевича в Старицу. Мы видели, что мысль о ссылке Владимира в Старицу Р. Г. Скрынников доказывает, утверждая, будто «среди документов 1563 г. в царском архиве хранилась «свяска, а в ней писана была ссылка князя Владимира Ондреевича в Старицу»{1260}. Можно подумать, что исследователь располагает документом того времени, свидетельствующим о ссылке Владимира в Старицу. В действительности же это не так. Р. Г. Скрынников забывает сказать, что имеет дело с выдержками из описи Посольского приказа 1626 года, когда «по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу околничей Федор Левонтьевич Бутурлин да дияки Иван Болотников да Григорей Нечаев переписывали в Посольском приказе всякие дела, что осталися после пожару, как горело в Кремле городе в прошлом во 134-м году, майя в 3 день…»{1261}. Именно в этой описи читаем: «Свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича и князя Михаила Воротынсково на Белоозеро и отписки из-Ываня города о приезде свейского королевича Густава и о вестях, и наказы черные дворяном, как посыланы с Москвы в Слободу и по всем городом на псковичи»{1262}. Обращает внимание грамматический строй текста: «Свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича в Старицу». Смысл его состоит в том, что на момент составления описи в данной связке отсутствовал документ, говорящий о ссылке Владимира в Старицу и хранившийся, по сведениям переписчиков, там ранее. Если ссылка Владимира Андреевича в Старицу «писана была», то другие архивные материалы имелись в наличии: «Свяска, а в ней… отписки из-Ываня города»; «свяска, а в ней… наказы черные дворянам». Особенно наглядно различие формулировок выглядит на фоне перечисления переписчиками других связок: «Свяска, а в ней рознь всякая надобная, грамотки посыльные…»; «свяска, а в ней списки свадебные черные великого князя Василья Ивановича…»; «свяска, а в ней грамоты от великой княгини Елены и от сына ее, от великого князя Ивана Васильевича, ко князю Ондрею Ивановичи) и ото князя Ондрея Ивановича к великой княгине и к сыну ее, великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и к Данилу митрополиту, и к бояром…»; «связачка в листу, а в ней грамоты посыльные к великому князю Василью Ивановичю всеа Русии от великие княгини Елены и от князя Михаила Глинсково»; «свяска старых дел великого князя Василья Ивановича и царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, грамоты черные, и судные, и приказные доводные дела, ветхи все и роспались и иная всякая рознь»{1263}. Отсюда вывод: дьяки Иван Болотников и Григорий Нечаев, разбиравшие интересующую нас сейчас связку архивных материалов, обнаружили утрату одного из хранившихся в ней документов. Но о том, что исчезнувший документ должен был находиться в связке, они доподлинно знали. Поэтому ими (или одним Иваном Болотниковым{1264}) была сделана помета в прошедшем времени: «в ней [связке] писана была ссылка Володимера Ондреевича в Старицу». Современный историк, следовательно, располагает не первичным, а вторичным документом, представляющим собой краткую ремарку составителей описи царского архива, трудившихся по прошествии полувека после событий 1563 года. Возникает вопрос, насколько аутентичным является термин-ссылка, примененный в описи XVII века к событиям пятидесятилетней давности? Этот вопрос тем уместнее, что ссылка, о которой говорится в описи, довольно необычна для времени Ивана Грозного. Ее местом названа Старица — родовое гнездо старицких князей. За многие «неисправления» и «неправды» в такого рода ссылку тогда не отправляли, прибегая к более суровым репрессивным мерам, чаще всего к заключению в темницу. Не скрывается ли за словом «ссылка» дьяков XVII века предписанный государем переезд князя Владимира Андреевича из Москвы в Старицу на время сыска по его делу? Подобный переезд был целесообразен тем, что позволял изолировать Владимира, прервать его связь с внешним миром, в частности со своими сторонниками из числа московских бояр, замышлявших отстранение Ивана IV от власти. Интересы следствия обусловили решение царя направить князя Владимира в Старицу. Судя по всему, поздние составители описи царского архива поняли это решение самодержца как ссылку Владимира Андреевича в Старицу. В любом, однако, случае необходимо осмотрительно пользоваться сведениями описи, составленной много позже 1563 года, избегая буквальных ее толкований. Вряд ли стоит рассматривать обмен землями между Иваном и Владимиром в качестве следствия суда над старицким князем. Этот суд дал якобы «повод правительству перекроить границы удельного княжества», а Захарьиным поживиться за счет наиболее ценных старицких сел, как считает Р. Г. Скрынников{1265}. Приготовления к обмену и сам обмен производились тогда, когда старицкие князья, даже по Р. Г. Скрынникову, были уже прощены государем — в октябре — ноябре 1563 года. В этом обмене не видно никаких карательных санкций. Для Владимира Старицкого земельная мена, по верному наблюдению С. Б. Веселовского, «была вполне безобидной»{1266}. Нельзя, впрочем, согласиться с его утверждением, будто «эта мена имела исключительно хозяйственное значение»{1267}. Шире взглянул на проблему П. А. Садиков. Он писал: «С 1563 г. Иван стал, по-видимому, готовиться к назревающим реформам, так как продолжение войны все настоятельнее требовало упорядочения и финансового хозяйства, запутанного управлением приказных дьяков, и какого-то решительного поворота в отношениях между верхушкой феодального класса, его основной массой, дворянством — «воинниками», и лично Грозным — носителем самодержавной власти. Иван во время своих ежегодных поездок по монастырям «на богомолье» и «по потехам» тщательно присматривается к хозяйственному строительству в своих собственных дворцовых селах, знакомится с положением дел в гуще «удельных» княженецких вотчин по «заоцким городам», заглядывает постоянно в настоящий «удел» кн. Владимира Андреевича, разъезжает с ним по его вотчине и «выменивает» у него немедленно по приезде в Москву понравившиеся, очевидно, благоустроенные хозяйственно, земельные единицы»{1268}. А. А. Зимин, одобривший догадку П. А. Садикова о том, что обмен землями между царем Иваном и Владимиром Старицким указывал на подготовку Грозного к продолжению государственных реформ, внес некоторые дополнительные штрихи к этому обмену. «Ежегодные поездки на богомолье и «потехи», — замечал исследователь, — могли использоваться царем для изучения организации удельного управления, опыт которого он использовал в недалеком будущем. С этим же замыслом как-то связывается и начало обмена землями с Владимиром Старицким»{1269}. Бесспорный интерес представляет мнение А. Л. Хорошкевич в той его части, где обмен землями между Иваном и Владимиром не соотносится не только с внутриполитической ситуацией в России, но и с обстоятельствами внешнеполитического свойства. Вспомнив о смерти Юрия Васильевича, родного брата Ивана IV, а также земельную мену последнего с князем Старицким, А. Л. Хорошкевич говорит: «События, несомненно, были связаны. К опасениям царя из-за влияния Владимира Андреевича на боярство добавлялся страх перед его возможными претензиями на наследство кн. Юрия и вообще на царский престол. Этот обмен произошел 26 ноября, на третий день после смерти Юрия Васильевича, вероятно, вскоре после похорон, на которых присутствовал и Владимир Андреевич, и сарский и подонский епископ Матвей, и весь освященный собор. Вместо Вышгорода на Протве и ряда Можайских волостей (Олешни, Петровской, Воскресенской) старицкий князь получил далекий от Москвы г. Романов на Волге с уездом, кроме Рыбной слободы и Пошехонья. Видимо, царь руководствовался не только хозяйственными побуждениями: ему было важно лишить Владимира Старицкого земель на запад от Москвы, расположенных по пути следования литовско-польских послов»{1270}. На наш взгляд, ларчик открывается проще. Судя по всему, замысел обмена возник у государя не мгновенно. Не стал он неожиданностью и для Владимира Старицкого, которому было известно о намерениях Ивана. Показательна в этом отношении следующая летописная запись: «Сентября в 21 день (1563)… царь и великий князь поехал в объезд к Троице живоначалной в Троецкой монастырь молитися, а от Троицы из Серьгиева монастыря поехал на Можаеск. А в Можайску свешал государь церковь Успения пречистые Богородицы дубовую брусеную о пяти верхах, что против государева двора, а у нее пять пределов, а освящена бысть Октября в 3 день, а свещал ее Ростовский архиепископ Никандр. А из Можайску государь ездил в Старицу, во княже Володимерову отчину Ондреевича дворцовым селам, а князь Володимер Ондреевичь с ним же; а в Верее у князя Володимера Ондреевича государь был и пировал, и по Верейским селом и по Вышегороцким государь ездил. А на Москву государь приехал Ноября в 1 день»{1271}. О чем говорит эта запись? Она говорит о том, что Иван IV отправился из Москвы «в объезд» (поездка, выезд с целью осмотра, контроля{1272}) западных русских городов и сел, расположенных на территории Старицкого удельного княжества. Всякое общественное дело, в особенности государственное, тогда начинали с публичного моления Богу. Вот почему царь заехал «молитися» в Троице-Сергиев монастырь и уже оттуда «поехал на Можаеск». Обнаруживается устоявшийся интерес государя к Можайску. Здесь у царя свой двор{1273}, здесь по его повелению строится Успенский храм, в освящении которого он принимает непосредственное участие. Сюда государь всей своей семьей приезжает молиться и отдыхать: «Поехал царь и великий князь в Можаеск к Николе Чюдотворцу и въ монастыри помолитися и по селом прохладится, а с ним его царица и дети его церевичи Иван и Федор Ивановичи»{1274}. Можайск — резиденция, можно сказать, царя Ивана{1275}. Тут он проводит длительное время, принимает различных иноземных послов, вестников и гонцов{1276}. Обращает внимание весьма важное военно-стратегическое значение Можайска, ставшего местом сбора и концентрации русских войск перед походом на Литву{1277}, а в некоторых случаях вследствие сравнительно небольшого расстояния от Берега — и крымских татар{1278}. Этот город на западных рубежах Руси являлся самым крупным{1279}, представляя собою мощную деревянную крепость, построенную по новым образцам{1280}. В Ливонскую войну Можайск приобрел существенное военно-стратегическое значение. Естественно, что аналогичное значение имели также близлежащие уезды, волости и села{1281}. По всей видимости, Иван совершил «объезд» именно этих земель, чтобы присмотреться к ним и при необходимости договориться с Владимиром Старицким о передаче их в ведомство Дворцового приказа, что в условиях войны было крайне необходимо с точки зрения государственных интересов. Договоренность, надо полагать, состоялась. И старицкий князь, понимая государственную потребность перехода удельных земель, соседствующих с Можайском, в ведение Москвы, не усматривал в этой договоренности давления на себя, а тем более какого-то наказания за недавние свои «неисправления» и «неправды» по отношению к царю. При чтении летописи складывается впечатление, что царь Иван и князь Владимир решали общее дело. Поэтому они вместе объезжали удельные дворцовые волости и села, вместе пировали, демонстрируя взаимное согласие. Договоренность Ивана с Владимиром, достигнутая во время поездки государя по удельному княжеству в октябре 1563 года, была реализована 26 ноября, когда «царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии менил со князем Володимером Ондреевичем землями: выменил у князя Вышегород на Петрове и с уезды да на Можайском уезде княжие волости, волость Олешню, волость Воскресеньскую, волость Петровскую; а променил государь князю Володимеру город Романов на Волге и с уездом, опричь Рыбные слободы и Пошехония»{1282}. Сам по себе обмен примечателен. После только что неопровержимо доказанных розыском «неисправлений» и «неправд» Владимира и Ефросиньи Старицких, в обстановке тяжелой войны с Польшей и Литвой, за которыми стоял, собственно, весь Запад, Иван IV компенсирует Владимиру Андреевичу взятые на себя в силу военной надобности старицкие земли, тогда как мог попросту их изъять и конфисковать, что было бы принято московским обществом как должное. Но царь поступил иначе, не желая, вероятно, чтобы его, совсем недавно перед лицом Освященного собора простившего старицких князей, заподозрили в мести. Он и здесь оказался на высоте православного самодержавства, управлявшего подданными посредством мира, любви и согласия, а потребуется и — грозы. Итак, летом 1563 года Иван Грозный «сложил свой гнев и отдал вину» Ефросинье и Владимиру Старицким, творившим всякие «неисправления» и «неправды», нацеленные на то, чтобы «извести» царя и его детей, как он сам скажет позже. Но перед нами отнюдь не единственный случай прощения государем изменников незадолго до учреждения Опричнины. Иван простил М. В. Глинского, И. Д. Бельского, М. И. Воротынского, воевод, сдавших врагу Тарваст, и др. После этого странными, по меньшей мере, кажутся слова В. О. Ключевского, который так охарактеризовал Ивана Грозного, когда он прогнал своих прежних советников — Сильвестра и Адашева: «Иван остался опять один на один со своими злыми чувствами и страстями, не находя опоры, лишенный любви и преданности, он опять начал действовать коренными инстинктами своей души: ненавистью, мстительностью и недоверием»{1283}. В этих словах проглядывает не столько исторический портрет Ивана, сколько его художественный образ, порожденный творческой фантазией В. О. Ключевского, образ захватывающий, но далекий от реальности. Неубедительным представляется и утверждение С. Ф. Платонова, будто проведенный Грозным «неискусно и грубо» разрыв с Избранной Радой «превратился в глухую вражду» царя «с широкими кругами знати», будто «со стороны последней не было заметно ничего похожего на политическую оппозицию»{1284}. Ведь разрыв с Избранной Радой, осуществленный Грозным постепенно, осторожно и с большой выдержкой, был обусловлен ее борьбой против царского самодержавства и стремлением партии Сильвестра — Адашева реформировать государственно-политическую систему так, чтобы превратить самодержавную власть в некое подобие королевской власти Польско-Литовского государства. И едва ли следует противопоставлять царя Ивана «широким кругам знати», среди которой было немало приверженцев русского самодержавия, разделявших идеи Грозного о царской власти. Любопытным в этой связи представляется одна из грамот Боярской Думы начала 60-х гг. XVI века, направленная панам королевской Рады. В этом послании-грамоте развиваются мысли, под которыми, не колеблясь, мог подписаться Ивана Грозный. «Наши государи самодержцы, — писали бояре, — никем не посажены на своих государствах, но от всемощиа Божия десницы государи, так и ныне на своих государствах государи, а ваши государи посаженые государи; ино которые крепче, вотчинный ли государь, или посаженой государь, сами то разсудите»{1285}. Бояре говорили то, что В. О. Ключевский приписал одному Грозному. «Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы сиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не многомятежному человеческому хотению»{1286}. Иван высказывал такие вещи, которые вращались в кругу политического, так сказать, истеблишмента той поры. Особенно примечательна формула, употребленная боярами в грамоте: «А государь наш волен своих холопей казнити и жаловати»{1287}. В данной формуле В. О. Ключевский видел яркое проявление сугубо индивидуального творчества царя Ивана. «Вся философия самодержавия у царя Ивана, — утверждал историк, — свелась к одному простому заключению: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны же». Для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли»{1288}. Не говоря о столь упрощенном и даже вульгаризированном подходе к «философии самодержавия у царя Ивана», заметим, что упомянутая формула являлась плодом творчества политического класса России середины XVI века в целом, независимо от положительного или отрицательного отношения к ней отдельных его представителей, в чьей борьбе и столкновениях формировалось русское самодержавство. Вернемся, впрочем, к прежней теме. На последнем этапе существования Избранной Рады и особенно после ее падения сторонники Сильвестра и Адашева, терпя поражение, пустились, как мы знаем, в разные измены, перешедшие в многочисленные побеги из России, сопровождавшиеся нередко выдачей государственных тайн и секретов. Заметное распространение получило скрытое противодействие бояр и воевод войне с Литвой и Польшей, что, безусловно, играло на руку врагу. Всем этим они сами упорно толкали Ивана Грозного к чрезвычайным мерам. К тому же вела политика Избранной Рады по отношению к русской церкви и православной вере. * * *Наблюдение за церковной политикой московского правительства в конце XV — середине XVI века выявляет одну любопытную закономерность: ужесточение этой политики (особенно по части церковно-монастырского землевладения) в моменты, когда оживлялось еретическое движение на Руси, а к правительственной власти приходили или приобретали большое влияние на нее лица, либо принадлежащие к еретикам, либо покровительствующие им. Вспомним последний период правления Ивана III. Еретики Федор Курицын, Елена Волошанка, протопоп Алексей и другие представители еретической партии «жидовствующих», проникшей внутрь Кремля, оказались у кормила власти. Именно они, прикрываясь государственными интересами испомещения служилых людей, а на самом деле следуя своей ереси, отвергавшей монашество, побуждали Ивана III к ликвидации церковно-монастырского землевладения, находя себе при этом сторонников среди нестяжателей, так сказать, «первой волны», возглавляемых Нилом Сорским, который, будучи идеалистом, лишенным должного прагматического чутья, вряд ли осознавал, какое церковно-политическое, в конечном счете, государственное крушение подстерегает Русь при осуществлении его, безусловно, симпатичной (если судить абстрактно) теории на практике. Следует далее заметить, что проблема земельного обеспечения служилых людей не являлась тогда и позже столь острой, как об этом нередко говорят наши историки, желая подвести под ограничительные и конфискационные меры правительства Ивана III идею исторической необходимости, чтобы лишний раз выставить православную церковь той поры в качестве реакционного учреждения, стоящего на страже своих богатств и препятствующего поступательному развитию Русского государства. К сожалению, об искусственности представлений о правительственном «земельном голоде» той поры можно судить преимущественно по косвенным данным, современным эпохе конца XV — середины XVI века и более поздним. Что касается последних, то на память приходят факты, связанные с разбором в октябре 1665 года князем Иваном Андреевичем Хованским и дьяком Аарионом Пашиным Новгородского Разряда, говоря новейшим языком, Северо-Западного военного округа. То был смотр служилых людей (дворян и детей боярских) всех пятин. В. М. Воробьев, внимательно изучавший это событие, обнаружил крайне любопытную вещь: из общего числа участвовавших в смотре служилых людей 38,4 % составляли беспоместные воины, состоящие на царском жаловании{1289}. Важно иметь в виду, что данное обстоятельство никоим образом не сказывалось на боеспособности русского войска. Логично предположить наличие беспоместных служилых людей и в первой половине XVI века. Так позволяют думать Писцовые книги, содержащие соответствующие сведения{1290}. Существование беспоместных в те времена нельзя, по нашему убеждению, рассматривать как свидетельство земельной скудости, ощущаемой русскими государями конца XV — середины XVI века. Не случайно, по-видимому, И. С. Пересветов, предлагая Ивану IV проект обустройства «воинников» (служилых людей), считает предпочтительным государево денежное жалование{1291}. Надо думать, Пересветов прибегал здесь не только к опыту фантасмагорического «Магмет-Салтана», но и к русской реальности середины XVI века, в которой обеспечение беспоместных служилых людей государевым денежным жалованием было достаточно распространенным явлением. И реформатор предлагал царю придать данному явлению всеобщий характер. Для этого имелись все необходимые условия. Но жизнь пошла по иной колее, в чем еще надлежит разобраться исследователям. Учитывая сказанное, мы не станем вслед за другими историками толковать конфискацию Иваном III земель дома Св. Софии и новгородских монастырей, их раздачу служилым людям как указание на недостаток земельного фонда у самого великого князя. Испомещение московских служилых людей в Новгородской земле имело не столько экономическое, сколько военно-политическое значение. Образование корпуса помещиков в Новгородской земле преследовало три, как минимум, основные цели: 1) сделать прочным и необратимым территориально-политическое объединение Новгорода с Москвой{1292}; 2) наладить управление вновь присоединенной землей{1293}; 3) обезопасить границы Русского государства на западе. Едва ли произведенное Иваном III изъятие церковных земель в Новгороде означало секуляризацию, пусть даже «местную» и «случайную», как полагал, например, А. С. Павлов{1294}. Особенно проблематичной является мысль о подобной сути земельных конфискаций, осуществленных вслед за присоединением Новгорода к Москве в 1478 году под предлогом восстановления прежнего княжеского домена: «А государьство нам свое держати, ино на чем великым княземь быти в своей отчине, волостем быти, селом быти, как у нас в Низовскои земле, а которые земли наши великых князей за вами, а то бы было наше»{1295}. Перед нами, несомненно, акция победителя в стане побежденных, долженствующая покрепче связать только что покоренное Новгородское государство с Московским княжеством. «В положении победителя, умеющего пользоваться своей победой и хорошо понимающего значение приобретенного, — говорит Б. Д. Греков, — иначе поступать, быть может, и нельзя было»{1296}. В результате «первые конфискации новгородских земель дали московской казне 17 тысяч обеж. Из них… 15 тысяч обеж были включены в фонд дворцовых и великокняжеских оброчных и только 2 тысячи со временем пошли в раздачу. После 1483–1484 годов в собственность великого князя поступило еще 12 тысяч обеж. Княжеский домен в Новгороде был восстановлен, поэтому львиную долю вновь конфискованных земель — до 10 тысяч обеж — казна раздала московским боярам и служилым людям. К концу XV века в собственность государства перешло свыше 72 тысяч обеж, из которых более половины осталось под непосредственным управлением великокняжеского ведомства, а меньшая часть попала в руки служилых людей»{1297}. По расчетам Ю. Г. Алексеева, после конфискации новгородских земель Иваном III великокняжеские оброчные и дворцовые земли составляли 50,8 % от общего числа земельных угодий, а поместные земли — только 36,3 %{1298}. О чем все это говорит? Прежде всего о том, что для испомещения служилых людей в конце XV — начале XVI века у московского великого князя земель было в избытке. «К концу XV в. оставался весьма значительный фонд оброчных земель, еще не пущенных в раздачу помещикам», — замечает В. Н. Бернадский{1299}. Если в чем и ощущался недостаток, так это в служилых людях. По словам А. М. Андрияшева, «даже в 1498 г., во время переписи Валуева, желающих и достойных получить поместья все еще оказывалось очень и очень недостаточно»{1300}. Изъятия и посягательства на земельные владения духовенства в Новгороде не являлись совершенной новостью. Светские власти волховской столицы в прошлом не раз покушались на земли местной церкви. Именно по этому поводу митрополит Филипп в апреле 1467 года в специальном послании увещевал новгородцев, которые «хотят грубость чинити святей Божией Церкви и грабити святыа церкви и монастыри», то есть «имениа церковныя и села данаа хотят имати себе… да сами тем хотят ся корыстовати»{1301}. Что касается отчуждения в 1478 году новгородских духовных вотчин, то оно было произведено «по предложению боярского правительства Новгорода»{1302}, опиравшегося на существующие, как мы видели, прецеденты. Иван III, следовательно, не вводил совершенно новую практику в отношения государственной власти с церковью{1303}. Он потряс новгородцев лишь масштабностью своего предприятия. Московский властитель, насколько известно, отбирал земли не только у духовных, но и у светских землевладельцев{1304}. И, надо сказать, мало кого «миновала чаша сия». А. М. Андрияшев, изучавший проблему по материалам Шелонской пятины, пишет: «Все новгородцы, владеющие землей, кто бы они ни были, — бояре, купцы или житьи люди, богатые собственники многих десятков сох и бедняки, сидевшие на одной обже, сторонники литовской партии и сторонники московской партии — все должны были оставить свои насиженные гнезда»{1305}. Новгородцев, покинувших «свои насиженные гнезда», поселяли в Московском княжестве. Для примера приведем лишь два случая, датируемых летописцем 1489 годом. Зимой этого года «привели из Новагорода на Москву болши семи тысящь житиих людей»{1306}. Той же зимой «князь велики Иван Васильевич переведе из Великого Новагорода многых бояр и житъих людей и гостей, всех голов больши 1000, и жаловал их, на Москве давал поместья, и в Володимери, и в Муроме, и в Новегороде в Нижнем, и в Переаславле, и в Юрьеве, и в Ростове, и на Костроме, и по иным городом. А в Новъгород в Велики на их поместья послал Москвичь лучьших многих, гостей и детей боярьских, и из ыных городов из Московъскиа отчины многих детей боярьских, и гостей, и жаловал их в Новегороде в Великом»{1307}. Из всех этих фактов, нами упомянутых, следует, что Иван III располагал и в центральных уездах, и в новгородских пятинах земельным фондом, значительно превышающим потребность обеспечения землей служилых людей. Поэтому едва ли можно согласиться с утверждением, будто «после присоединения Твери и конфискации земель новгородского боярства правительство исчерпало основные земельные фонды, которые оно могло широко использовать для испомещения значительных масс служилых людей»{1308}. Земельный фонд, образованный в Новгородской земле посредством конфискаций земель светских и церковных собственников, московское правительство, как мы видели, еще далеко не исчерпало. И всякие рассуждения насчет остроты земельного вопроса в России на рубеже XV–XVI веков нам представляются искусственными. Другой вывод, вытекающий из приведенных выше фактов, состоит еще и в том, что первые конфискации церковных и монастырских земель Ивана III в Новгороде не являлись, строго говоря, секуляризацией, т. е. политикой обращения государством церковной собственности в светскую. Прав Б. Д. Греков, когда говорит: «Это не «секуляризация», а конфискация земель без различия — и светских и церковных — по чисто политическим мотивам, результат завоевания, а не акт внутренней политики»{1309}. Вместе с тем, однако, нельзя не заметить, как эти конфискации, производившиеся не менее 5 раз, если не больше{1310}, «перерастали в секуляризацию (правда, в рамках одной области)»{1311}. В соответствии с мнением А. А. Зимина, «ликвидация монастырского землевладения отвечала насущным потребностям военно-служилого люда и феодального государства»{1312}. Думается, это — некоторое преувеличение. Ликвидацией земельной собственности церкви и монастырей были озабочены преимущественно еретики, тесным кольцом окружавшие великого князя Ивана и настойчиво побуждавшие его к этой крайней и, надо сказать, опасной мере, вносящей раздор между государством и церковью, чреватый распадом русской государственности. В сущности, их влияние на великого князя в данном вопросе признает и А. А. Зимин: «Было еще одно средство (расширения земельных резервов государства. — И.Ф.), которое отвечало представлениям московского кружка единомышленников-вольнодумцев, опиравшегося на Дмитрия-внука, — полная ликвидация (секуляризация) монастырского землевладения»{1313}. Это влияние, радикальное по своей сути, началось, очевидно, с первых конфискаций недвижимости новгородского духовенства. Иначе трудно понять ошеломившее новгородцев требование великого князя уступить ему половину земельных владений владыки и шести наиболее крупных новгородских монастырей. Скрытую пружину такой необыкновенной прыти Ивана Васильевича сумел разглядеть В. Н. Бернадский. «Как далеко готов был идти Иван III в борьбе с главою новгородской церкви в 1480 г., — говорит он, — можно судить по тому, что именно к этому времени относится начало сближения Ивана III с новгородскими еретиками. Возвращаясь в феврале 1480 г. в Москву, Иван III вез с собой двух руководителей новгородской ереси, один из которых (Алексей) стал с тех пор духовником московского государя и пользовался большим влиянием на Ивана III. Если в 1478 г., отстаивая свои права на землю, Иван III ссылался на «старину», на древние летописи, то теперь помощи ученого знатока летописей — Степана Бородатого уже было недостаточно. Нужно было оправдать свои действия по отношению к главе новгородской церкви и его имуществу добавочными доводами идеологического порядка. Ими снабжали Ивана III еретики, снимающие грех с души Ивана»{1314}. Полагаем, что дело не столько в дополнительных доводах идеологического порядка, в которых нуждался Иван III, покусившийся на земельные богатства новгородской церкви, сколько в прямом воздействии на московского государя еретиков, приобретших огромное на него влияние. Вполне возможно, великий князь, отправляясь покорять Новгород, знал заранее, с кем ему там надлежит встречаться и чьими советами пользоваться. Соответствующие рекомендации он мог получить от Федора Курицына, связанного, несомненно, с новгородскими еретиками{1315}. Я. С. Лурье не уверен, «по своей ли инициативе или по совету кого-либо из приближенных Иван III, завоевав Новгород, пригласил тамошних противников церковных «имений» и «стяжаний» (еретиков. — И.Ф.) к себе в Москву»{1316}. По-видимому, здесь было и то и другое. Чтобы взять с собой в Москву новгородских священников-еретиков Алексея и Дениса, надо было видеть их, беседовать с ними, причем неоднократно. Но подобные встречи едва ли могли состояться случайно, так сказать, без наводки. И, конечно же, последнее слово в решении брать или не брать Алексея с Денисом в Москву, оставалось за великим князем. Перевод их туда свидетельствовал о том, что они полюбились Ивану Васильевичу за дельные, как ему показалось, советы, в числе которых были, вероятно, и те, что касались конфискаций владычных и монастырских земельных владений. Могло статься, что именно эти «эксперты», близко знавшие положение дел в Новгородской епархии и враждебно настроенные к православной церкви, побудили Ивана III выставить непомерное требование о передаче ему «половины всех земель Софийского дома, т. е. новгородского владыки и монастырей»{1317}. Любопытно отметить, что после переговоров по данному вопросу, великий князь уступил владыке, удовольствовавшись не половиной его земельных владений, а десятью волостями, тогда как относительно монастырей остался непреклонен и отобрал-таки у шести крупнейших новгородских монастырей половину их земель{1318}. Невольно закрадывается мысль, не внушено ли это ожесточенное отношение к новгородским монастырям еретиками-советчиками (в том числе Алексеем и Денисом), отвергавшими не только монастырские «стяжания», но и самое монашество как институт. Логично допустить, что и в дальнейшем Иван III прислушивался к советам еретиков, когда приступал к очередной конфискации земельной собственности новгородского духовенства. В их поведении, помимо прочего, нельзя не почувствовать проявление злобной мести, обращенной к новгородской церкви, глава которой архиепископ Геннадий не только первым обнаружил «ересь жидовствующих», но и сделал все зависящее от него, чтобы покарать вероотступников. Новый удар по церкви Новгорода последовал в 1499 (1500) году, когда с благословения «Симона митрополита поймал князь великий Иван Василиевичь в Новегороде в Великом церковные земли за себя, владычни и монастырские, и роздал детем боярским в поместие»{1319}. Можно лишь догадываться, насколько острой была ситуация, если для отторжения церковных земель понадобилось благословение митрополита, который, казалось бы, по должности своей являлся стражем земельных владений церкви и монастырей. Обстановка, по всей видимости, достигла крайней остроты вследствие перерастания более или менее эпизодичных конфискаций церковного земельного имущества в секуляризацию как государственную политику, отрицающую землевладение духовенства вообще и, прежде всего, право монастырей на владение селами. Эта политика затронула в первую очередь Новгород. Не случайно именно здесь, в Новгороде, где-то в самом начале XVI века (а быть может, и в конце XV в.{1320}), но до 1503 года в «Чин Православия» включается ежегодно возглашаемое на первой неделе Великого поста анафематствование: «Вси начальствующий и обидящии святыя Божии церкве и монастыреве, отнимающие у них данныя тем села и винограды, аще не престанут от таковаго начинания, да будут прокляти»{1321}. Показательно и другое: в литературном кружке архиепископа Геннадия создается теория, обосновывающая святость и неприкосновенность земельной собственности церкви{1322}. Из кружка Геннадия вышел трактат «Слово кратко противу тех, иже в вещи священные, подвижные и неподвижные, съборные церкви вступаются и отимати противу спасениа души своеа дръзают, заповеди Божии и церковные прозирающе, и православных царей и великих князей истинное, клятвою законоположение разающе, и заповеди божиа приибидяще»{1323}. Существует мнение, согласно которому составителем трактата был некий доминиканец Вениамин, находившийся на службе у новгородского архиепископа{1324}. «Святейшему и разумнейшему, о Христе отцу духовнейшому господину», — с нескрываемым пиететом обращается автор «Слова кратка» к своему патрону{1325}. В добродетелях, оказывается, ему нет равных среди настоятелей «в сей пресветлой русской стране»{1326}. Он «всякому писанию учен», а «на враги церковные и еретикы ратователь крепчайший»{1327}. За этими характеристиками угадывается новгородский архиепископ Геннадий. Именно Геннадий, по свидетельству нашего книжника, «о церковных грабителех написати повелел»{1328}. Их злые деяния легли грехом на все русское племя: «мы же хрестьане греци русь», хоть и «под бременем благодати рождены есме», но «горе нам, тяжек бо грех творит противу Бога, иж нечист совестью к церкви Божий приступает»{1329}. Всякие попытки завладения церковным имуществом автор рассматривает как неугодные Богу: «Отняти благая церковнаа есть предкновение Богови, и ему обида творити»{1330}. Он приравнивает такие попытки к святотатству{1331} и обещает святотатцу, обижающему церковь, вечные муки в аду{1332}. Этими обидчиками у него выступают цари и начальники, т. е. мирские власти. К ним обращено его поучение: «Властелю мирскому не достоит быти сребролюбну хищнику, и на церковнаа благая села и имения наступати и къ своим приписовати и пастырем своим претыкание творити, но паче достоит быти мудру и силну, злых наказующу»{1333}. Все это живо напоминает Ивана III, отписывавшего церковные и монастырские земли на себя, круто обходившегося с иерархами церкви. Есть и другие намеки автора «Слова кратка» на современную ему действительность. Говоря о римском императоре Юлиане-отступнике, он замечает, что тот свое «желание святотатства еуагельским свидетельством покрываше, егда имениа и стяжания отимаша у хрестьан и церкви Божии…»{1334}. К тому же приему прибегали и сторонники «ереси жидовствующих», которым внимал Иван III. Великий князь, как известно, не только покровительствовал еретикам, призывавшим к изъятию сел, принадлежащих русскому духовенству, но и защищал их от преследований со стороны правоверных иерархов церкви. Сочинитель «Слова кратка» искал и находил в прошлом аналогичные примеры, перекликающиеся с современной ему действительностью: «Анастасии кесарь, побарая по еретицех, церковь божию с пастыри ея гоняше, стяжании их отемлюще и къ скровищу своему прилагающе и приписующе»{1335}; «и Ераклии кесарь, тогож сребролюбия и порока ради ереси монохелиския…»{1336}. Разумеется, церковная политика Ивана III имела свою специфику, обусловленную исторической обстановкой, в условиях которой она осуществлялась. Автор «Слова кратка» это хорошо понимал. Но он также знал, что Иван Васильевич был очень расположен к советам еретиков, выступавших против земельных «стяжаний» монастырей и церкви. Не потому ли «Слово кратко» упоминает тех, кто «съветуяй отемлющему», т. е. советников, обещая им равную казнь — смерть, «понеже творяй и съветуяй вменяются за едино»{1337}. Всем ходом своих рассуждений составитель «Слова» подводит к следующему положению: «Всяк убо, иже церковнаа стяжаниа, села или скровище отемлет или насилствует и врежает, от святых отець отречен и отлучен наричеся зде и в будущем»{1338}. Несмотря на анафематствование и обличения в публицистике, направленные «противу тех, иже в вещи священные, подвижные и неподвижные съборные церкви вступаются», великий князь московский продолжал покушаться на церковные земли в Новгороде. Новгородцы имели некоторые основания упрекать Ивана III в том, что он обращается с ними, «яко с пленными». Несколько иначе развивались события в центральных уездах Русского государства. «В коренных областях северо-восточной Руси, — замечает С. Б. Веселовский, — вопрос о монастырском землевладении был значительно сложнее. Здесь многочисленные и богатые монастыри были такой силой, с которой нельзя было не считаться. В борьбе за землю иосифляне взяли верх, и вел. кн. Иван ограничился частными мерами, вероятно косвенными»{1339}. Кроме отмеченных С. Б. Веселовским обстоятельств, следует, по нашему мнению, сказать и об отсутствии в «коренных областях северо-восточной Руси» острого дефицита земель, потребных для испомещения здесь служилых людей. Ведь изыскало же земли правительство даже в середине XVI века, когда вознамерилось испоместить в Московском и соседних уездах так называемую избранную тысячу{1340}. И все-таки исследователи отмечают введение в конце XV — начале XVI века некоторых ограничительных мер, касающихся земельной собственности монастырей{1341}, что вызвало замедление роста монастырских вотчин как в центральных{1342}, так и периферийных районах страны{1343}. «В истории таких крупнейших монастырей, как Троицкий Сергиев и Кириллов Белозерский, — писал опять-таки С. Б. Веселовский, — мы наблюдаем в конце XV и в начале XVI в. такое замедление роста их землевладения, что естественно возникает предположение о каких-то запретительных мерах, принятых вел. кн. Иваном»{1344}. С. М. Каштанову дело представляется так, что «с конца XV в. московским великокняжеским правительством твердо был взят курс на ограничение роста монастырского землевладения»{1345}. В наступлении правительства Ивана III на церковные земли непосредственно участвовали, надо полагать, московские правители-еретики. Примером, хотя и не прямым, здесь может служить относящаяся к 1490 году и подписанная Федором Курицыным грамота, «ограничивающая земельные приобретения пермской епископии; уже присоединенные епископом [Филофеем] волостные земли должны были быть возвращены «тем людям, кого владыка те земли и воды и угодья поймали»{1346}. Если согласиться с тем, что «Федор Курицын принимал участие в оформлении тех юридических актов, которые совершались с ведома И. Ю. и В. И. Патрикеевых»{1347}, то круг противников церковно-монастырской земельной собственности расширится, причем за счет весьма знатных и влиятельных политических деятелей конца XV века. Правомерность подобного умозаключения выглядит вполне обоснованной на фоне яростной последующей борьбы князя-инока Вассиана Патрикеева против земельных стяжаний церкви. Партия еретиков, враждебных русской православной церкви, заронила в сознание Ивана III идею о необходимости секуляризации и укрепила его в этой идее. Великий князь не скрывал своих замыслов. «Период с сентября 1502 по август 1503 г., — говорит С. М. Каштанов, — время большой сдержанности в иммунитетной и земельной политике. Позиция, занятая великокняжеским правительством, откровенно демонстрировала его секуляризационно-ограничительные намерения»{1348}. Вопрос о секуляризации церковно-монастырской земельной собственности призван был решить собор 1503 года. Понимал ли Иван III, что, выступая против сложившегося экономического уклада жизни монастырей, он расшатывает усердно создаваемую им русскую государственность, сказать трудно. К счастью, большинство духовных иерархов, заседавших на соборе, отвергло притязания правительства{1349}, осуществлявшего земельную программу «жидовствующих». Это было провалом политики не столько самого великого князя Ивана, сколько еретической придворной партии, что не могло остаться без последствий для приверженцев ереси. «Победа воинствующих церковников на соборе 1503 г., — резонно (лексическая экспрессия не в счет. — И.Ф.) замечает А. А. Зимин, — предрешила судьбу кружка вольнодумцев, которые группировались вокруг дьяка Федора Васильевича и Ивана Волка Курицыных»{1350}. Собор 1504 года приговорил наиболее опасных еретиков к смертной казни{1351}. По нашему мнению, есть основания говорить об известной обусловленности собора 1504 года победой русских иерархов на соборе 1503 года. Если это так, то естественным образом напрашивается вывод о том, что план секуляризации, вынесенный на собор 1503 года, был разработан еретиками, окружавшими Ивана III. А это означает, что собор 1504 года следует рассматривать как завершающий момент торжества православного духовенства над «жидовствующими», а соборы 1503 и 1504 годов — как этапы его достижения. Казни еретиков не сопровождались, по-видимому, полной заменой правительственных лиц в Москве. Многие бояре, служившие великому князю, оставались по-прежнему еретиками, хотя и старались держать свою причастность к ереси в тайне. Присутствие еретиков во власти, особенно в начальный период княжения Василия III, способствовало известной ее преемственности с предшествующей властью, находившейся в руках Федора Курицына и К°. Вот почему политика ограничений в области монастырского землевладения продолжалась и после того, как Василий Иванович занял великокняжеский стол. С. М. Каштанов, глубоко исследовавший проблему, говорит о том, что «мероприятия Василия III в области иммунитета являлись продолжением начинаний Ивана III, направленных на сокращение феодальных привилегий. В 1505–1507 гг. правительство произвело частичный пересмотр старых жалованных грамот»{1352}. В ближайшие годы предпринимались аналогичные ограничительные меры: «До середины 1511 года правительство чрезвычайно строго придерживалось принципов иммунитетной политики, выработанных в последние 15 лет княжения Ивана III»{1353}. По словам С. М. Каштанова, «промежуток с конца 1505 до середины 1511 гг. был временем наиболее последовательной борьбы правительства Василия III за ограничение податного иммунитета»{1354}. Сокращались льготы митрополичьего дома и монастырей{1355}. Не произошло существенных перемен в этом отношении и в 1512–1514 гг.{1356}, несмотря на то, что лично великий князь Василий, судя по всему, не испытывал желания покушаться на церковную собственность. По словам А. С. Павлова, «даже в тех случаях, когда этот государь находился в таком же положении относительно церковных и монастырских вотчин, в каком его отец — при покорении Новгорода, он поступал совершенно вопреки отцовскому примеру. Так в 1510 году, при взятии Пскова, великий князь, отобрав несколько вотчин у лучших псковичей, «не вступился в церковные земли, благоговеинства ради псковских иереев», а при покорении Смоленска в 1514 году он даже торжественно обещал охранять неприкосновенность прав местной церкви»{1357}, обязавшись «в дом Пречистые, и в скарб, и во все монастыри, и в церковные земли и в воды не вступатися и не рушити их ничем»{1358}. Но то были единичные, так сказать, проявления, отклоняющиеся от общей политики, которая продолжала развиваться в заданном Иваном III направлении. На наш взгляд, продолжение Василием III политики Ивана III в сфере церковно-монастырского землевладения объясняется двумя причинами: наличием в правительстве прямых еретиков или их сторонников, а также появлением во власти людей, придерживающихся теории нестяжателей, которых Иосиф Волоцкий считал, по мнению, А. А. Зимина, еретиками{1359}. К их числу принадлежал Вассиан Патрикеев, переведенный, по всей видимости, стараниями упомянутых выше бояр из далекого Белоозера в Москву, где ему удалось войти в доверие к Василию III, стать всесильным временщиком и ближайшим советником великого князя. Старец Вассиан пользовался, естественно, этим положением, чтобы проводить в жизнь свои отчасти нестяжательские, отчасти еретические идеи. На ключевые места он старался посадить своих людей. Нам неизвестна в деталях его «кадровая политика». Но есть основания полагать, что не без хлопот со стороны Вассиана в 1511 году на митрополичью кафедру был возведен Варлаам, живший одно время вместе с Патрикеевым в Кирилло-Белозерском монастыре — основной, по выражению А. А. Зимина, цитадели нестяжателей{1360}. До посвящения в сан митрополита Варлаам являлся архимандритом Симонова монастыря, в котором поселился приехавший в Москву Вассиан Патрикеев. Варлаам и Вассиан сблизились не только на бытовой, но и на идейной почве{1361}. О позиции Варлаама исследователи говорят как о «недвусмысленно нестяжательской» или «близкой к нестяжателям»{1362}. А. А. Зимин пишет о «нестяжательском окружении митрополита Варлаама»{1363}. Все это привело к перестановке кадров среди высших иерархов русской церкви. Если к 1509 году, по наблюдениям А. А. Зимина, «минимум пять епархий из восьми были в руках иосифлян, а одна [Новгородское архиепископство] оставалась вакантной»{1364}, то после вступления на митрополичий престол Варлаама ситуация существенно изменилась. «В 1515 г. скончались архиепископ ростовский Вассиан и епископ суздальский Симеон. В Ростове кафедру 9 февраля 1520 г. получил Иоанн, бывший архимандрит Симонова монастыря (где долгое время жил Вассиан Патрикеев), в Симонов же он попал в 1514 г., будучи до этого с 1505 г. кирилло-белозерским игуменом{1365}. Епископом суздальским 10 февраля 1517 г. был поставлен архимандрит рождественский из Владимира (с 1509 г.) Геннадий. После присоединения Смоленска епископом там 15 февраля 1515 г. был назначен архимандрит придворного Чудова монастыря Иосиф. Близкий к иосифлянам епископ рязанский Протасий покинул свою кафедру в 1516 г. и умер в апреле 1520 г.{1366} В 1514 г. ушел на покой вологодско-пермский епископ Никон. Рязанская епархия была занята сразу же после отставки Протасия: 12 февраля 1516 г. епископом поставлен архимандрит придворного Андроникова монастыря Сергий (был им еще в 1509 г.). Возможно, он был близок к нестяжателям, ибо покинул кафедру на четвертый день после поставления в митрополиты иосифлянина Даниила. Пермскую епархию занял только 16 февраля 1520 г. [!] игумен соловецкий Пимен. Не исключено, что и он входил в состав иерархов нестяжательского блока, ибо получил свою епархию в том же месяце, когда и двое других владык, сочувствовавших деятельности митрополита Варлаама. «Согнан» с престола он был сразу после поставления митрополита Даниила. Наконец, воинствующий иосифлянин Митрофан покинул Коломенскую епархию и ушел на «покой» в Троицу 1 июня 1518 г. На его место был назначен угрешский игумен Тихон (14 февраля 1520 г.). До своего назначения он был игуменом Кирилло-Белозерского монастыря (1515–1517 гг.), а покинул епархию после прихода к власти Даниила»{1367}. Следовательно, «к началу 20-х годов XVI в. среди восьми высших иерархов примерно четверо были близки к нестяжателям, двое были иосифлянами (крутицкий епископ Досифей и тверской Нил), позиции двух неясны (смоленский епископ Иосиф, суздальский епископ Геннадий)»{1368}. Благодаря этим кадровым изменениям в высшем эшелоне руководства русской церкви оказалось возможным то, о чем говорят новейшие историки. «1512–1513 гг., — замечает С. М. Каштанов, — явились кульминационным моментом союза Василия III с нестяжателями. Летом 1511 г. митрополитом стал видный последователь Нила Сорского Варлаам. Очевидно, при поддержке Варлаама правительству Василия III удалось каким-то образом приостановить рост монастырского землевладения»{1369}. По словам Л. И. Ивиной, избрание митрополитом «Варлаама, человека близкого к нестяжателям, исследователи расценивают как важное событие в истории борьбы между иосифлянами и их противниками, способное влиять на приостановку в государстве роста монастырского землевладения»{1370}. Однако роль митрополита Варлаама в этой «приостановке», судя по всему, была пассивной, так сказать, непротивленческой. Более активно и напористо вел себя Вассиан Патрикеев, религиозно-политическая деятельность которого внушала ревнителям русской церкви большие опасения. Видно, этим было вызвано обращение к Василию III старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, наставлявшего великого князя: «Не преступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды — великий Константин, и блаженный святый Владимир, и великий богоизбранный Ярослав и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе. Не обиди, царю, святых Божиих церквей и честных монастырей, еже данное Богови в наследие вечных благ на память последнему роду, о сем убо святый великий Пятый собор страшное запрещение положи»{1371}. По вполне правдоподобной версии А. С. Павлова, «в этих словах скорее содержится предостережение от возможного посягательства на церковные имущества, чем жалоба на факт, уже свершившийся. Вероятно, старец Филофей намекал вел. князю на Вассиана Патрикеева, который в это время так страшен был для защитников монастырской собственности»{1372}. Конечно, проблема не сводилась к одному лишь Патрикееву. Защитников церковных и монастырских сел, или любостяжателей, по терминологии А. С. Павлова{1373}, тревожило нестяжательское окружение великого князя, преобладание нестяжателей в церковном руководстве той поры. Надо сказать, что союз Василия III с нестяжателями, за которыми нередко скрывались прямые вероотступники, выдававшие себя за последователей Нила Сорского, а в действительности являвшиеся продолжателями дела Федора Курицына и его сотоварищей, длился примерно до конца 1510 — начала 1520-х годов. Но и за это сравнительно короткое время «нестяжатели», возглавляемые Вассианом Патрикеевым, нанесли ощутимый урон Русскому государству. Во-первых, внушаемая ими государю политика ограничения прав церкви (в том числе монастырей) и земельных конфискаций замедляла процесс церковно-государственного соединения, лежащего в основе строительства православного «самодержавства», или «Святорусского царства». То была политика, шедшая наперекор исторически обусловленному развитию теократического самодержавия в России, и в этом ее существенный вред. Во-вторых, открытые выступления Вассиана Патрикеева и его единомышленников против смертной казни еретиков, на чем настаивал Иосиф Волоцкий, в тех конкретных исторических условиях являлись не чем иным, как поддержкой приверженцев еретических учений. В Русии, таким образом, создавалась благоприятная обстановка для нового подъема ереси. Митрополит Варлаам вел себя, по меньшей мере, странно. Он не предпринимал каких-либо решительных действий против еретиков, тем самым покровительствуя им. По-видимому, это послужило основной причиной того, что Варлаам был сведен с митрополичьего престола. Правда, С. Герберштейн повествует иное, сообщая о том, что митрополит, возмущенный поведением Василия III, нарушившего клятву, данную князю Василию Шемячичу, сам отказался от должности, после чего был закован в кандалы и отправлен в заточение на Белоозеро, а затем остаток жизни провел в монастыре простым иноком{1374}. Версию С. Герберштейна принял А. А. Зимин: «Современники (Герберштейн. — И.Ф.) считали, что он (Варлаам. — И.Ф.) был сведен с престола за то, что отказался помочь Василию III в захвате его «запазушного врага» Василия Шемячича»{1375}. Однако еще Макарий замечал: «В рассказе Герберштейна есть важная ошибка: событие с Шемячичем случилось вовсе не при Варлааме, а при его преемнике (в 1523 г.), и эту ложь могли сообщить немецкому послу (в 1526 г.) намеренно люди партии, враждебной великому князю Василию Ивановичу. Но прочие частности рассказа не заключают в себе ничего невероятного»{1376}. Макарий, к сожалению, не называет эти частности, опасаясь, вероятно, ошибиться в них. Более свободно высказался Е.Е.Голубинский: «Шемячич (Василий Иванович, внук Дмитрия Шемяки, князь новгород-северский), вопреки клятвенным охранным грамотам великого князя и митрополита, был схвачен в Москве не при Варлааме, а при его преемнике Данииле; следовательно, в этом случае Герберштейн говорит неправду. Можно, однако, подозревать, что он говорит не совершенную неправду именно — могло быть так, что великий князь предлагал Варлааму вызвать обманным образом Шемячича в Москву и что этот не согласился. В остальных неопределенных словах Гербервдтейна о причине удаления митрополита с кафедры, очевидно, должно разуметь то, что великий князь хотел в каких-то отношениях присвоить себе власть последнего. Если бы Варлаам, как говорит Герберштейн, сам отказался от кафедры, то великому князю не за что было бы ссылать его. Эта ссылка, о которой говорит и наша летопись, дает знать, что митрополит пытался было протестовать против посягательства на его власть со стороны великого князя и что государь, в гневе на стойкость митрополита, не ограничился только тем, чтобы низвести его с кафедры, но и послал в заточение. Наложение на низведенного митрополита желез или оков как будто представляет нечто не совсем вероятное; однако с решительностью объявлять за невероятное мы не находим возможным»{1377}. Сложность, конечно, состоит в том, что наши летописные источники сообщают об уходе Варлаама с митрополии довольно глухо: «Варлаам митрополит остави святительство»{1378}; «митрополит Варлам оставил митрополию»{1379}. На этом фоне известие Софийской второй летописи выглядит почти как повествование: Варлаам «поиде на Симонове, а с Симонова сослан в вологоцкий уезд на Каменое»{1380}. Похоже, все-таки митрополит Варлаам не по собственной воле покинул кафедру, уйдя в Симонов монастырь, откуда был сослан в далекую обитель, где какое-то время находился в заточении. Возможно, его скомпрометировали связи с нестяжателями, среди которых имелись склонные к «ереси жидовствующих» люди, подобные Вассиану Патрикееву. Дружба с ними или покровительственное отношение к ним сильно подвели митрополита. Наше предположение не покажется надуманным, если учесть, что в это время разворачивается активная борьба государства с еретиками, о чем свидетельствуют собор, созванный по поводу некоего еретика-еврея Исаака, соборные суды над Максимом Греком (1525,1531), в особенности — соборное осуждение (1531) Вассиана Патрикеева, обвиненного в еретичестве. Весьма красноречив и тот факт, что на смену Варлааму пришел не его единомышленник-нестяжатель, а иосифлянин Даниил — непримиримый противник еретиков. С приходом на митрополию Даниила началась чистка среди высших церковных иерархов. По наблюдениям А. А. Зимина, в русской церкви «ключевые позиции занимают постриженики Волоколамского монастыря. 30 марта 1522 г. вместо умершего Нила Гречина епископом тверским стал волоцкий постриженик Акакий… Коломенским епископом становится племянник Иосифа Волоцкого Вассиан Топорков (2 апреля 1525 г.)»{1381}. Вместо сосланного с «владычества» в апреле 1523 года вологодско-пермского епископа Пимена тамошнюю епархию возглавил (апрель 1525 г.) кирилло-белозерский игумен Алексей{1382}. Двухлетняя вакансия вологодско-пермского епископства намекает, возможно, на борьбу, развернувшуюся вокруг ее замещения. В марте 1526 года новгородским архиепископом назначается последовательный иосифлянин Макарий — будущий митрополит Московский и всея Русии. Эти и другие назначения{1383} говорят нам о том, что святителю Даниилу удалось добиться занятия иосифлянами, а также их сторонниками «почти всех высших постов на церковно-иерархической лестнице»{1384}. Успех последователей Иосифа Волоцкого, возглавляемых митрополитом Даниилом, значил много больше, чем простое одоление одной группы церковных деятелей другой в их внутренней взаимной борьбе. Этот успех являлся внешним выражением усиления союза церкви и государства в деле построения самодержавства и православного царства на Руси с «земным Богом» на престоле{1385}. В данных условиях земельная политика, ущемляющая права церкви и монастырей, неизбежно должна была смениться на политику предоставления этим важнейшим институтам теократического государства всякого рода льгот и привилегий. Последний десятилетний период (1522–1533) правления Василия III служит тому наглядным подтверждением{1386}. Важно при этом иметь в виду, что всякого рода пожалования Василия Ивановича церкви и монастырям, связанные с землей, проистекали не столько из чувства признательности великого князя иосифлянам-«любостяжателям» за разработку ими угодного ему учения о теократическом характере самодержавной власти московского государя, сколько из того, что церкви и, следовательно, монастырям в этом учении отводилась важнейшая роль опорной конструкции всего здания российского самодержавства и, прежде всего, власти самодержца. Может показаться странным, но это так: жалуя церкви и монастыри, Василий III, как и впоследствии Иван IV, укреплял свою самодержавную власть. И это стало одной из причин нападок на церковное и монастырское землевладение, за которыми на самом деле скрывалось неприятие самодержавного строя Русского государства. Нельзя также забывать и о том, что Василий III вместе с руководством русской православной церкви приступил к активному подавлению вновь ожившей ереси, вследствие чего еретики утратили свое влияние при дворе, особенно после того, как пал «великой временной человек» Вассиан Патрикеев, призывавший государя «отъимати» села у монастырей и «мирскых церквей»{1387}. На некоторое время еретики, их покровители и сторонники, притихнув, затаились. Годы регентства Елены Глинской (1534–1538) не внесли принципиальных изменений в политику государства по отношению к церковно-монастырским корпорациям. Изучение источников показывает, что правительство Е.Глинской «продолжило начатое при Василии III отступление от строго ограничительного курса иммунитетной политики»{1388}. Согласно С. М. Каштанову, чьи слова приведены сейчас, «этому способствовало присоединение последних уделов, где поддерживалась традиция более широкого податного иммунитета монастырей, чем на основной территории государства. Будучи не в состоянии сразу преодолеть эти традиции, центральное правительство узаконило их в выданных монастырям грамотах»{1389}. Не отрицая того, что факторы, указанные С. М. Каштановым, в какой-то мере воздействовали, по всему вероятию, на иммунитетную политику «центрального правительства», зададимся все же вопросом, насколько желанным по сути было для «центрального правительства» Елены Глинской ограничение податного иммунитета монастырей, т. е. ущемление прав субъекта строительства «Святорусского царства». Не являлась ли политика правительства Елены Глинской в этой области прямым продолжением политики Василия III, твердой рукой развернувшего государство на сближение и конечное соединение с церковью? Как бы то ни было, не подлежит сомнению одно: при великом князе Василии III и в период правления Елены Глинской наблюдается рост церковно-монастырского землевладения{1390}, свидетельствующий о сближении, скажем больше, — о переплетении интересов православной церкви и русского государства. Правда, в исторической литературе высказывалось мнение, будто в правление Елены Глинской «сделано было несколько замечательных распоряжений в ущерб землевладельческим правам духовенства. Так, в 1535 году подтверждено запрещение монастырям покупать и брать в заклад или по душам вотчинные земли служилых людей, без ведома правительства. В следующем году у новгородских церквей и монастырей еще раз отобрано в казну довольно значительное количество земель, именно — все подгородние пожни»{1391}. Это мнение, принадлежащее А. С. Павлову, основано на двух свидетельствах источников. Первое свидетельство заключено в грамоте, данной в 1535 году вологодскому Глушецкому монастырю. А. С. Павлов полагает, что названная грамота составлена в соответствии с общей законодательной мерой, «которая касалась всех монастырей»{1392}. «В нашем государстве, — говорит великокняжеская грамота, — покупают к монастырям у детей боярских вотчины многие, села и деревни, да и в заклад и в закуп монастыри вотчины емлют; а покупают деи вотчины дорого, а вотчинники деи, которые тем землям вотчичи, с опришными перекупаются, и мимо монастырей вотчин никому ни у кого купити не мочно. А иные дети боярские вотчины свои в монастыри подавали по душе того для, чтобы их вотчины ближайшему роду не достались». Констатировав это явно ненормальное и, конечно же, нетерпимое положение, государь предписал: «И будете купили вотчины у детей у боярских или в заклад или в закуп взяли, или будут которые дети боярские вотчины свои подавали вам в монастырь по душе своей до сей нашей грамоты, за год или за два, и ты б богомолец нашь игумен Феодосии с братиею прислали ко дьяку нашему к Феодору Мишурину, что естя до сей нашей грамоты за год или за два в Глушицкий монастырь покупили вотчин у детей боярских, или в заклад или в закуп или по душе взяли, и сколько в котором естя городе у которых детей у боярских вотчин купили, или в заклад или в закуп или по душе взяли, и сколько в которой вотчине сел и деревень и починков, и что в них дворов и людей и пашни в одном поле, а в дву потомуж, и что сена и лесу и всяких угодей. А впредь бы есте, без нашего ведома, однолично вотчин не купили и в заклад и в закуп и по душе не взяли ни у кого. А учнете без нашего ведома вотчины купити, или в заклад или в закуп или по душе имати, и мне у вас те вотчины велети отписывати на себя»{1393}. Из приведенного текста явствует, что никакой «общей законодательной меры», запрещающей описанные в грамоте земельные операции, на момент ее составления не было. В противном случае земли, приобретенные монастырем указанным в грамоте образом, государь отписал бы на себя. Но он этого не сделал, отнеся санкцию на будущее и объявив ее основанием выданную монастырю грамоту, а не «общую законодательную меру». Тон грамоты, вполне благожелательный по отношению к государеву богомольцу игумену Феодосию с братией, вместе с тем исполнен обоснованной тревоги, вызванной бесконтрольным оборотом вотчинных земель детей боярских, в чем, как явствует из грамоты, повинны обе стороны: и дети боярские, стремящиеся сорвать куш на продаже земель или по каким-то соображениям не Хотящие, чтобы их вотчины достались «ближайшему роду», и монастыри, намеренно предлагающие столь высокие цены на землю, что «мимо монастырей вотчин никому ни у кого купити не мочно». По-видимому, такого рода практика получила широкое распространение, и московское правительство не только не наладило контроль над ней, но даже не имело касательно ее конкретных сведений, необходимых для реальной оценки ситуации. Все это отнюдь не способствовало укреплению военной организации страны и требовало вмешательства со стороны государственной власти. Дело было начато с того, с чего и нужно было начать: со сбора информации о совершенных за последние два года земельных операциях детей боярских с монастырями, включая данные о каждом объекте сделки (селе, деревне, починке) с указанием количества дворов и людей, размеров пашни, количества сенных, лесных и прочих угодий, а также с установления наблюдения за этими операциями в будущем («а впредь бы есте без нашего ведома однолично вотчин не купили и в заклад и в закуп и по душе не имали ни у кого»). Вряд ли это замышлялось «в ущерб землевладельческим правам духовенства», как считал в свое время А. С. Павлов. Ибо требование вершить поземельные акты не «однолично», а с ведома представителей власти, затрагивало не только покупателей и получателей или монастыри, но также продавцов и дарителей — детей боярских. Поэтому с тем же успехом можно утверждать, что распоряжения, о которых идет речь, были приняты «в ущерб землевладельческим правам» детей боярских, коим вменено теперь в обязанность распоряжаться своими вотчинами только с уведомления властей. Однако, по нашему глубокому убеждению, рассматриваемая грамота не содержит данных, позволяющих заключить об ущербе землевладельческих прав духовенства, об их ущемлении или ограничении, предпринятых государством. Если и можно, исходя из нее, говорить о государственной политике в поземельном вопросе, то лишь в смысле упорядочения земельных сделок и пресечения всякого рода ухищрений на этой почве. Второе свидетельство, характеризующее «состояние вопроса о церковных и монастырских вотчинах» в годы правления Елены Глинской, А. С. Павлов находит в известиях новгородского летописца, который под 1536 годом сообщает: «…прислал государь князь велики Иван Васильевичь всея Руси с Москвы своего сына боярского и конюха Бунду да подъячего Ивана, а повеле пожни у всех монастырей отняти, отписати около всего града и у церквей Божьих во всем граде, и давати их въ бразгу, что которая пожня стоит, тем же монастырем и церковником; а се учинилося по оклеветанию некоего безумна человека»{1394}. Иван Васильевич, как видим, отписал на себя, т. е. конфисковал, пригородные пожни, принадлежавшие новгородским монастырям и церквам. При этом он лишил полностью духовных владельцев взятых у них угодий, но дал им отнятые земли в празгу, т. е. в пользование за плату{1395}, определяемую тем, «что которая пожня стоит». Не думаем, чтобы данный случай свидетельствовал о политике секуляризации недвижимых имуществ церкви, проводимой правительством Елены Глинской, поскольку он произошел вследствие особых обстоятельств: «по оклеветанию некоего безумна человека». Приходится только сожалеть, что нам осталось неизвестным, в чем состояло это «оклеветание». Время боярского правления, наступившее после смерти великий княгини Елены Глинской в апреле 1538 года и продолжавшееся до венчания Ивана IV на царство в январе 1547 года, нередко воспринимается новейшими историками как проявление княжеско-боярской реакции, как возврат к удельным порядкам, застопоривший процесс централизации Русского государства. Эти ощущения не лишены известных преувеличений, поскольку боярское правление с присущей ему ожесточенной борьбой группировок бояр за власть не привело, по замечанию Р. Г. Скрынникова, «к распаду единого государства» и не сопровождалось «феодальной анархией» или «массовыми репрессиями», став, однако, «временем экономического процветания страны»{1396}. По достоинству должен быть оценен и тот факт, что именно в период боярского правления было подготовлено и, можно сказать, осуществлено (разумеется, не без противодействия определенных политических сил) венчание на царство Ивана IV, знаменовавшее важнейший этап формирования Русского самодержавного государства. С учетом данных обстоятельств надлежит, на наш взгляд, рассматривать политику бояр-правителей в земельном вопросе, связанном с церковью и монастырями. И уж никак нельзя согласиться с тем, что «своеволие боярщины (1538–1547) пошло» так, что, «захватывая себе дворцовые села и волости, бояре щедро раздавали их духовенству (монастырям и владыкам)»{1397}. Подобный упрощенный подход, на наш взгляд, неприемлем. Как убедительно показал С. М. Каштанов, «время боярского правления представляет собой период самой интенсивной выдачи грамот с иммунитетными привилегиями в первой половине XVI в. За этот сравнительно небольшой хронологический отрезок (11 лет) великокняжеское правительство составило… 222 жалованные и 56 указных грамот»{1398}. Требует, впрочем, некоторых оговорок причина, выдвигаемая С. М. Каштановым для объяснения предоставления духовным учреждениям этих привилегий. По мнению исследователя, в годы боярского правления «незавершенность процесса создания централизованного государства оставалась характерной чертой развития России. Вот почему реальной оказалась в 1538–1548 гг. возможность увеличения иммунитета ряда духовных корпораций, в чьей поддержке нуждались боярские группировки, неуверенно чувствовавшие себя у руля государственной машины»{1399}. Заключая свою книгу, С. М. Каштанов формулирует мысль о связи «возможности увеличения иммунитета духовных корпораций» с незавершенностью процесса централизации государства в качестве общего принципа, определяющего суть вопроса: «В XVI в. процесс образования сословного строя находился на ранней стадии, когда прежний иммунитет различных землевладельцев и корпораций еще не мог превратиться в общесословное право. В развитии иммунитетной политики побеждали поэтому то тенденции, предвосхищающие абсолютизм (унификация и строгое ограничение иммунитета), то другая линия, которая была обусловлена сохранением экономической раздробленности страны и незавершенностью процесса политической централизации»{1400}. Вряд ли иммунитетные пожалования духовенству находились в жесткой зависимости от степени централизации Русского государства. Будь иначе, мы, наверное, наблюдали бы свертывание иммунитетов по мере усиления государственной централизации на Руси. Однако в жизни было иначе. Так, после реформ 50-х годов XVI века, заметно продвинувших Россию по пути централизации, в 60–70-е годы происходит расширение иммунитетных прав, жалуемых церкви и монастырям, что, кстати, отмечает и сам С. М. Каштанов{1401}. Может показаться парадоксальным утверждение, что иммунитеты, порожденные эпохой политической раздробленности и бывшие опорой ее, к середине XVI века стали отчасти инструментом государственной централизации, превратившись в льготы и привилегии, даруемые или изымаемые из центра власти, каковым выступала Москва. Поэтому расширение практики освобождения от налогов и земельных пожалований церковным учреждениям, наблюдаемое в годы боярского правления, не следует истолковывать как уступку политике государственной децентрализации, олицетворяемой иммунистами. Совсем напротив. Ведь, к примеру, Шуйские или Бельские, «неуверенно чувствовавшие себя у руля государственной машины» и потому нуждавшиеся в поддержке крупных и влиятельных духовных корпораций (С. М. Каштанов{1402}), не сидели в удельных гнездах, а пребывали в Москве — столице государства, куда сходились нити управления всей страной. Они не распыляли власть по уделам, а концентрировали ее в Москве, держали власть в своих руках, опираясь на помощь этих корпораций. Не случайно Р. Г. Скрынников, распространяющий боярское правление и на годы регентства Елены Глинской, счел необходимым подчеркнуть, что в ту пору «были ликвидированы два крупнейших в стране удельных княжества — Дмитровское и Старицкое»{1403}. Показательно и то, что Иван Грозный, пуская гневные стрелы в бояр, правивших государством во время его малолетства, обвинял их главным образом не столько в рассеянии центральной власти, сколько в сосредоточении этой власти в своих руках и пренебрежительном отношении к ее подлинному носителю — московскому великому князю. Говоря о Шуйских, он прибегает к довольно любопытному словоупотреблению: «И тако князь Василей и князь Иван Шуйские самовольством у меня в бережении учинилися, и тако вацаришася»{1404}; «и тако свое хотение во всем учиниша, и сами убо царствовати начата»{1405}. По Грозному, следовательно, Шуйские узурпировали государеву власть, не суживая при этом ее пределы и не делясь ею ни с кем. К тому же стремились, надо полагать, и соперники Шуйских. Борьба боярских группировок за преобладание и власть, развернувшаяся в годы малолетства Ивана IV, привела к ряду негативных последствий, в том числе и к временному прекращению служебной функции московского государя как Удерживающего{1406}. В результате мы видим новое оживление ереси, разгромленной и загнанной в подполье великим князем Василием III и митрополитом Даниилом. Еретики в очередной раз проникли в святая святых Русии — московский Кремль — и приобрели большое влияние на верховного правителя. Произошло это вследствие государственного переворота, осуществленного в июне 1547 года, когда к власти пришли лица, образовавшие вскоре группу царских советников во главе с попом Сильвестром и костромским дворянином Алексеем Адашевым, ставшую именоваться Избранной Радой. Среди людей, входивших в Избранную Раду, были, по-видимому, те, кто принадлежал к еретикам или же сочувствовал им. В некотором роде повторялась ситуация, которую нам пришлось наблюдать при дворе Ивана III, где сторонники «ереси жидовствующих» занимали прочные позиции. Именно приходом к власти в конце 40-х гг. XVI века, если не еретиков, то, по крайней мере, сочувствующих и покровительствующих им деятелей, следует, на наш взгляд, объяснять ужесточение политики государства в отношении церковного, прежде всего, монастырского землевладения, а не переменной победой двух тенденций: то предвосхищавшей абсолютизм (унификация и строгое ограничение иммунитета), то сохранявшей старый строй жизни (экономическая раздробленность страны и незавершенность процесса политической централизации). Иными словами, решающую роль здесь играл субъективный фактор, хотя и действующий в условиях объективных тенденций. * * *Окинув взором реформы конца 40-х — начала 50-х годов XVI века, А. А. Зимин убедился в том, что они «проводились в известной мере за счет ущемления интересов церкви»{1407}. Однако наступление на церковь началось не сразу после известных событий июня 1547 года. Несмотря на то, что к власти пришли люди с нестяжательскими взглядами, родственными еретическим, практика иммунитетных пожалований и раздачи земель монастырям пока продолжалась{1408}. Новым властителям, по всей видимости, надо было укрепить свои позиции. Как только это было сделано, они повели атаку на земельную собственность монастырей, причем, разумеется, под благовидным предлогом забот о российской государственности и служилом воинстве. К 1548–1549 гг. относятся первые попытки нового правительства ревизии тарханов{1409}. Но, как полагает С. М. Каштанов, систематическая борьба с финансовыми льготами и привилегиями «крупных феодалов» (т. е. церкви и монастырей) началась после февральского собора 1549 года, когда полностью, можно сказать, сформировалось правительство Сильвестра — Адашева{1410}. По словам исследователя, «в 1549–1551 гг., с приходом к власти Адашева и Сильвестра, практика предоставления монастырям жалованных грамот заметно ослабевает»{1411}. В целом «земельная политика Адашева и Сильвестра не благоприятствовала росту монастырского землевладения»{1412}. Новая политика правительства сопровождалась идейным столкновением сторон, представляющим для современного исследователя большой интерес. Она вовлекла в свой круговорот большое число людей, самых разнообразных по индивидуальным способностям и общественному положению. Среди них, по мысли исследователей, встречаются признанные интеллектуалы вроде Максима Грека, высокопоставленные и рядовые монахи. В полемику был вовлечен даже митрополит Макарий. Не остался равнодушным к ней и сам царь Иван IV. Согласно А. С. Павлову, «в самом начале самостоятельного правления Ивана IV старец Максим послал к нему через Адашева 27 «поучительных глав» о государственном управлении», где содержалась «жалоба на то, что «все имущества, данные благочестивыми царями и князьями святым божиим церквам, архиереи обращают на свои излишние потребы и житейские устроения: сами они живут в полном довольстве, роскошно питаясь и обогащая своих сродников, а нищие Христовы, погибающие от голода, наготы и болезней, совершенно ими позабыты». Юному государю внушается обязанность «исправлять такие священнические недостатки, по примеру великих царей Константина, Феодосия и Юстиниана». Хотя вскользь, затронуто и монашество: «Мы всю надежду спасения полагаем на том, чтобы в постные дни воздерживаться от мяса, рыбы и масла, но не перестаем обижать бедных крестьян и разорять их своим лихоимством и сутяжничеством»{1413}. По А. С. Павлову, «влияние этих наставлений на молодую и впечатлительную душу Ивана IV несомненно — тем более, что в числе друзей и почитателей Максима находились такие лица, как известные временщики, священник Сильвестр и Адашев, которых царь приблизил к себе «на помощь душе своей»{1414}. Мы не знаем, насколько глубоко западали в душу царя Ивана подобные наставления. Но, несомненно, Сильвестр и Адашев старались тут что есть мочи. Не исключено и то, что они также инициировали написание полемических сочинений, направленных против монастырского землевладения. Во всяком случае, согласно П. Н. Милюкову, святогорец Максим подавал свой голос государю «по призыву Сильвестра и Адашева»{1415}. Затевалось это с целью «идеологической» подготовки к Стоглавому собору, с которой, кстати сказать, Г. Н. Моисеева связывает упомянутую только что пересылку Максимом Греком своей «тетратки» царю Ивану{1416}. Незадолго перед Стоглавым собором тоже, по-видимому, в плане идейного приготовления к нему Ивану «говорил и писал» известный старец Артемий, еретик и нестяжатель, бывший короткое время игуменом Троице-Сергиева монастыря{1417}. Он убеждал государя «села отнимати у манастырей»{1418}. Тесно связанный с попом Сильвестром, а через него — с Алексеем Адашевым и другими деятелями Избранной Рады (например, с А. М. Курбским){1419}, Артемий, очень могло статься, действовал по наущению Сильвестра и Адашева{1420}. Но, когда над ним во время суда над еретиками нависла угроза расправы, он стал отрекаться от того, что внушал государю письменно и устно. «А все ныне съгласно враждуют, — оправдывался Артемий, обращаясь к царю, — будтось аз говорил и писал тебе — села отнимати у монастырей… а не говаривал семи о том, ни тобе ли советую нужением и властию творити что таково. Разве межи себя говорили есмо, как писано в книгах быти иноком»{1421}. Артемий, отводя от себя обвинение в том, будто он призывал государя «села отнимати у манастырей», свидетельствует тем самым не только о чрезвычайной остроте в середине XVI века проблемы монастырского землевладения, но и о том, что всякие рассуждения на сей счет стали опасными и, следовательно, план секуляризации церковных земель, вынашиваемый Избранной Радой и ее сторонниками, не состоялся, но вызвал большое возбуждение общественной мысли. * * *Одним из ярких памятников полемики вокруг монастырских «стяжаний», развернувшейся накануне Стоглавого собора, является «Валаамская беседа» («Беседа Валаамских чудотворцев Сергия и Германа»), принадлежащая, по верному замечанию И. И. Смирнова, к числу самых известных, но «вместе с тем наименее ясных публицистических произведений XVI в.»{1422}. Вот почему, замечает И. И. Смирнов, «довольно богатая литература о «Беседе» характеризуется удивительным отсутствием единства во взглядах на этот памятник и столь же бросающейся в глаза шаткостью представленных точек зрения, и по вопросу об авторе «Беседы», и по вопросу о хронологии, да и по самому вопросу о политической физиономии этого публицистического произведения»{1423}. Очень широк спектр мнений относительно датировки «Валаамской беседы»: начало XVI века{1424}, 30-е годы XVI века{1425}, середина XVI века{1426}, после 1550 года{1427}, 60-е годы XVI века{1428}, конец XVI — начало XVII века{1429}. Не менее разноречивы суждения исследователей об авторстве «Валаамской беседы». Высказывалось предположение, что она вышла из монашеской среды, причем сочинил ее, по догадке одних ученых, «постриженик из бояр»{1430}, а по мнению других — «рядовой монах»{1431}. Существуют мнения о боярском{1432} (или околобоярском{1433}), дворянском{1434} и даже крестьянском{1435} происхождении «Беседы». Понимая важность вопроса о том, из каких социальных кругов вышла «Валаамская беседа», мы все же первостепенное значение придаем политической ее направленности. И здесь весьма существенным представляется подход П. Н. Милюкова к этому произведению как документу «московских конституционалистов XVI в.», отразившему программу партии «молодых реформаторов», возглавлявших Избранную Раду{1436}. Столь же важным нам кажется наблюдение П. Н. Милюкова насчет «программы вопросов», заложенной в «Валаамской беседе». «На первом плане, — пишет он, — стоял здесь вопрос о монастырских имуществах, за ним тотчас возникал другой, не менее серьезный для государства вопрос о форме вознаграждения за военную службу, то есть о служилых землях. С монастырской собственностью связан был <…> вопрос о правах и о внутренней дисциплине духовенства» и т. д.{1437} «Из других источников, — продолжает П. Н. Милюков, — мы знаем, что только что очерченный на основании «Валаамской беседы» круг вопросов сильно занимал «избранную раду» Ивана IV накануне созыва соборов»{1438}. Сходным образом рассуждает Г. Н. Моисеева: «Целый комплекс идей связывает это произведение с новым этапом борьбы за землю в период конца 40 — начала 50-х годов XVI в. — период деятельности «Избранной рады», подготовки и проведения Стоглавого собора 1551 г.»{1439}. Можно полагать, что «Валаамская беседа» возникла в атмосфере ожесточенных споров о церковных недвижимых имениях в качестве подготовки к Стоглавому собору, на который партия Сильвестра — Адашева возлагала большие надежды, связанные с реализацией выдвинутого Избранной Радой проекта секуляризации монастырских земель. Однако было бы ошибочно, как нам думается, сводить главное содержание «Беседы» к полемике против монастырских вотчин, как это нередко делается исследователями{1440}. Это лишь часть задачи, поставленной перед собой анонимным автором «Валаамской беседы», что, впрочем, не означает, будто «церковные споры нестяжателей и иосифлян здесь отодвинуты на задний план, а на первое место выдвинуты вопросы государственного устройства»{1441}. Если брать эту задачу в полном объеме, то она, по нашему убеждению, состояла в попытке нанести удар по русской церкви в целом, по ее экономическим и политическим основам, заодно бросив тень на официальную религию, исповедуемую православным людом. То была идеологическая акция, бьющая по самому церковно-государственному фундаменту Святорусского царства. Во избежание упреков в голословности, обратимся непосредственно к тексту памятника. Прежде всего, не надо обманываться словами автора «Беседы» о том, будто он сочинение свое «спроста написавше простою своею и неученою речию»{1442}. Перед нами простота, которая, как говорится, хуже воровства. К сожалению, это не поняли некоторые ученые. Так, издатели «Валаамской беседы» В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов замечали, что «простота и неученость автора бросаются в глаза и без его признания»{1443}. По Г. П. Бельченко, «автор Беседы — простой, неученый человек, в чем он и сам признается»{1444}. К тому же склоняется и И. У. Будовниц, заявляя, будто автор «Валаамской беседы» «был слишком груб, прост, неотесан и мало начитан в священных книгах. Он сам признает, что написал «Беседу» «спроста… простою своей и неученою речью»{1445}. Правда, чуть ниже И. У. Будовниц несколько отступает от этой аттестации автора «Беседы». Полемизируя с И. И. Смирновым, насчитавшим в «Беседе Валаамских чудотворцев» свыше 60 упоминаний о мире (в том числе о черной волости) и пришедшим к выводу о крестьянской принадлежности ее автора, И. У. Будовниц пишет: «Не имеет особого значения и то, что автор более 60 раз говорит о мире, поскольку и прочие свои положения он повторяет десятки раз. В этом сказывается либо его «простота и неученая речь», либо же мы имеем тут дело с извечным пропагандистским приемом — вдалбливать в головы людям свои тезисы путем бесконечного их повторения»{1446}. Уничижительные слова автора «Беседы» о самом себе есть тоже прием, а точнее сказать, «этикетная формула» (трафарет), применявшаяся в средневековой русской литературе{1447}. Не всегда, однако, это учитывается исследователями, которые «делают ответственные выводы, рассматривая «этикетную формулу» средневековых произведений как индивидуальную особенность памятника». Д. М. Буланин, чье суждение мы привели, далее говорит: «Неверной или, во всяком случае, не совсем верной оказывается характеристика рассмотренной «этикетной формулы» как «самоуничижительного» заявления автора, характеристика, широко распространенная в научной литературе»{1448}. Данная характеристика затронула, как видим, и составителя «Валаамской беседы». Но в действительности он не так прост, как старается это представить читателю. Его повествование представляет собою хитросплетение религиозных, политических и, если можно так сказать, экономических идей, за которым угадывается целая программа партии, оппозиционной церковно-государственному строю Русии середины XVI века{1449}. То была, несомненно, партия Сильвестра — Адашева, собравшая под свои знамена реформаторов, задумавших перестроить Россию на западный манер. Что касается непосредственно самого автора «Валаамской беседы», то его главным образом занимают три основных вопроса, относящихся к вере, собственности и власти. Весьма примечательны слова, содержащиеся в преамбуле «Беседы»: «Сице обличение на еретики и на неверныя вся, победа и одоление на царевы враги и попрание на вся премудрости их. Беседа и видение преподобных отец наших, игуменов Сергия и Германа Валамского монастыря началников, иноков, о Бозе на болшее спасение»{1450}. Во Второй редакции «Беседы» связность текста выражена более ясно: «Сице обличение на еретики и на неверныя, победа и одоление на враги царевы, и видение, и попрание на вся премудрости их. Беседа и видение преподобных отец наших, игуменов Сергия и Германа, Валамского монастыря началников, иноков, о Бозе на болшое спасение»{1451}. Собственное намерение сочинитель «Беседы», следовательно, не скрывает, сразу заявляя, что собирается обличать еретиков и неверных, одолеть и победить «враги царевы», поправ «вся премудрости их». Он, таким образом, разводит царя с теми, кого хочет обличать и ниспровергать, старается вбить клин между ними, чтобы привлечь его на свою сторону и сделать орудием своей политики. Перед нами прием, практиковавшийся «реформаторами» со времен Ивана III и успешно применявшийся некоторое время Избранной Радой во главе с Адашевым и Сильвестром. По этой детали можно догадаться, к какому лагерю принадлежал автор «Валаамской беседы» или, во всяком случае, чьи интересы отстаивал. Ситуация еще больше проясняется, когда происходит персонификация еретиков, неверных и врагов царя. «Не погребенные мертвецы», т. е. иноки, — вот кто они. Автор «Беседы» — лютый ненавистник монашеского владения вотчинами, волостями и селами. С маниакальным упорством твердит он так и этак об одном и том же: «а вотчин и волостей со христианы отнюдь иноком не подобает давати»{1452}; «обители и храмы устроили святии отцы на спасение роду человеческому, а не на высокоумство и не на величество иноком, ниже волостем за монастыри быти»{1453}; «а волостей со христианы за монастыри не залучали, а того бы бегали»{1454}; «а иноческая бесконечная погибель, что иноком волости владети»{1455}; «при последнем времен иноком невозможно спастися будет, отнюдь невозможно, что иноки возлюбят пиянство, блуд, нечистоту, свирепьство и немилосердьство, и волости со христианы, и вся неподобная мира сего»{1456}; «а ныне мы, окаяннии (иноки. — И.Ф.), тем себя высим и исправляем, и превозносим превыше дел своих своим малодушием, под собою имеем волости со християны и над ними властвуем, немилосердство и злобу показуем и всякую неправду»{1457}; «иноков от всего суетнаго и мирскаго отставити, отнюдь отставити, волостей со християны не давати»{1458}. Все эти восклицания преследуют одну цель: опорочить русское монашество, погрязшее якобы в «злокозньстве». Однако составитель «Валаамской беседы» идет еще дальше, замахиваясь не только на иноческое, но и священническое житие, т. е. на духовенство Руси в целом. Не зря в преамбуле «Беседы» говорится: «Аггельское житие на небесех свет показует, а священническое и иноческое житие доброе и образ их на земли верным человеком свет являет»{1459}. Но «увы нам грешным, увы», ибо в жизни все по-другому: «Вопиет к Богу грех священнический и иноческий»{1460}. Грех священнический и даже святительский заключается в том, что священники и святители, подобно инокам, владеют волостями «со христианы», окунаясь в мирские дела, тогда как им надобно «пещись» «о законе и благоверии и о спасении мира всего с царевы небесной грозы»{1461}. Необходимо, впрочем, заметить, что термин иноки употребляется автором «Беседы», судя по всему, не только для обозначения монахов в прямом смысле слова как членов монастырских корпораций. Под этим термином он, похоже, подразумевает и представителей высшей церковной иерархии, которые в силу своего положения также являлись монахами. Тогда понятно, почему иноки выступают у него в качестве владельцев не только вотчин или волостей с селами, но и городов{1462}, почему в их руках сосредоточена большая власть, пользуясь которой они творят суд и расправу: правят волостями, судят мирских людей, посылают «по християном приставом ездити» и велят «на поруки их давати»{1463}. Составитель «Беседы» пытается бросить тень на святителей православной церкви, подавая двусмысленный совет «избирати на святительскую власть крепко и подлино ведущих иноков на всякую добродетель, и ставити их на таковой чин не по дружбе, ниже по посулам, но истинно по правде, нелицемерных постников и к Богу подвижников»{1464}. Во второй редакции «Беседы» посулы заменены мздой, а к фразе и к Богу подвижников добавлено и к миру добродетельных же{1465}. Этот «совет», имеющий явный подтекст, отнюдь не содействовал поддержанию авторитета высших чинов (митрополита, архиепископов и епископов) русской церкви, зароняя червь сомнения относительно чистоты российского святительства и тем самым отвращая паству от священнослужителей. Но, судя по всему, то была частная задача автора «Беседы». Требуя ограничить святительскую власть только заботами о «законе, благоверии и спасении всего мира», он, в сущности, ревизует учение о теократическом государстве, в котором церковные и государственные институты находятся в органическом единстве, переплетаясь друг с другом, отвергает построение Святорусского царства, где церковь является своего рода продолжением государства и наоборот. У него принципиально иная позиция, утверждающая идею разделения светской и духовной властей. Другой строй власти, уверяет составитель «Беседы», не от Бога: «Аще где в мире будет власть иноческая, а не царских воевод, ту милости Божия несть. Таковые властвующия иноки не богомолцы, но гневители. Горе иноком, возлюбившим мир и яже в нем! Горе иноком, возлюбившим суету света сего и не сохраншим заповедей иночества и умершим не в покаянии царскою простотою! Всем владети уставлено и повелено заповедати о всем царем и его в мире везде властем мирским владети, а не святительскому, ниже священническому и иноческому чину…»{1466}. Перед нами текст Первоначальной редакции «Валаамской беседы». Во Второй редакции концовка приведенного фрагмента «Беседы» выглядит несколько иначе и, на наш взгляд, более соответствует протографу: «Всем владети и уставлено и повелено заповедати о всем царем и его в мире и везде властем мирским владети, а не святителскому чину…»{1467}. Здесь отсутствует упоминание о «священническом и иноческом чине», а говорится лишь о «святительском чине», что лучше согласуется с примыкающим текстом (причем обеих редакций), в котором фигурирует только «святительская власть»{1468}. Признав правильным данное наблюдение, мы должны констатировать выпад автора «Валаамской беседы», направленный против митрополита Макария, чья власть и влияние на царя Ивана IV, поколебленные было группой Сильвестра — Адашева после известных событий 1547 года, стали в самом конце 40-х — начале 50-х гг. постепенно восстанавливаться вновь. Начало опять усиливаться и тесное сотрудничество церкви с государством, не входившее в планы реформаторов. Именно в контексте этих событий раскрывается пафос «Валаамской беседы». Приобретает ясность и то, по какой конечной цели бил ее сочинитель. Он бил, как сейчас говорят, по штабам: по русской православной церкви и государству. Чтобы представить, насколько то было опасно, необходимо вспомнить религиозно-политическую ситуацию, сложившуюся тогда в стране. Середина XVI века — время нового оживления еретических движений на Руси. В такие моменты особенно важен вразумляющий глас пастырей, оберегающих от еретических соблазнов врученное им Богом стадо. И вот в час испытаний церкви, когда пастырское слово приобретает великое значение, появляется в публицистике сочинение, возбуждающее если не сомнения, то, по крайней мере, вопросы насчет добропорядочности поставляемых в святители людей и честности самой процедуры поставления. Трудно назвать это иначе, нежели враждебной акцией против высших церковных иерархов и лично митрополита Макария, а значит — против православной церкви и государства. Исходила она, по всему вероятию, либо из еретической среды, либо из кругов, сочувствующих еретикам. Понятно, что решиться на такую акцию можно было лишь при условии, когда у власти находились лица или покровительствующие еретикам, или настроенные оппозиционно по отношению к святоотеческой православной вере, апостольской церкви и самодержавному государству, или то и другое вместе. Именно таких лиц, сплотившихся вокруг Сильвестра и Адашева, мы видим у кормила власти в середине XVI века. Их поддержкой, видимо, пользовался анонимный автор «Валаамской беседы», не стеснявшийся в полемических приемах, называя белое черным, сваливая с больной головы на здоровую. Кстати сказать, обычно так поступали еретики, поднаторевшие в вековых спорах с христианами. В «Беседе» есть одно любопытное место, содержащее такого сорта авторский прием: «Ведомо буди о сем и известно миру всему спроста объявихом: то есть, возлюбленная братия, от беса противо новыя благодати — новая ересь, что иноком волости со христианы владети…»{1469}. Иноки, владеющие «волостями со христианы», названы в «Беседе» иконоборцами: «Таковые иноки труды своими питатися не хотят, накупаются на мирския слезы и хотят быти сыты от царя по их ложному челобитию. Таковые иноки не богомолцы, но иконоборцы»{1470}. Здесь, как и в других случаях, слово иноки не замыкается непосредственно на монашеской братии. Оно подразумевает (особенно в первой цитате), помимо монахов как таковых, иноков и несравненно более высокого ранга — святителей, т. е. высшее духовенство, имевшее вотчины, волости и села, а стало быть — церковь. Согласно автору «Беседы», «новая благодать» — это «еуаггелская благодать», т. е. Евангелие{1471}. Следовательно, не по Евангелию живут владельцы волостей «со христианы», но по «ветхой лже», или Ветхому Завету. Больше того, как утверждается в «Беседе», они идут наперекор «новой благодати», исполняя волю «беса», «лукаваго врага диявола». Умышленные приписки, подтасовки и вставки — вот их аргументы, обосновывающие право владения селами и волостями: «А сего царие не ведают и не внимают, что мнози книжницы во иноцех по диявольскому наносному умышлению из святых божественных книгах и из преподобных жития выписывают, и выкрадывают из книг подлинное преподобных и святых отец писание, и на тож место в теж книгах приписывают лучьшая и полезная себе, носят на соборы во свидетельство, будьтося подлинное святых отец писание»{1472}. Не исключено, что эти слова явились откликом автора «Валаамской беседы» на ответ митрополита Макария царю Ивану IV «О недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных», основанный на божественных правилах «святых апостол и святых отець седми собор, и поместных, и особь сущих святых отець, и от заповедей святых православных царей». Однако вместе с тем необходимо заметить, что перед нами расхожие, дезавуирующие доказательства иосифлян, доводы, которые пускали в ход противники монастырских стяжаний, например старец-князь Вассиан Косой Патрикеев, обвинявший Иосифа Волоцкого и его сторонников в нарушении евангельских заповедей и забвении святоотеческих преданий{1473}. Разница, правда, в том, что нестяжатели типа Вассиана обличали главным образом неправедные дела монахов, хотя осуждали и богатства церкви и роскошь ее иерархов. Безымянный же автор делает новый шаг, подвергая резкой критике иночество, священничество и святительство, т. е. в целом духовенство (= церковь), причем обвиняет его в еретичестве и как следствие того — в приверженности «ветхой лже», т. е. Ветхому Завету. Тут все поставлено с ног на голову, исполнено глубокой вражды к русской церкви и ее священнослужителям. Автор «Беседы», разумея, по-видимому, на какой скользкий и гибельный для себя путь он стал, старается замазать эту враждебность, призывая поклоняться «праведному и страшному царю небесному» Господу Богу и Спасу Иисусу Христу, Пречистой Богородице и всем святым, чтить «новую благодать» Евангелия и «апостольскую проповедь», не поддаваться «на прелестную незаконную нам латынскую и многих вер веру», «стояти противо врагов креста Христова крепко и неподвижно»{1474}. Все эти призывы служили, по нашему мнению, только для отвода глаз. Главное же состояло в том, что анонимный (не случайно!) автор «Валаамской беседы» нанес удар в самое сердце русского православия, объявив еретической нашу апостольскую церковь и ее служителей в сложной и напряженной обстановке нового оживления еретических учений на Руси середины XVI века. Чтобы решиться на такую дерзость, надо было иметь покровителей на самом верху власти. Своеобразной завесой сочинителю «Беседы» служили также его рассуждения насчет человеческого самовольства, связанного с проблемой самовластия души, обсуждаемой в среде еретиков и вольнодумцев еще со времен Федора Курицына. Можно подумать, что ему чужда мысль об этом самовольстве (самовластии). «Мнози убо глаголют в мире, — говорит он, — яко самоволна человека сотворил есть Бог на сей свет. Аще бы самовластна человека сотворил Бог на сей свет, и он бы не уставил царей и великих князей и прочих властей, и не разделил бы орды от орды. Сотворил Бог благоверныя цари и великия князи и прочий власти на воздержание мира сего для спасения душ наших. Аще в мире о сем всегоднем посту не царская всегодная гроза, ино в волях своих не каются по вся годы, ниже послушают попов»{1475}. П. Н. Милюков полагал, что данное возражение «направлено прямо по адресу Пересветова»{1476}. Едва ли это так, хотя бы потому, что у Ивана Пересветова (если, разумеется, относить к его творчеству «Сказание о Петре, воеводе Волосском») о самовластии человека речь идет в другом ключе, чем у составителя «Валаамской беседы». В «Сказании» читаем: «Итак рек волосский воевода: «Господь Бог милосерд надо всею вселенною искупил нас кровию своею от работы вражия; мы же приемлем создание владычне, такова же человека в работу и записываем их своими во веки, а те от бедностей и от обид в работу придаются и прелщаются на ризное украшение; и те оба, приемлющий и дающий, душею и телом перед Богом погибают во веки, занеже Бог сотворил человека самовластна и самому себе повеле быть владыкою, а не рабом»{1477}. Как видим, позиции автора «Валаамской беседы» и Пересветова отчасти совпадают, но отчасти и разнятся. Оба писателя в своих рассуждениях о самовластии человека сходят с религиозно-философской почвы, на которой изначально возникла данная проблема. Но, как говорит восточная мудрость, стоя на одном ковре, они смотрят в разные стороны: первый обращен к явлениям политическим{1478}, а второй — социальным. И конечно, нельзя не заметить того, что сочинитель «Валаамской беседы» отрицает идею о самовластном человеке, а Пересветов, напротив, признает ее. Однако это не означает, что это отрицание «направлено прямо по адресу Пересветова». По-видимому, надо согласиться с А. И. Клибановым, когда он говорит: «Вопрос о самовластии, будучи вопросом о свободе, задевал коренные интересы общества. Этим объясняется, что вопрос этот составлял одну из тем русской религиозной и светской публицистики конца XV и всего XVI в.»{1479}. Не являются здесь исключениями «Валаамская беседа» и «Сказание о Петре, воеводе Волосском». Следует далее признать еще и то, что автор «Беседы» перевел вопрос о самовластии души (человека) из богословско-философской области в политическую плоскость не случайно, а с определенным умыслом, чтобы еще раз вернуться к сюжету о сотворении и об установлении Богом правителей (царей, великих князей и пр.), о разделении им государств («орды от орды»), об удерживающем характере власти, еще раз вернуться с тем, чтобы опять-таки уколоть попов, недостойных послушания и, стало быть, почитания. Неприязнь к православному клиру прорывается у него и в данном случае. Уличая духовенство во всех, так сказать, смертных грехах, составитель «Беседы» ищет главных виновников такого положения и находит их, указывая на «простоту» и «маломыслие» государей (царей), проявляющих небрежение к своим обязанностям: «А маломыслении цари, Христу противницы, иноков жалуют и дают иноком свои царские вотчины, грады и села, и волости со християны, и отдают их из миру от християн своих завидная и вся лутчая в монастыри иноком. Отнюдь то иноком не надобно и не потребно, и не подобает <…>. Таковыми неподобными статиями и мирскими суетами царие иноков потворяют и от обещания иноков, и от молитвы отвращают, и в бесконечную погибель их вводят…»{1480}. К подобным царям наш автор суров и беспощаден: «Лучше степень и жезл, и царский венец с себя отдати и не имети царского имени на себе, и престола царьства своего под собою, нежели иноков мирскими суеты от душевного спасения отвращати»{1481}. Надо было обладать безудержным воображением и немалой злобой, чтобы решиться причислить русских государей к противникам Христа, опорочив в одночасье их многолетние усилия по обустройству святых монастырей Русии, огромное значение которых в истории страны уже тогда являлось очевидным. Перед нами полное отсутствие чувства меры, вызывающее эффект, прямо противоположный тому, на какой мог рассчитывать полемист, предусмотрительно пожелавший остаться неизвестным. Но, увлекшись, он уже не в силах был остановиться и продолжал запугивать читателей «Беседы», как сказал бы Иван Грозный, «детскими страшилы»: «И за таковы иноческие грехи и за царьскую простоту попущает Бог и на праведные люди свой праведный гнев <…>. И сего ради при последнем времени начнут люди напрасными бедами спасатися, и по местом за таковые грехи начнут быти глады и морове частые, и многие частые трусы и потопы. И межеусобные брани и воины, и всяко в мире начнут гинути грады, и стеснятся, и смятения будут во царствах велика, и ужасти, и будут никим гонимы. Волости и села запустеют, домы християнския, люди начнут всяко убывати, и земля начнет пространее быти, а людей будет менши, и тем досталным людем будет на пространной земли жити негде»{1482}. Апокалипсические пророчества о конце мира автор «Беседы», таким образом, приспосабливав ет к собственной концепции Господнего воздаяния за «иноческие грехи и царскую простоту», обедняя картину Второго пришествия и, следовательно, совершая над «святыми божественными книгами» то, в чем корил своих оппонентов, — вольное обращение с этими книгами. Описание всяких «ужастей», в кои будут ввергнуты люди (праведные и неправедные), служило для составителя «Валаамской беседы» ступенью к устрашению властей предержащих: «Царие на своих степенех царских не возмогут держатися и почасту пременятися за свою царскую простоту и за иноческие грехи, и за мирьское невоздержание»{1483}. В политических условиях Русского государства середины XVI века подобные суждения могли восприниматься как идеологическое обоснование учреждения выборной царской власти взамен наследственной, к чему стремилась Избранная Рада и что ее деятели безуспешно попытались осуществить в марте 1553 года. Под завесой Божьего наказания сочинитель «Беседы» старается протащить идею выборности часто сменяемой монаршей власти. Осуждая владение иноков волостями и селами «со христианы», автор «Валаамской беседы» допускает обзаведение ими ненаселенными землями, в частности «особными от мирян» промысловыми угодьями или «промышленными улусами», по терминологии памятника{1484}. Кроме угодий, инокам и всему «священническому чину» надлежит давать на пропитание «урочные годовые милостыни»{1485}, т. е. нечто схожее с ругой — государственным жалованьем, пособием{1486}. Однако иноки обязаны все же «питатися от своих праведных трудов, и своею потною прямою силою, а не царьским жалованием, и не хрстиянскими слезами»{1487}. Они должны следовать примеру («последовати») «прежним иноком, и во всем быти аки прочий преподобнии и пустынные жители»{1488}. Видимо, составитель «Беседы», утверждая, будто иноки «возлюбили пустынное и преподобное отец житие»{1489}, несколько поспешил. Не случайно, надо полагать, во Второй редакции памятника вместо этого безапелляционного утверждения встречаем призыв, обращенный к русскому монашеству: «Возлюбите, братия, пустынное и преподобных отец житие, пищу и питие»{1490}. Призывая возлюбить «пустынное житие» безымянный литератор реально оценивал положение дел в сфере тогдашнего устройства монастырей. Когда же он говорил, будто иноки возлюбили «пустынное житие», то он выдавал желаемое за действительное. Но в любом случае ясно одно: автор «Валаамской беседы» был сторонником пустынножительства монахов и противником сложившегося на Руси монастырского уклада. Здесь, как и во многом другом, он сходился с нестяжателями и ловко спекулирующими их идеями еретиками. То была опасная по своим последствиям идейная игра. Сойди русское монашество на путь, указываемый сочинителем «Валаамской беседы», Русское государство оказалось бы в состоянии глубочайшего религиозно-политического кризиса и распада создававшейся на протяжении длительного времени церковно-монастырской системы, основы которой были заложены преподобным Сергием Радонежским и митрополитом Алексеем{1491}. Этот кризис, несомненно, поразил бы и православную государственность, разрушающе действуя на русское «самодержавство», только что установившееся на Руси. О том, что смена вех в развитии монархии в России при таком повороте событий стала бы неизбежной, свидетельствуют взгляды автора «Валаамской беседы» на характер царской власти. В историографии существует мнение, согласно которому автор «Валаамской беседы» являлся приверженцем самодержавия. По словам И. И. Смирнова, автор «Беседы» «выступает как сторонник царской власти»{1492}. Однако, полагает И. И. Смирнов, точка зрения автора «Беседы» по вопросу о власти «не исчерпывается простым признанием необходимости царской власти. Автор выступает как сторонник самодержавной власти царя»{1493}. На той же позиции стоит и Г. Н. Моисеева, заявляя, будто «автор «Валаамской беседы» сторонник сильной, единодержавной власти московского царя, повелевающего своими «советниками»{1494}. Несколько иной взгляд у Л. В. Черепнина, по которому автор «Беседы» «является сторонником сословно-представительной монархии»{1495}. Что можно сказать по поводу этих суждений исследователей? В «Валаамской беседе» действительно встречаются высказывания, позволяющие предположить в ее авторе человека, симпатизирующего самодержавной власти московских государей. Об этом, казалось бы, говорит развиваемая им идея божественного происхождения царской власти: «Богом бо вся свыше предана есть помазаннику царю и великому Богом избранному князю. Благоверным князем русским свыше всех дана есть Богом царю власть над всеми…»{1496}. Отсюда и название самодержец: «Бог повеле ему царствовати и мир воздержати [и управляти], и для того цареви в титлах пишутся самодержцы»{1497}. По убеждению составителя «Беседы», перекликающегося идейно с Иваном Пересветовым{1498}, «достоит царю грозному быти»{1499}. Обращаясь к русскому иночеству, он взывает: «Возлюбленнии отцы и драгая братия, покаряйтеся благоверным царем и великим князем русским радейте и во всем им прямите. И Бога за них молите, аки сама за себя и паче за себя, да таковыми ради молитвы и мы помиловани будем. И добра государем своим во всем хотите, и за их достоит животом своим помирати и главы покладати…»{1500}. Не следует, однако, чересчур доверчиво относиться к этим словам автора «Валаамской беседы» и принимать их за чистую монету. Вчитываясь в текст памятника, убеждаемся, что в нем не все так просто, как может показаться с первого взгляда. Начнем с понятия самодержец. И тут уместно вспомнить Ивана Грозного, который говорил Андрею Курбскому: «Како же и самодержец наречется, аще не сам строит?»{1501}. И еще: «А Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а не боляреи вельможи»{1502}, «а се… нечестие, еже от Бога данные нам власти самем владети…»{1503}. Сопоставление этих положений царя Ивана, выдержанных в духе официальной доктрины о характере самодержавной власти, с высказываниями автора «Валаамской беседы», посвященными тому же предмету, обнаруживает как сходство, так и различие их позиций. Сходство заключается в признании ими божественного происхождения власти самодержца. Но затем идут различия, причем существенные. Само возникновение названия самодержец Иван Васильевич и сочинитель «Беседы Валаамских чудотворцев» объясняют по-разному. Если, согласно Ивану IV, самодержцем государь называется потому, что «сам строит», сам владеет властью и государством, а не бояре и вельможи, то, по автору «Беседы», цари «в титлах пишутся самодержцы» вследствие того, что Бог повелел им «царствовати и мир воздержати и управляти». Причем автор «Валаамской беседы» в этот раз не уточняет, самовластно ли должен «воздержати и управляти» царь или же вместе с вельможами. Но следом он начинает рассуждать о том, что царю предназначено данное ему Богом царство «воздержати» отнюдь «не собою», но в сообществе «с своими приятели с князи и з боляры»{1504}. О том, что это именно так, а не иначе надо понимать автора «Беседы», недвусмысленно свидетельствует его утверждение: «Не с ыноки Господь повелел царем царство и грады, и волости держати, и власть имети — с князи и з боляры, и с прочими миряны, а не с ыноки»{1505}. Этому утверждению созвучны другие слова, содержащиеся в «Беседе»: «А царем и великим князем достоит <…> всякие дела делати милосердно с своими князи и з боляры с протчими миряны, а не с ыноки»{1506}. Подобный ход рассуждений не мог не привести составителя «Беседы» к проблеме царя и советников. И он, коснувшись ее, выразил вполне определенно свою точку зрения: «А царю достоит не простотовати, с советъники совет совещевати о всяком деле, а святыми божественными книгами сверх всех советов внимати и «Беседы» Иосифа Прекрасного повести дозирати»{1507}. По поводу цитированного текста Беседы Г. Н. Моисеева пишет: «Глагол «простовата» <…> в «Валаамской беседе» имеет отрицательный смысл, поэтому данное выражение следует понимать как назидание царю решать государственной важности вопросы самому, руководствуясь чтением «божественных книг» и повести об Иосифе Прекрасном»{1508}. Противоположным образом думает Л. В. Черепнин: «Царь должен править вместе с лицами, составляющими его «совет»{1509}. Кто из исследователей прав? Похоже, не Г. Н. Моисеева. Верно, конечно, то, что глагол простоваты употребляется автором «Валаамской беседы» в отрицательном смысле. Но ошибочно думать, будто он внушает царю «решать государственной важности вопросы самому». Как раз наоборот. Его сентенция, на наш взгляд, состоит в том, что царю «достоит не простотовати», или, так сказать, дурью не маяться, а советоваться с советниками «о всяком деле», внимая помимо того «священным книгам» и мудрому Иосифу Прекрасному. В подтверждение правомерности такого прочтения «данного выражения» сошлемся на другой текст «Беседы», не оставляющий, по нашему мнению, никаких сомнений на сей счет: «А царем з боляры и з ближними приятели о всем советовати накрепко, а сверх всех советов доложитися божественных и святых книг, и внимати Беседа Иосифа Прекраснаго, царя египетского повесть»{1510}. Во Второй редакции «Валаамской беседы» зависимость царя от советников и консультантов еще более усилена: «А царем з бояры и со ближними приятели о всем советовати и думати (выделено нами. — И.Ф.) крепко-накрепко, а потом смотрити известными своей царъския полаты людми (выделено нами. — И.Ф.) святых божественных книг, и внимати Беседа Иосифа Прекраснаго царя египетьскаго»{1511}. Как видим, этих советников и консультантов автор «Беседы» делит на две группы — бояр и ближних приятелей. Не подразумевает ли он здесь Боярскую Думу (бояре) и Избранную Раду (ближние приятели)? При положительном ответе на вопрос обнаруживается большая его осведомленность в придворных делах Русии середины XVI века. А если учесть проявляемую им заботу о ближних приятелях, с которыми должен советоваться царь, то становится ясной принадлежность нашего писателя к реформаторскому кругу. Итак, термин самодержец, понятый автором «Валаамской беседы» в качестве обозначения государя, царствующего по воле Бога, не только не исключает участия во власти советников (князей, бояр, «ближних приятелей»), но, напротив, предполагает это участие, поскольку оно угодно Богу и осуществляется согласно Божьему повелению. Перед нами, надо сказать, довольно своеобразное толкование слова самодержец, выхолащивающее его истинное содержание. Не чем иным, нежели стремлением теоретически обосновать ограничение самодержавной власти Ивана IV, эту понятийную акробатику объяснить невозможно. Однако позиция сочинителя «Валаамской беседы» будет охарактеризована не полно, если опустить одну весьма существенную деталь: нескрываемое желание поставить в ряд советников царя «протчих мирян», т. е. земских, по всей видимости, представителей или «всенародных человек», по терминологии князя А. М. Курбского{1512}. И здесь, конечно же, нельзя пройти стороной мимо одного из прибавлений (добавлений) к «Валаамской беседе». «Ино сказание тоеже Беседы» — так называется это прибавление. В нем наше внимание останавливают несколько сюжетов, расположенных автором последовательно и представляющих отдельные смысловые звенья или блоки: 1) «Подобает благоверным и христолюбивым царем и богоизбранным, благочестивым и великим князем русския земли избранные воеводы своя и войско свое крепити и царство во благоденьство соединити и распространити от Москвы семо и авамо, всюду и всюду. И грады, аки крепкия и непоколебимые богоутвержденные столпы, крепко скрепити, и область вся держати не своею царьскою храбростию, ниже своим подвигом, но славным войском и царьскою премудрою мудростию»{1513}; 2) «И на таковое дело благое достоит святейшим вселенским патриархом и православным благочестивым папам, и преосвященным митрополитом, и всем священноархиепископом, и епископом, и преподобным архимаритом, и игуменом, и всему священническому и иноческому чину благословити царей и великий князей на единомысленный вселенский совет»{1514}; 3) «И с радостию царю воздвигнути, и от всех градов своих, и от уездов градов тех, без величества и без высокоумныя гордости, христоподобною смиренною мудростию, беспрестанно всегда держати погодно при себе и себе ото всяких мер всяких людей, и на всяк день их добре и добре распросити царю самому о всегодном посту и о покаянии мира сего, и про всякое дело мира сего»{1515}; 4) «А разумных мужей, добрых и надежных приближенных своих воевод и воинов со многими войсками ни на един день не разлучати от собя. Да таковою царьскою мудростию и войновым валитовым разумом ведома да будет царю самому про все всегда самодержавства его, и может скрепити от греха власти и воеводы своя, и приказные люди своя, и приближенных своих от поминка и от посула, и от всякия неправды, и сохранит их от многих безчисленных властелиных грехов, и ото всяких лстивых лстецов, и ото обавников их. И объявлено будет теми людми всякое дело пред царем. Таковою царьскою мудростию и валитовым разумом да правдою тою держатца во благоденьство царство его и войско все без измены крепко всегда»{1516}. Прежде чем приступить к выявлению содержания приведенных фрагментов «Иного сказания», необходимо коснуться вопроса о происхождении самого памятника. Ближайшая задача, встающая перед исследователем, заключается в установлении соотношения, связи основного текста «Валаамской беседы» с этим прибавлением. Иначе, является ли «Иное сказание» непосредственным продолжением «Валаамской беседы», принадлежащим перу одного и того же автора, или представляет собою самостоятельное произведение, хотя и тесно связанное с «Беседой». Ученые по-разному решают данную задачу. Еще дореволюционные издатели «Валаамской беседы» В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов доказывали позднее происхождение «Иного сказания» сравнительно с «Беседой» и, следовательно, принадлежность этих письменных памятников различным авторам{1517}. В советской историографии точка зрения В. Г. Дружинина и М. А. Дьяконова получила поддержку со стороны Г. Н. Моисеевой, высказавшей ряд дополнительных соображений (в том числе текстологических) в пользу этой точки зрения{1518}. В том же направлении рассуждал и Л. В. Черепнин. «Как известно, — писал он, — в некоторых списках «Беседы Валаамских чудотворцев» к ней приписан другой памятник под заглавием «Иносказание тое же Беседы». Автор «Иного сказания», как видно, знал текст «Беседы» и касался некоторых вопросов, в ней поднятых, однако решал их в ряде случаев иначе»{1519}. Следовательно, по Г. Н. Моисеевой и Л. В. Черепнину, «Беседу» и «Сказание» составили разные лица. Однако уже некоторые современники В. Г. Дружинина и М. А. Дьяконова принимали «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» за одно целое{1520}. К тому же склонялись и отдельные новейшие исследователи{1521}. В исторической литературе обращалось внимание и на неосновательность попыток приписать «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» различным авторам{1522}. По нашему мнению, надо все-таки признать, что «Беседа» и «Сказание» написаны разными людьми. Об этом, по-видимому, свидетельствует само название «Ино сказание тоеже Беседы», означающее другое повествование (рассказ){1523} о той же «Беседе». Вряд ли автор «Валаамской беседы» взялся бы за подобную, прямо скажем, странную работу, имея возможность высказать в основном тексте своего сочинения все, что считал нужным. Верно и то, что «Иное сказание» появилось после составления «Валаамской беседы». Но это после нельзя, на наш взгляд, понимать как позже, а тем более — как много позже. «Сказание», скорее всего, создавалось если не сразу, то по горячим следам «выхода в свет» «Валаамской беседы». На это указывает идейная связь «Сказания» с «Валаамской беседой», свидетельствующая об актуальности поднятых в «Беседе» проблем на момент создания «Иного сказания». Отсюда ясно, что между написанием памятников не могло пройти много времени. На идейную связь «Иного сказания» и «Валаамской беседы» обращал внимание И. И. Смирнов, который подчеркивал, что «факт присоединения к первичной редакции «Беседы» этого дополнения («Иного сказания». — И.Ф.) представляет большой интерес. Ибо в глазах автора «Иного сказания» оно составляло <…> органическое единство с текстом «Беседы». Мы можем, следов; ательно, рассматривать «Иное сказание» как дальнейшее развитие той политической программы, которая содержится в основном тексте «Беседы»{1524}. Принимая тезис И. И. Смирнова в общем, принципиальном плане, мы не можем признать правильным конкретное его раскрытие. К тому же (и это надо особо подчеркнуть) «Сказание» не являлось простым развитием «политической программы» «Беседы». Оно вносило в эту программу и нечто новое, свое, будучи, таким образом, некоторым дополнением к «Валаамской беседе». Но при всем том «Беседа» и «Сказание», конечно же, не должны рассматриваться изолированно друг от друга, поскольку находятся в тесной взаимосвязи, являя собою хотя и двухчастное, но, тем не менее, цельное сочинение. Обратимся непосредственно к тексту «Иного сказания», к выделенным нами смысловым блокам, формирующим «политическую программу», пропагандируемую его автором. Первое, что старается внушить русскому царю и великому князю сочинитель «Сказания», это — необходимость «крепити» войско и царство с целью распространения Московского государства (царства) «семо и авамо, всюду и всюду». Завоеванные земли он советует «крепко скрепити», возводя там «грады, аки крепкия и непоколебимые богоутвержденные столпы». Нет сомнений в том, что речь у него идет об авантюрном и провокационном проекте установления со стороны России мирового господства, разумеется в пределах, соответствующих понятиям того времени. Отсюда, очевидно, предложение автора собрать «царей и великих князей на единомысленный вселенский совет», который порою историки безосновательно относят к разряду земских соборов. Так, еще В. О. Ключевский, имея в виду «Иное сказание», писал: «Здесь, наставляя русских царей и великих князей, как крепить своих воевод и войско и соединить во благоденство царство свое, автор предлагает более определенный план всесословного земского собора»{1525}. О земском соборе в данной связи говорили также другие исследователи, например И. И. Смирнов{1526}. Однако данное истолкование «Сказания» упирается в серьезные противопоказания. В частности, термин всесословный не равнозначен термину вселенский, употребляемому автором «Иного сказания». Первый имеет внутренний (внутригосударственный) характер, тогда как второй — внешний (мировой). Если созыв «земского всесословного собора» зависел, как известно, только от решения московского государя и митрополита всея Руси, то собрание, именуемое составителем «Сказания» «единомысленным вселенским советом», требовало благословения «святейших вселенских патриархов», «православных благочестивых пап» и других церковных иерархов. Оно и понятно, поскольку «вселенский совет» созывался в связи с экспансией «Москвы семо и авамо, всюду и всюду», но не по вопросам строительства Русского государства. Этот «вселенский совет» царей и великих князей (но отнюдь не сословий!) предназначался, по всей видимости, для того, чтобы санкционировать создание вселенского православного царства, а лучше сказать, чтобы поманить московского государя соблазнительной перспективой установления православного царства. То была ловушка, в которую автор «Иного сказания» и те, чьи интересы он представлял, думали заманить царя, так как условием созыва «вселенского совета» являлось благословение церковных иерархов, в том числе «православных благочестивых пап». При поверхностном взгляде может показаться, что «православные папы» — нелепость, случайно допущенная сочинителем «Сказания». На самом же деле перед нами, скорее всего, хитрость, пущенная в ход, чтобы смазать различия между православием и католичеством, изобразив их как единоверие. Во всяком случае, сведя в одну компанию православных вселенских патриархов и римских понтификов, автор «Иного сказания» утверждал таким образом идею единства христианских иерархов и, следовательно, идею единства христианских церквей, выступая глашатаем униатства. Не указывает ли это на литовско-русское происхождение нашего публициста или на его связи с Литвой, где унийное движение в рассматриваемое время заметно активизировалось под воздействием нового наступления католичества на православие{1527}. Эмиссары католицизма, одурманенные успехом в Литве, предвкушали свою победу и в России. Один из них, Антонио Поссевино, писал: «Божественное провидение указало, что для истинной веры может открыться широкий доступ, если это дело (проповедь католической веры. — И.Ф.) будет проводиться с долготерпеливым усердием теми способами, с помощью которых так много других государств приняло на себя иго христово. Ведь не без божьего соизволения нам открылся — и это уже что-нибудь да значит — путь в Московию <…>. В том, что нынешний великий князь московский ищет дружбы с папой и другими христианскими государями, в этом мы также увидели удивительные пути божественного промысла…»{1528}. Признавая «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» составными частями единого произведения, мы должны признать и то, что униатские мотивы автора «Сказания» являются логическим продолжением и развитием выпадов против православной веры и церкви автора «Беседы», выявленных нами в процессе исследования памятника. В той же логической схеме находится проблема о причастности к власти непривилетированного сословия мирян. Если составитель «Валаамской беседы» говорит в общем плане о привлечении мирян государем к управлению государством, то автор «Иного сказания» предлагает институализировать это участие мирян (горожан и крестьян){1529} в государственном управлении посредством постоянно находящегося при государе собрания выборных «от всех градов» и «от уездов тех городов» с ежегодной их ротацией. Мы ошибемся, если отождествим, подобно В. О. Ключевскому, это собрание, обладающее постоянным статусом, с всесословным земским собором{1530}, созываемым нерегулярно, от случая к случаю. Вряд ли будем правы и тогда, когда вслед за Л. В. Черепниным станем утверждать, будто «в «совете» с участием «мирских людей» можно видеть прообраз земского собора в его начальной форме»{1531}. Ведь, несмотря на то что данное собрание, по замыслу автора «Иного сказания», имело совещательный характер, оно все же ущемляло самодержавную власть царя, бравшего на себя обязанность совета с выборными. Иначе незачем ему было специально отмечать, что государь, учреждая собрание выборных «христоподобною смиренною мудростию», должен отрешиться от «величества» и «высокоумной гордости», т. е. обуздать свои властные амбиции ради выборного представительства. Едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что автор «Иного сказания» побуждал русского царя учредить нечто подобное западноевропейскому парламенту, обнаружив тем самым свои прозападные увлечения и симпатии, расходящиеся с московским самодержавством. В том же направлении шли рекомендации «Иного сказания» насчет приближенных к царю «разумных мужей, воевод и воинов со многими войским». Эти мужи, образующие военное сословие, должны неотступно находиться при государе, которому подобает править государством своею мудростью и «валитовым» (общим, коллективным) разумом воинов, пользующихся правом объявлять «всякое дело пред царем». Тут, по всей видимости, мы имеем дело с намеком на некий коллегиальный орган военного сословия типа литовско-польского сейма, ограничивавшего королевскую власть. Если суммировать наши наблюдения над «Иным сказанием», относящиеся к прерогативам царской власти, то станет ясно, что военное сословие в лице «воевод и воинов», а также земство в лице выборных от городов и уездов — вот та реальная сила, которой, согласно автору «Сказания», пристало управлять государством, тогда как царю надлежит взять на себя роль наделенного «христоподобною смиренною мудростию» государя, чутко прислушивающегося к советам своего окружения. Исходя, очевидно, из тактических соображений, он обращается к термину самодержавство, но обозначает им государство как территориально-политическое образование, а не форму правления{1532}. В целом же «Иное сказание» и «Валаамская беседа», связанные друг с другом столь органично, что их можно рассматривать как один памятник, трактуют самые злободневные вопросы общественно-политической жизни России середины XVI века, касающиеся веры, церкви и государства. Взятые вместе, они составляют, можно сказать, политическую программу, разработанную в атмосфере споров накануне Стоглавого собора и нацеленную на реформирование религиозно-политического строя Руси. По духу и сути эта программа настолько близка реформаторству Избранной Рады, что ее смело можно назвать политической программой партии Сильвестра — Адашева. * * *Приготовления к Стоглавому собору осуществлялись не только в форме назидательных обращений отдельных лиц к царю Ивану и вбрасываемых в общество публицистических сочинений, но и в виде коллективных челобитных, адресованных государю{1533}. В качестве примера назовем «Челобитную иноков царю Ивану Васильевичу». По предположению Г. Кунцевича, издателя этого памятника, «Челобитная иноков» «была написана до собора 1551 года и послужила, вместе с другими данными, материалом для Стоглава»{1534}. Касаясь вопроса об авторстве произведения, Г. Кунцевич говорил: «Назвать автора Челобитной трудно. Можно только заметить, что написавший просьбу был, видимо, человек книжный и, судя по слогу, не лишенный опытности в написании»{1535}. Последнее наблюдение исследователя имеет важное значение, поскольку подводит к выводу о том, что «Челобитная иноков» появилась не вдруг, а будучи порождением идейной борьбы, развернувшейся накануне Стоглавого собора по вопросам церковного реформирования. Это отчетливо понимал и сам Г. Кунцевич, когда замечал: «Партия «нестяжателей» могла поддержать Челобитную, если уж не подвинуть на написание ее»{1536}. Существенно и то, что Г. Кунцевич, как видим, не исключал возможность инициирования «Челобитной иноков» со стороны нестяжателей. А коль так, то правомерно и другое предположение, связывающее происхождение «Челобитной» непосредственно с нестяжательскими кругами. В этом случае обращение иноков к царю являлось лишь формой, за которой скрывалась идейная борьба людей, предпочитавших оставаться в тени. Подобные мысли возникали, кажется, и у Будовница, когда он заявлял: «Нет никаких положительных данных, что челобитная действительно написана иноками какого-то подмосковного монастыря, принадлежавшими к низшей братии. Во время ее появления заметные и влиятельные публицисты охотно пользовались псевдонимами или выступали анонимно»{1537}. К сожалению, затем И. У. Будовниц сводит на нет свою, как нам представляется, интересную мысль о том, что автором «Челобитной иноков» мог быть кто-либо из заметных и влиятельных публицистов того времени. «Под видом «крылошан» (клирики, лица духовного звания){1538}, — продолжает он, — мог выступить и мирянин, противник монашеских верхов, захвативших в свои руки огромные богатства и пользовавшихся большой властью. Но кто же в таком случае мог быть автором «челобитной»? Дворянин прямо писал бы об интересах и требованиях своего класса, о том, что святым отцам следовало бы поделиться своей землей с «воинниками». Посадский человек, взявшийся за перо, чтобы обличить монастырские «нестроения», обязательно привнес бы еретические моменты. Боярин не стал бы прославлять общежительные формы монастырского устройства, за которые так ратовал Иосиф Волоцкий, да еще ставить в пример Волоколамский монастырь. Остается допустить, что челобитная действительно написана иноками из низшей монастырской братии…»{1539}. И. У. Будовниц усматривает в «Челобитной» «литературный памятник, стоящий на защите интересов низшей монастырской братии»{1540}. Так ли это? Прислушаемся к словам «Челобитной». Из этих слов узнаем, как иноки подмосковных монастырей «плачутся и челом бьют» «державному государю, православному царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии», умоляя его об устроении монастырском: «Сотвори обьщая жительства во окрестных обителех града Москвы, дабы наши архимариты и игумены попечение имели о душах братия своея мнишеского чину, дабы радели о своем спасении»{1541}. У челобитчиков, стало быть, выходит так, что «архимариты и игумены» подмосковных монастырей при наличном устройстве обителей о своей монашеской братии не пекутся и о собственном спасении не радеют. Трудно придумать более серьезное обвинение в адрес монастырского начальства, чем только что упомянутое, ибо, по сути, оно обличает монастырские власти в неисполнении церковных заповедей и взятого на себя долга, т. е. в грехопадении. Неудивительно, что «архимариты и игумены» ведут порочный образ жизни, предаются обжорству, «обыкли бо суть пирове наряжати, и мирским человеком соводворятися, и от них тщетныя хвалы желающе, приимающе, да егда мирстии человецы они, честь приемше, друг со другом сошедшееся глаголют: «вчера убо или оном дни бых во оном монастыри и велию честь восприях; игумен в нем вельми добр и зело очествлив, не токмо самому честь воздаде, и слуги моя различным питием упоени быша»{1542}. Какая польза от таких благ, вопрошают челобитчики и отвечают: «По истине от таковых пиров и тщетных похвал многи монастыри запустиша…»{1543}. Небрежением монастырских властей обители обезлюдели, а «сущий под рукою их убогая братия мнишеского чину во всех онех презераеми и небрегомы духом скитаются безпутием, яко отца не имуще пастыря»{1544}. И некому постоять за них. Раньше были блаженные старцы, которые, видя, как «обычая монастырьския изменяемы и благочиние отметаемо, не молчаще, ниже в небрежение полагаху сего, но возбраняху, не попущающе бесчинию и мятежу бывати…»{1545}. Ныне, как явствует из «Челобитной», нет таких старцев. Идеалом челобитчиков является «общее житие», по правилам которого «ядению и питию предложение равно учинена суть: якова же игумену и соборным братиям, такова и последнему брату; такожде и одежда и обуща все имеют от монастырьския дохия, всем же по равенъству, ни малым чем разньствующе, ниже никто какова стяжания в келий имеяше, разве образов и книг и нужных свит, их же ношаше»{1546}. Устами настоятелей «Челобитная» говорит, что в «монастырех московских такого чину не повелося»{1547}. Иная картина наблюдается «во всех Заволских монастырех, и в Соловецком монастыри, такоже и на Ладоском озере, на Валаме, и на Коневце, и на Сеинном такожде и во обители преподобного старца Иосифа, иже на Волоце…»{1548}. Перед нами откровенное противопоставление московских обителей заволжским монастырям, причем в выгодном для последних свете. Автора «Челобитной» нисколько не смущает тот факт, что Заволжье стало средоточием жизни монахов в скитах и пустынях, располагавших иноков больше к отшельничеству, нежели к «общему житию», как это имело место в Центре Русского государства. Он с большим воодушевлением вспоминает «преподобного игумена Кирила чюдотворца», «чин и устав», введенные в Белозерском монастыре{1549}, и странным образом забывает Сергия Радонежского, который, как известно, в сотрудничестве с митрополитом Алексеем распространял в Северо-Восточной Руси общежитийные монастыри, игуменами которых, как правило, становились ближайшие ученики и сподвижники святого старца{1550}. Созданный Сергием общежитийный Троицкий монастырь превратился, так сказать, в инкубатор игуменов и высших иерархов русской церкви{1551}. Такая «забывчивость» составителя «Челобитной», конечно, не случайна и вполне объяснима. Ему надо было убедить читателя в том, что в окрестных обителях города Москвы «общежитийного чину не повелося», и мотивировать обращенную к государю просьбу: «Не о множестве бо потребъных пекущеся молим твое державъство, дабы на братию ядения или пития много было и преизлишно. Несть тако, не буди сего, господи! Не [Но?] о равеньстве и о общем пребывании: аще воздержание, да вси имуть равно; аще недостатки, да все купно потерьпят; аще ли прохлажъдение, то вси же равно; а не два бы или три в монастыри покойны были, а всей братии тъщета и унижение. Приклонися, христолюбче, Господа ради, и умилным сим молением к твоей Богом хранимеи державе исполнити таковое прошение в конец»{1552}. Мы ошибемся, если смысл «Челобитной» сведем лишь к просьбе иноков о введении общежитийного устава в подмосковных монастырях. За этой просьбой скрывалось нечто более важное, обусловленное религиозно-политической борьбой конца 40-х — начала 50-х годов XVI века. В частности, есть основание говорить о скрытой здесь попытке выступления против митрополита Макария, который, с одной стороны, являлся предстателем русской православной церкви в целом, а с другой — главой московской епархии в отдельности. Поэтому автор «Челобитной», говоря о «нестрояниях» в окрестных обителях Москвы, тем самым молчаливо возлагал вину за них на Макария как руководителя столичной епархии, у которого под боком творились перечисляемые жалобщиками безобразия. К этому надо добавить, что «Челобитная» обращена непосредственно к царю Ивану через голову митрополита, в чем опять-таки нельзя не видеть выпад против Макария, стремление вбить клин между ним и государем. Осуждая жизненный уклад подмосковных обителей, сочинитель «Челобитной» всячески расхваливает быт Заволжских монастырей. Он, безусловно, не мог не знать, что Заволжские монастыри служили в ту пору пристанищем и укрытием для еретиков, развращавших русское общество с конца XV века, и в этом отношении пользовались дурной репутацией. Выдавать их за образец мог человек, не отличающийся особой твердостью в православной вере. В «Челобитной» есть соответствующий намек, выраженный в словах: «Кто имеет тело и душа едино и смысл един»{1553}. Тут душа и тело выступают, можно сказать, на равных и в тесном единстве, тогда как, согласно православному вероучению, «душа человека сотворена была Богом как «ечто отдельное, самостоятельное и отличное в материальном мире, способом, который называется вдуновением Божиим… Особенные свойства души состоят в единстве, духовности и бессмертности ее, в способности разума, свободы и дара слова»{1554}. Утверждая «смысл един» тела и души, автор «Челобитной» отрицает, в сущности, идею бессмертия души. Кроме того, он этим своим утверждением как бы реабилитирует людскую плоть, являвшуюся, по понятиям того времени, средоточием пороков человека. Здесь слышны отзвуки западных гуманистических учений, возникавших нередко на еретической почве. Становится ясно, в какой общественной среде составлялась «Челобитная иноков». То была среда, враждебная русской православной церкви, но рядящаяся под ее доброхотов. Конец 40-х — начало 50-х годов были периодом наибольшей активности представителей этой среды. Не случайно именно тогда «прозябе» ересь на Руси. В «Челобитной» содержится одна деталь, служащая датирующим признаком документа. Вот она: «Токмо приносим многотрудное моление твоему благородию, его же прием с обычною тихостию твоею (курсив наш. — И.Ф.), возри свои богомоли»{1555}. На данную деталь обратил внимание еще Г. Кунцевич, который, комментируя «Челобитную», писал: «Далее читаем «со обычною тихостию твоею». Это выражение, во всяком случае, более идет к юному царю, времени Стоглава, чем к Грозному времени казней»{1556}. Г. Кунцевич, безусловно, прав: к Ивану Грозному «времени казней» приведенное выражение не подходит. Иное дело Иван, переживший после летних событий 1547 года душевное потрясение и нравственный переворот, возжелавший свести всех в любовь, царствуя кротостью и миром. По-видимому, государь тогда отличался «тихостию» своей, о чем и сказано в адресованной ему «Челобитной иноков», полученной им, надо думать в конце 40-х или в самом начале 50-х годов, но до начала работы Стоглавого собора. Писания Максима Грека царю Ивану IV, советы старца Артемия, обращенные к государю, «Валаамская беседа» и «Челобитная иноков» — все это свидетельствует о напряженной идейной борьбе вокруг монастырского землевладения и русской церкви вообще. Естественно, что в этой ситуации митрополит Макарий не мог молчать и отсиживаться, наблюдая со стороны за идейной схваткой, а тем более — за приготовлениями наступления на православную церковь. Известен «Ответ Макариа, митрополита всея Русии от божественых правил святых апостол и святых отець седми собор, и поместных, и особь сущих святых отець, и от заповедей святых православных царей, к благочестивому и христолюбивому и боговенчанному царю великому князю Ивану Васильевичу, всеа Русии самодръжцу, о недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных»{1557}. * * *Некоторые исследователи полагают, будто ближайшим поводом к написанию «Ответа» послужило то обстоятельство, что царь Иван, «идя навстречу настойчивым требованиям «избранной рады», особенно сторонников попа Сильвестра, обратился непосредственно к митрополиту Макарию с запросом относительно возможности секуляризации домовых митрополичьих вотчин», на что святитель и откликнулся в виде специального открытого послания{1558}. Возможно, это так. Но из текста послания не видно, чтобы митрополит Макарий писал его в качестве ответа на запрос Ивана IV. Поэтому не исключено, что слово ответ, содержащееся в заголовке послания, означало оправдание, защита{1559}. Митрополит, таким образом, располагая информацией о ведущейся правительством Избранной Рады законодательной подготовке по отчуждению церковного имущества, обратился к царю Ивану с открытым посланием, в котором оправдывал и защищал «имения» церкви. Это обращение позволяет представить, насколько остро стоял тогда вопрос о церковных владениях. По мнению А. А. Зимина, «Ответ Макария» был написан до сентября 1550 года{1560}. А. А. Зимин, однако, не исключал и того, что «Макарий отвечал на вопросы, поставленные Иваном IV еще в феврале того же года»{1561}. Вскоре исследователь предложил иную датировку памятника: «Очевидно, около 15 сентября 1550 г. митрополит Макарий произнес большую программную речь в защиту права монастырей на владение недвижимыми имуществами»{1562}. Позднее А. А. Зимин высказал уже другую версию: «Около 1550 г. Макарий пишет послание (ответ) Ивану Грозному, посвященное монастырскому землевладению»{1563}. В одном из разделов обобщающего труда по истории русского православия А. А. Зимин вместе со своими соавторами А. М. Сахаровым и В. И. Корецким относит «Ответ» к 1550 году: «В 1550 г. появился «Ответ» митроцолита Макария, в котором говорилось о принципиальной допустимости для церкви владеть недвижимым имуществом»{1564}. Хронологические колебания, проявленные А. А. Зиминым, — показатель сложности проблемы датировки источника. Поэтому, надо полагать, А. И. Плигузов поступает более осторожно, устанавливая временные рамки возможного появления митрополичьего ответа между 16 января 1547 года — июлем 1551 года{1565}, считая, что в нем нашел отражение «самый напряженный этап полемики о методах государственной регламентации церковного и монастырского землевладения»{1566}. С. Н. Кистерев несколько сузил промежуток времени, в течение которого мог быть составлен «Ответ Макария», ограничив его маем 1549 года — февралем 1551 года (до начала работы Стоглавого собора){1567}. Эту датировку принял В. В. Шапошник{1568}. Она и нам кажется приемлемой, правда, с небольшой поправкой: верхнюю хронологическую грань написания «Ответа» следует, на наш взгляд, отодвинуть ко времени, предшествующему июню 1550 года, когда «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии <…> Судебник уложыл»{1569}. Определяя главное содержание «Ответа Макария», одни историки говорят о защите митрополитом монастырского землевладения{1570}, другие — церковных земель{1571}, третьи — церковного и монастырского землевладения{1572}. Ученые, как видим, расходясь в несущественных деталях, едины в основном, а именно в том, что в своем ответе митрополит Макарий отстаивал неприкосновенность земельной собственности духовенства. Но если строго следовать источнику, придется признать, что Макарий рассуждал не о монастырских или церковных землях, а о принадлежащих святым монастырям и святым церквам «недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных»{1573}. К числу этих «недвижимых вещей» он относит храмовый «завес», церковные сосуды и книги, а также «непродаваемые вещи, рекше села, нивы, земли, винограды, сеножати, лес, борти, воды, езеро, источницы, пажити и прочая…»{1574}. «Митрополит Макарий приводит данный перечень еще раз: «Аще кто от церковнаго имениа святых завес или святых съсуд, или святых книг, или от иных вещей, их же не подобает продати или отдати, възложенных Богови в наследие благ вечных недвижимыя вещи, рекше села, нивы, винограды, сеножати, лес борти, воды, езера, источници, пажити и прочая, вданная Богови в наследие благ вечных»{1575}. Иногда Макарий заводит речь о «недвижимых вещах» вообще без какой-либо их конкретизации{1576}. В тех случаях, когда он говорит о селах и угодьях, то обычно добавляет: «и прочна недвижимый вещи»{1577}. Помимо упомянутых «недвижимых вещей», он еще называет пошлины{1578}, суды{1579} и др. Включенные митрополитом Макарием в «недвижимые вещи» храмовые завесы, церковные сосуды и книги, пошлины и суды подводят нас к пониманию термина недвижимые как неотъемлемые. По Макарию, недвижимые вещи нельзя двигнути, поскольку они недвижимы (т. е. неотчуждаемы){1580}. «Никто не может, — возглашает святитель, — церкви Божиа оскорбити или поколебати, или недвижимая от церкви Божиа двинути, понеже бо церкви Божиа небес вышше и твердейше, и земли ширьше, и моря глубочайше, и солнца светлейши, и никто не можеть ея поколебати, основана бо бе на камени, сиречь на вере Христова закона»{1581}. Если следовать историкам, полагающим, что митрополит Макарий посвятил свой ответ исключительно защите церковного и монастырского землевладения, станет не совсем понятно, почему среди «недвижимых вещей» он счел необходимым упомянуть церковную утварь, книги, а также неземельные доходы церкви. Конечно, можно думать так, будто ему это понадобилось для усиления идеи неотъемлемости церковных и монастырских земельных владений. Но с равным основанием мы можем предположить, что Макарий выступил в защиту церковно-монастырского «имения» в целом, утверждая мысль о неприкосновенности имущества духовных учреждений. Надо еще раз вспомнить то, в какой исторический момент состоялось выступление митрополита Макария. Как мы знаем, то было время когда, по выражению летописца, «прозябе ересь на Руси». Еретики снова, как и на исходе XV века, проникли в Кремль, окопавшись во дворе князей Старицких. Их отношение к церковному богатству и к самой православной церкви хорошо известно. Оно было резко отрицательным. Надо полагать, они вели соответствующую пропаганду. К тому же сравнительно недавно в княжеском дворце проповедовал свои идеи друг «жидовствующих» Вассиан Патрикеев, являвшийся противником украшения церковных икон и зданий драгоценностями{1582}. Старец Вассиан призывал вернуть церковь к ее «первой духовной красоте»{1583}. Своей агитации князь-инок придавал вид благопристойности, апеллируя к авторитету Иоанна Златоуста и Нила Сорского, в особенности последнего, говорившего в своем «Предании» о ненужности украшения церквей драгоценностями{1584}. Правящая группировка, возглавляемая Адашевым и Сильвестром, близкими к нестяжателям и даже — еретикам, не только прислушивалась к противникам русской церкви, но и пыталась реформировать ее в духе их высказываний. Необходимо подчеркнуть, что инициатива здесь шла не от царя Ивана, а от людей из его окружения{1585}, прежде всего, по-видимому, со стороны Сильвестра{1586}, соперничавшего с митрополитом Макарием из-за власти и влияния на государя. Глухие намеки на это имеются в «Ответе». Там читаем следующее наставление царю: «…тебе, царю, от Бога ныне възвышенному и почтенному, единовластному царю в всем великом Росийском царствии, самодръжцу сущу и в конець сведущему Христов закон евангельскаго учениа и святых апостол и святых отець заповеди, и вся тебе божественная писаниа в конець ведущу и на языце носящу не человечьскым бо учением, но данною ти от Бога премудростию. И сего ради, благочестивый царю, подобает тебе, разсудив, смотрити и творити полезная и богоугодная, яко же и прочий благочестивии цари, блюди и храни свою царскую душу и свое христолюбивое царство от всех врагов видимых и невидимых»{1587}. Митрополит, таким образом, призывает Ивана исполнить свой долг самодержца, знающего «Христов закон и евангельское учение», опирающегося на данную ему Богом премудрость, а не на человеческое учение, идущее от врагов видимых и невидимых на погибель царской души и христолюбивого царства. Макарий, как бы разумея, в какой сложной ситуации оказался царь Иван, говорит «Человецы бо есмы, плаваем в многомлъвленом сем море. Въпредь что будет нам, не вемы»{1588}. О том, что партия Адашева — Сильвестра зло на церковь замышляла, будет позднее свидетельствовать сам Иван Грозный: «Антихриста же вемы: ему же вы подобная творите, злая советующе на Церковь Божию»{1589}. Итак, есть основания предполагать, что в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века московское правительство, руководимое А. Ф. Адашевым и попом Сильвестром, планировало крупную церковную реформу с конфискацией «недвижимых вещей» церкви, состоящих не только из сел и других земельных владений, но также из всякого рода церковных ценностей. Характерны в этой связи слова Ивана Грозного; «Праги же церковныя, — елика наша сила и разум осязает, яко же подовластные наши к нам службу свою являют, сице украшении всякими Церкви Божий светится, всякими благостинями, елико после вашея бесовския державы сотворихом, не токмо праги и помост, и предверия, елико всем видима и иноплеменным украшения»{1590}. Отсюда следует, что реформаторы, группировавшиеся вокруг Сильвестра и Адашева, противились украшению и одариванию церквей. Они, похоже, не почитали должным образом иконы и отвергали некоторые таинства. Грозный говорил Курбскому: «Жив Господь мой, жива душа моя, — яко не токмо ты, но вся твои согласники, бесовские служители, не могут в нас сего обрести. Паче же уповаем, Божия слова воплощением и пречистые его матери, заступницы християнския, милостию и всех святых молитвами, не токмо тебе сему ответ дати, но и противу поправших святыя иконы, и всю христианскую божественную тайну отвергшим, и Бога отступльшим (к ним же ты любительно совокупился еси)…»{1591}. Иван Грозный уверенно предрек: «И ваша злобесная на Церковь восстания разсыплет сам Христос»{1592}. Однако, чтобы «восстать» на церковь и подвергнуть ее реформированию, надо было обладать огромной властью, святительской и царской. Грозный прямо обвиняет своих бывших советников в покушении на эту власть: «Святительский сан и царский восхищаете, учаще, и запрещающе, и повелевающее»{1593}. Да и письменный «Ответ» митрополита Макария во многом показателен. Он свидетельствует о том, что глава русской церкви был отстранен от обсуждения и подготовки замышляемой партией Сильвестра — Адашева реформы, что он был лишен возможности непосредственного влияния на государя, и единственным средством воздействия на него оставалось лишь публичное письменное заявление предстоятеля православной церкви. Все это позволяет, на наш взгляд, увидеть направление намечавшейся партией Сильвестра — Адашева церковной реформы. Она, по всему вероятию, должна была идти путем «опрощения» церковной организации по типу западной протестантской церкви, что означало слом апостольской церкви в России, доселе заботливо оберегаемой. Царь Иван если не сразу, то вскоре понял, чем русской церкви угрожает реформа. «На церковное разорение стали есте», — скажет он потом{1594}. Митрополит же Макарий разгадал это изначально. Вот почему святитель, по свойству характера своего не склонный к открытым конфликтам и ссорам, решительно, твердо и смело выступил против пагубного для русской церкви начинания, заявив в «Ответе» царю: «Егда рукополагахся, сиречь поставляхся в святительский сан, и тогда посреди священнаго събора в святей съборней апостольстей церкви пред Богом и пред всеми небесными силами, и пред всеми святыми, и пред тобою, благочестивым царем, и пред всем сунклитом, и пред всем народом кляхся судбы и законы, и оправдание наше хранити, елика наша сила. И пред цари за правду не стыдитися, аще и нужа будеть ми от самого царя или от велможь его, что повелят ми говорити, кроме божественых правил, не послушати ми их, но аще и смертью претять, то никако же не послушати их. И сего ради бояхъся, глаголю ти, о благочестивый царю, и молю твое царское величьство: останися, государь, и не сътвори такова начинания, его же Бог не повеле вам, православным царем, таковая творити. Но и вси святии его възбраниша вам, православным царем, и нам, архиереем, священными правилы зело претиша и запечатлеша седмью съборы по данней им благодати от святого и животворящаго духа. И того ради молим твое царское величьство и много с слезами челом бием, чтобы еси, царь и государь, князь великий Иван Васильевич всея Русии самодръжець, по тем божественным правилом у Пречистой Богородицы и у великих чудотворцев из дому тех недвижимых вещей, вданных Богови в наследие благ вечных, не велел взяти»{1595}. «Ответ» митрополита Макария, заявившего о своем намерении стоять за истину и правду до смерти, охладил реформаторов и вынудил их отступить. Три, по крайней мере, обстоятельства способствовали тому. Во-первых, несгибаемая позиция Макария, готового положить жизнь на алтарь русской православной церкви и предавшего гласности планы реформаторов. Во-вторых, поддержка митрополита большинством церковных иереев и, несомненно, частью бояр и дворян, а также массой православного люда. И, наконец, в-третьих (а может быть, во-первых), инициатива реформирования церкви исходила не от самого государя, а от временщиков — Сильвестра с Адашевым и других членов Избранной Рады{1596}. Иван IV некоторое время стоял как бы над схваткой придворных группировок. Но, будучи глубоко православным человеком, вскоре принял сторону митрополита. А. С. Павлов в свое время писал: «После такого ответа (митрополита Макария. — И.Ф.) «благочестивому царю» оставалось только заняться другими сторонами вопроса о церковных и монастырских вотчинах»{1597}. Историк прав, за исключением «благочестивого царя», поскольку заниматься «другими сторонами вопроса о церковных и монастырских вотчинах» пришлось не столько ему, сколько тем, кто задумал Церковную реформу, — царским советникам во главе с Сильвестром и Адашевым. Современный исследователь говорит: «Давая раз и навсегда категорическое несогласие на уступку церковных земель, митрополит резко сузил поле действия для сторонников секуляризационных проектов. Им оставалось только одно — обратить главное внимание на ограничение дальнейшего роста церковных земель и на решение финансовых проблем государства за счет (или при участии) Церкви»{1598}. По нашему мнению, существо вопроса заключалось не в «секуляризационных проектах», а в более широком реформировании церкви, задуманном Избранной Радой. Натолкнувшись на мощное сопротивление руководства православной церкви, реформаторы, изменив тактику, перешли к маневрированию, полагая добиться своего «не мытьем, так катаньем». Отказавшись от общей церковной реформы, они повели наступление на иммунитетные привилегии и земельную собственность духовенства, особенно на монастырские права и льготы. Сделать это было не так уж трудно, поскольку в прошлом имелись подобного рода прецеденты. * * *Данное наступление нашло отражение в Судебнике 1550 года, где наше внимание привлекает статья 43, которая гласит: «А велит государь кому какову грамоту дати лготную, или уставную, или полетнюю с красной печатью, и что возмет печатник от печати от которые грамоты, а дьяку от подписи взяти то же. Торханных вперед не давати никому; а старые тарханные грамоты поимати у всех»{1599}. Важно отметить, что статья эта — новая{1600}. Не менее важным является наблюдение Б. А. Романова, согласно которому «категорическое постановление о тарханных грамотах имеет здесь вид как бы приписки к тексту, вполне законченному и изготовленному, возможно, даже в иной момент: он не имеет здесь никакого отношения ни к побору печатника, ни к доходу дьяка»{1601}. Следовательно, статья 43 составлялась в два приема: сначала был написан текст о льготных уставных и полетных грамотах с указанием оплаты услуг печатника и дьяка, а затем к этому тексту законодатель присовокупил распоряжение о прекращении выдачи новых тарханных грамот и об изъятии старых. Приписка, надо думать, появилась в результате возникновения каких-то неожиданных обстоятельств. Нет ничего невероятного в том, что эти обстоятельства были вызваны решительным противодействием митрополита и верного православным традициям клиpa попыткам изъятия церковных «недвижимых вещей», т. е. захвата государственной властью, оказавшейся в руках чуждых Святорусскому царству элементов, имущества церквей и монастырей. Реформаторам на ходу пришлось перестраиваться, несколько умерить свой пыл и зайти к цели с другой стороны. Следует, впрочем, сказать, что по поводу статьи 43 у исследователей нет единого суждения. Некоторые из них сомневаются в том, применялась ли эта статья вообще. Так, по мнению А. С. Павлова, «предположение Судебника (ст. 43) об отобрании старых тарханов, по отношению к монастырям, так и осталось одним предположением»{1602}. Сходные мысли высказывал С. В. Рождественский, согласно которому «постановление Судебника [ст.43] совсем почти не применялось на практике»{1603}. Аналогичным образом рассуждал Н. П. Павлов-Сильванский: «Царским судебником тарханы были отменены… Но постановление это совсем почти не применялось на практике»{1604}. С точки зрения Б. А. Романова, статья 43 носила «чисто декларативный характер», будучи предписанием, обращенным «к самой верховной власти»{1605}. В комментариях к Судебнику 1550 года он отмечал, что вопрос «об осуществлении постановления ст. 43 Судебника 1550 г. о «тарханных грамотах»«является малоизученным как в досоветской, так и в советской исторической литературе{1606}. При этом Б. А. Романов снова возвращается к идее о декларативном характере статьи 43: «Общая форма ст. 43 лишила ее практически применимого содержания. Она носит чисто декларативный характер и сформулирована как предписание, обращенное не к подчиненным органам управления или подданным, а к самой верховной власти (потому что только она сама и выдает тарханные грамоты и аннулирует их, давая «грамоту на грамоту»). Можно говорить о более или менее полном или неполном исполнении заключающейся в ст. 43 программы, а не о нарушении или соблюдении закона»{1607}. В отзыве о дипломной работе С. М. Каштанова, посвященной феодальному иммунитету в XVI веке (1954), А. Т. Николаева писала о том, что статья 43 Судебника 1550 года «реализована не была, т. к. создавшаяся обстановка заставила Ивана IV отступить от намеченного плана в этом вопросе»{1608}. Необходимо все-таки признать, что статья 43 Судебника 1550 года имела практическое применение, и сомнения на сей счет, по-видимому, избыточны{1609}. Другое дело, в полной ли мере применялся закон или частично, избирательно. Здесь среди историков также нет согласия. Необходимо заметить, что закон предписывал «тарханные грамоты поимати у всех», т. е. равно как у светских, так и духовных землевладельцев. Это предписание было истолковано некоторыми исследователями в качестве общего принципа законоприменительной практики. П. П. Смирнов, рассмотрев соответствующий материал, замечал: «Из сделанного перечня, конечно, далеко не полного и случайного, грамотчиков, представлявших для пересмотра свои жалованные грамоты в мае — июне 1551 г., можно сделать заключение, что пересмотр касался не того или иного грамотчика, а очень многих из них, возможно, даже всех, потому что статья 43-я Царского судебника говорит именно о всех: «а тарханных вперед не давати никому, а старые тарханные грамоты поимати у всех». Поэтому, хотя наш материал касается исключительно монастырей, можно думать, что были затребованы также тарханы и митрополита, архиепископов и епископов, а также светских лиц, хотя мы не располагаем ни одной такой грамотой»{1610}. И еще: «Статьей 43-й Царского судебника было запрещено выдавать тарханы кому бы то ни было, следовательно, и церковным учреждениям, а «старые тарханные грамоты поимати у всех»{1611}. Согласно И. И. Смирнову, статья 43 «наносила удар по основным группам привилегированных землевладельцев — тарханников»{1612}. На ее основе в мае 1551 года был произведен пересмотр жалованных грамот, затронувший не только монастыри, но и все категории грамотчиков-иммунистов как церковных, так и светских{1613}. Сходным образом рассуждал и Н. Е. Носов: «Ставя вопрос об отмене тарханов, правительство имело в виду их упразднение у всех категорий феодалов, ранее обладавших правом на получение тарханов и несудимых грамот, а не только у одних монастырей. И именно это общее правило было закреплено в <…> новом Судебнике: «тарханных вперед не давати никому, а старые тарханные грамоты поимати у всех» (ст. 43). А коли даже бояре поступились в угоду своих общеклассовых интересов тарханными грамотами <…>, то тем труднее было духовенству отстаивать право на отарханивание только церковных земель — митрополичьих, епископских и монастырских вотчин»{1614}. Более доказательной нам представляется другая точка зрения, высказанная, кажется, впервые С. М. Каштановым. Комментируя статью 43 Царского судебника, он говорил: «Статья 43 была направлена не против светских феодалов, а против духовных вотчинников, получивших в период боярского правления много щедрых тарханов»{1615}. Дальнейшее изучение источников лишь укрепляло С. М. Каштанова в данном мнении. Поэтому в книге, трактующей о финансах в средневековой Руси, историк скажет, что цель майской 1551 года ревизии тарханов, осуществленной в плане реализации статьи 43, «заключалась не в рассмотрении отдельных конкретных грамот, а в широком проведении в жизнь принципа централизации государственных финансов путем ограничения главных податных привилегий духовных феодалов <…>. Принципом ограничения тарханов в мае 1551 г. было уничтожение привилегий монастырей в отношении уплаты важнейших налогов»{1616}. С. М. Каштанова в этом вопросе поддержал А. А. Зимин, который замечал: «Анализ жалованных грамот, произведенный С. М. Каштановым, позволил сделать вывод, что статья 43 Судебника имела совершенно конкретное содержание, т. е. ликвидацию тарханов»{1617}. Причем «статья 43 своим острием была направлена против податных привилегий духовных феодалов»{1618}. Не случайно, надо думать, другие историки, изучавшие практику применения статьи 43, констатировали отсутствие соответствующих документов, относящихся к светским землевладельцам. «Наш материал касается исключительно монастырей», — отмечал П. П. Смирнов{1619}. «К сожалению, в отношении ст. 43 Судебника, — говорил Б. А. Романов, — мы не располагаем материалом общего значения, и далее приходится ограничиться материалом, относящимся лишь к монастырскому землевладению»{1620}. Нам представляется, что концовка статьи 43 Судебника 1550 года, составленная в спешном порядке, была действительно направлена главным образом против привилегий монастырских земельных собственников, хотя положения закона, заключенного в ней, касались всех землевладельцев — и светских, и духовных («тарханных вперед не давати никому; а старые тарханные грамоты поимати у всех»). Но эта всеобщность закона носила, по всему вероятию, формальный характер, являясь видимостью справедливости и равенства всех тарханников перед законом. Это был юридический прием, рассчитанный на то, чтобы затруднить несогласие духовенства с отменой податных привилегий в сфере монастырского землевладения, т. е. обеспечить успешное прохождение статьи 43 Судебника{1621}. Добившись принятия закона, можно было ограничить его действие определенной группой грамотчиков, что мы, собственно, и наблюдаем в практике ревизии тарханов, последовавшей за принятием статьи 43 и затронувшей преимущественно монастырское землевладение. Для этого Избранная Рада обладала необходимыми рычагами власти. Статья 43 дает возможность заглянуть в механизм политики Избранной Рады, построенной на ложных и обманчивых движениях, предпринимаемых ради того, чтобы сбить с толку и заморочить голову противникам проводимого ею курса. Разумеется, бывало и так, что расхождение между законодательством и практикой возникало не по задуманному плану, стихийно, о чем говорит Н. Е. Носов: «Одно дело законодательство, другое — практика, которая зачастую вносила не только коррективы, но и видоизменяла уже принятые правительством общенормативные предписания»{1622}. Однако в данном случае мы имеем дело с преднамеренностью. * * *В связи с обсуждаемой нами сейчас проблемой вспоминается и статья 91 Судебника 1550 года, где говорится: «А попа, и дьякона, и черньца, и черницу, и старую вдовицу, которые питаются от церкви божией, ино их судити святителю или его судьям; а будет простой человек с церковным, ино суд вопчей; а которая вдовица питается не от церкви божией, а жывет своим домом, ино то суд не святителской. А торговым людем городцким в монастырех в городских дворех не жити, а которые торговые люди учнут жыти на монастырех, и тех с монастырей сводити да и наместником их судити. А на монастырех жыти нищим, которые питаются от церкви божией милостынею»{1623}. Толкуя данную статью, И. И. Смирнов, пишет: «Вопросам привилегированного землевладения посвящена также ст. 91 Судебника. Статья эта по содержанию непосредственно примыкает к ст. 43, с той только разницей, что в отличие от ст. 43, рассматривающей вопрос о тарханах в общей форме, ст. 91 рассматривает вопрос о привилегиях монастырского землевладения»{1624}. Видит связь между названными статьями Судебника 1550 года и Н. Е. Носов, полагая, что они закрепили принятое по рекомендации Собора 1549 года «общее решение о ликвидации тарханов»{1625}. Как мы уже отмечали, общая форма статьи 43 служила завесой, скрывающей частный замысел законотворца, направленный против монастырей. Вот почему, на наш взгляд, сходство статей 43 и 91 обнаруживается, прежде всего, в вопросе об отношении законодателя к монастырским привилегиям, которое в обоих случаях является явно негативным, что позволяет усматривать в этих статьях правовую акцию, подрывающую традиционные устои жизни русских монастырей. Статью 91 Царского судебника исследователи обычно сравнивают со статьей 59 Судебника 1497 года{1626}, которая гласит: «А попа, и диакона, и черньца, и черницу, и строя, и вдову, которые питаются от церкви божиа, то судить святитель или его судия. А будет простой человек с церковным, ино суд вопчей. А котораа вдова не от церкви божий питается, а живет своим домом, то суд не святительской»{1627}. Сопоставляя статью 59 Великокняжеского судебника со статьей 91 Царского судебника, Б. А. Романов замечал: «Дополнение, сделанное к ст. 59 Судебника 1497 г. составителем Судебника 1550 г., придало статье 91 острополитический характер»{1628}. Для убедительности он при этом ссылался на исследования некоторых ученых, в частности на труды М. Ф. Владимирского-Буданова, Н. П. Павлова-Сильванского и М. А. Дьяконова. М. Ф. Владимирский-Буданов, оценивая статью 91, писал: «Это первое известие о прикреплении посадских людей к посаду (к тяглу). Воспрещается задаваться за частных лиц во избежание тягла (причем и право суда в известных границах переходило к частному владельцу, здесь к церкви). Вместе с тем отсюда же вытекает и следующее постановление: люди монастырские не имеют права заниматься торговлею не неся тягла»{1629}. Н. П. Павлов-Сильванский, говоря о закладничестве, замечал: «Впервые было оно воспрещено в середине XVI в. ст. 91 царского судебника 1551 г.»{1630}. М. А. Дьяконов нашел в статье 91 Судебника 1550 года указание на существенное ограничение тяглых городских людей «в праве перехода»{1631}. В советской историографии по-разному отнеслись к этим высказываниям дореволюционных авторов. П. П. Смирнов, например, возражал им: «Запрещение «торговым людям городским» жить «в монастырех», в подмонастырных слободках и около церквей не является новостью. Оно воспроизводит соответствующие положения законодательства Ивана III, писцы которого отбирали у монастырей дворы за исключением одного и все слободки в городах. Возможно даже предположить, что в статьях Судебника мы имеем воспроизведение несохранившегося «указа слободам» Ивана III, на который ссылался для оправдания своего законодательства Иван IV в речи Стоглавому собору. Во всяком случае, статья 91-я Царского судебника говорит об ограничении права церковных слободчиков, а не об ограничении права посадских людей на выход из посада. Торговых и городских людей выводят из слобод по торгу и промыслу, а не по посадской старине. Статья ни в коем случае не может быть истолкована как указание на прикрепление посадских людей к тяглу, как это думали Н. П. Павлов-Сильванский и М. А. Дьяконов»{1632}. Иначе была принята идея о закладчиках и закладничестве согласно статье 91 Судебника 1550 года. Так, А. А. Зимин говорил: «Посадским людям — закладчикам посвящена статья 91, провозгласившая, что «торговым людем городцким в манастырех в городских дворех не жити». П. П. Смирнов полагал, что в статье воспроизведен в какой-то мере текст несохранившегося указа о слободах Ивана III, на который ссылался Иван Грозный в речи, обращенной к Стоглаву. Так это или иначе, но статья 91 еще не решала вопроса о слободах по существу, и к этой теме правительству пришлось вернуться уже в конце 1550 г. Общее постановление, направленное на борьбу с закладничеством, показывало возросшую роль посада и стремление правительства учесть в какой-то мере требования горожан»{1633}. Довольно обстоятельно развивает тему о закладчиках и закладничестве применительно к статье 91 Царского судебника И. И. Смирнов. Приведем его суждения по возможности полнее. «Одной из важнейших привилегий монастырского землевладения, — пишет он, — было право принимать закладчиков. Лица, заложившиеся за монастырь, попадали под защиту монастыря (так как на них распространялось действие монастырских иммунитетов), становясь вместе с тем и подсудными монастырскому суду. Закладничество представляло собой широко распространенное явление в XVI в. Закладчики составляли основной контингент населения монастырских слобод, насчитывавшихся в большом количестве в XVI в. и быстро увеличивавшихся в числе. Причины развития закладничества надо искать в общих процессах социально-экономического развития Русского государства. Закладничество было одним из каналов, дававших возможность торгово-ремесленному населению посадов освобождаться от все растущего посадского тягла, создавая вместе с тем для закладчиков более благоприятные условия их хозяйственной деятельности. Монастыри в свою очередь были заинтересованы в росте количества закладчиков, с которых монастырь взимал подати в свою пользу. Напротив, правительство Ивана IV заняло в вопросе о закладничестве резко отрицательную позицию. Политика правительства Ивана IV в вопросе о закладчиках являлась политикой борьбы с закладничеством и была направлена на создание условий, долженствовавших если не ликвидировать закладничество совсем, то, во всяком случае, ограничить его размеры и затруднить дальнейшее развитие закладничества. Вместе с тем это была политика укрепления позиций посада, население которого особенно ощущало на себе результаты развития закладничества. Ст. 91 Судебника явилась конкретным выражением этой политики. Статья эта запрещала городским торговым людям жить «в монастырех» (т. е. на монастырской «белой» земле), предписывая им жить в городских дворах. При этом ст. 91 устанавливала, что в случае нарушения городскими людьми запрещения жить в монастырях, их следовало «сводить» с монастырей в посад. Запрещая таким образом закладничество торговых людей за монастыри, ст. 91 одновременно изымала этих торговых людей — бывших закладчиков — из-под монастырской юрисдикции, восстанавливая подсудность их наместникам («да и наместником их судити»)»{1634}. В приведенных словах И. И. Смирнова немало верных наблюдений. Но это отнюдь не означает, что к ним нечего больше добавить. Нуждается в дальнейшем обсуждении вопрос о закладничестве в контексте событий середины XVI века и в том числе с точки зрения религиозно-нравственной и моральной. Нет должной ясности и в том, какую цель преследовало правительство Сильвестра и Адашева, вступая в борьбу с монастырским закладничеством. Мысль об «укреплении позиций посада» здесь хотя и правильна, но, по нашему мнению, недостаточна, поскольку Избранная Рада, как мы неоднократно убеждались, подстраиваясь под запрос текущего момента и якобы соответствуя велению времени, на самом деле проводила свою политику и решала собственные задачи, расходившиеся с историческими потребностями Русского государства. Н. П. Павлов-Сильванский, характеризуя закладничество, писал: «Закладничество было не сделкой залога лица, но добровольным подчинением одного лица другому, более сильному, с целью снискания защиты, покровительства господина. Закладень и закладчик был не заложенным человеком, закупом или кабальным холопом; он был клиентом господина-патрона»{1635}. Важно иметь в виду, что между господином-патроном (в нашем случае монастырем) и закладчиком устанавливались такого рода отношения, которые позволяли последнему ближе познакомиться с монастырской жизнью и оценить ее привлекательные стороны. Наверное, кое-кто из закладчиков уходил потом в монахи, а кто-то через своих родственников, оставшихся на посаде, содействовал связям посадских людей с тем или иным монастырем. Следовательно, закладничество являлось, помимо прочего, фактором определенного влияния монастырей на посадские миры, линией связи посадского люда с духовными корпорациями, причем связи многосторонней: экономической, политической, культурной и религиозной. Мы полагаем, что именно против этих связей русских монастырей с посадскими людьми и монастырского влияния на посадские миры была направлена статья 91 Судебника 1550 года, подготовленного правительством Избранной Рады, хотя внешне все выглядело так, будто власть намеревается осуществлять политику ограничения закладничества ради укрепления позиций посада. Избранная Рада, как нам представляется, старалась не столько укрепить позиции посада (подобное укрепление безусловно имело место), сколько усилить свои позиции среди посадского населения. Перед нами политическая борьба за влияние на горожан, особенно жителей Москвы и других, расположенных поблизости, крупнейших городов Русии. Этот своеобразный интерес Избранной Рады к посадскому люду объясняется, по всей видимости, возможностью его использования в политических целях. Пример тому — спровоцированные противниками русского «самодержавства» июньские 1547 года события в Москве, которые покончили с правлением Глинских и едва не оказались роковыми для Ивана IV и, следовательно, самодержавия, а вместе с ним и православной церкви. Избранная Рада, таким образом, могла рассматривать население посадов как свою политическую опору в борьбе с самодержавной властью царя Ивана. Однако не только с нею, но и с православной церковью. Опять и опять нужно вспомнить религиозную ситуацию, возникшую в середине XVI века. То было время нового оживления ереси в России. И надо сказать, что восприимчивость к ней нередко демонстрировали как раз жители городов, т. е. представители посадских общин. Руководители Избранной Рады, в частности Сильвестр, благосклонно относились к еретикам, усматривая в них своих политических союзников. Вот почему, помимо прочего, они проявляли особый интерес к посадам, где часть людей, напоминавших бюргерство Западной Европы, расположена была (как и на Западе) к ересям. Поэтому ограничение влияния монастырей на жизнь посадов, изоляция их от православных духовных корпораций составляли для Сильвестра и К° одну из важнейших задач. Если оценивать в целом политику Избранной Рады относительно монастырей, отраженную частично в статье 91 Судебника, то надо согласиться с А. Г. Поляком, который писал: «Запрещение Судебника жить посадским людям в монастырях препятствовало закладническим тенденциям церковных феодалов и являлось законодательным отражением борьбы, которую вело правительство с церковью»{1636}. Речь только следует вести о специфическом правительстве во главе с Сильвестром и Адашевым. * * *Положения статьи 91 Судебника 1550 года, по мнению А. А. Зимина, подверглись конкретизации 15 сентября 1550 года, когда «правительство обсуждало с митрополитом Макарием вопрос о церковно-монастырских слободах»{1637}. Сам факт совещания по этому вопросу, состоявшегося после записи статьи 91 Судебника, запрещающей торговым городским людям «жити» в монастырских дворах, свидетельствует о напряженной борьбе, развернувшейся вокруг статуса церковно-монастырских слобод в городах и, в конечном счете, — вообще вокруг земельных прав монастырей. Сентябрьское совещание являлось частным эпизодом общей ситуации, сложившейся к 1550 году и состоявшей, как верно заметил А. А. Зимин, в том, что «правительство Адашева и Сильвестра, используя поддержку близких к ним нестяжателей, рассматривало вопрос о ликвидации церковно-монастырского землевладения. Однако иосифлянскому большинству русской церкви удалось воспрепятствовать осуществлению секуляризационных планов русского правительства»{1638}. Тут у А. А. Зимина все правильно, за исключением словосочетания русское правительство. Более удачно, на наш взгляд, выражение правительство Адашева — Сильвестра, проводившее во многих фундаментальных вопросах государственной жизни, касающихся, прежде всего, русского самодержавия, апостольской церкви и православной веры, антирусскую, прозападную политику. Совещание 15 сентября 1550 года — пример подобного воспрепятствования осуществлению секуляризационных планов правительства Сильвестра — Адашева. По его итогам был составлен «приговор» о монастырских слободах{1639}, утвержденный впоследствии Стоглавым собором и дошедший до нас в главе 98 Стоглава{1640}. «Приговор» гласит: «Лета 7059 сентября в 15 день говорил с государем царем и великим князем преосвященный митрополит Макарий московский и всеа Русии: приговорил еси государь, преже сего с нами с своми богомолцы, и со архиепископы, и епископы о наших митрополичьих слободах, и о архиепископльих, и епископльих, и о монастырских, что слободам всем новым тянути с городскими людьми всякое тягло и с судом; и мы ныне тот приговор помним: в новых слободах ведает Бог да ты, опричь суда; а ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том тем слобожанам нашим запустети; а преже того твои государевы наместники и властели наших слобожан не суживали; а ты бы, государь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан судити не велел. А ныне твой царский приговор с нами: что в те новые слободы вышли посацкие люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад, и о том ведает Бог да ты, государь, как тебе Бог известит; а впредь бы митрополиту, и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судити о всяких делех по прежним грамотам; а новых бы слобод не ставити и дворов новых в старых слободах не прибавливати, разве от отца детем, или от тестя зять, или от брата братия отделяются и ставят свои дворы; а в которых старых слободах дворы опустеют, и в те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по старине, как преже сего было, а отказывати тех людей на срок о Юрьеве дни осеннем по государеву указу по старине же; а с посаду впредь градских людей в слободы не называти и не приимати, разве казаков нетяглых людей; а которые християне митрополичьи или архиепископльи и епископльи похотят из слобод идти на посад или в села жити, и тем людем ити вольно на тот же срок»{1641}. Рассматривая данный «приговор» и называя его уложением (положением) о слободах{1642}, П. П. Смирнов обращает внимание на следующие его установления: «1. Новых слобод не ставить. Возникшие новые слободы лишить всяких привилегий по суду и налогам и включить в тягло: «слободам всем новым тянут з градскими людми во всякое тягло и з судом». Вышедших в них после писцов посадских людей вернуть в город на посад. 2. В старых слободах дворов не прибавлять. Новые дворы можно ставить только в случаях семейных разделов среди слобожан, «а опричным прихожим людем градским в тех старых слободах дворов не ставити». 3. Только в запустевшие дворы разрешается называть «по старине» пашенных и непашенных людей, но исключительно из волостей и сел, а не городских людей. Из городов допускается прием в пустые места лишь казаков, т. е. работных наемных бестяшых людей, но не посадских тяглых людей. 4. «Отказывать» таких приходцев можно только в Юрьев день осенний. Также и своих слободчан владельцы слобод обязаны выпускать в Юрьев день как в посад, так и в села»{1643}. По П. П. Смирнову, «эти решения царь Иван Васильевич не напрасно мотивировал законами своего деда и отца: принципиально нового в них не было ничего»{1644}. В последний тезис П. П. Смирнова следует внести ясность и подчеркнуть: эти решения не содержали ничего принципиально нового не потому, что находились в главном русле политики предшественников Ивана IV, а потому, что имели прецеденты, обусловленные влиянием на верховную власть еретических группировок Федора Курицына и Вассиана Патрикеева. И в этом отношении в середине XVI века имело место возвращение к тому, что мы наблюдали в княжения деда и отца Ивана Грозного: хозяйничанье во власти фаворитов, проводивших чуждую национальным интересам Русии политику. Уложение о слободах, согласно П. П. Смирнову, отразило стремление царя Ивана Васильевича и правительство Избранной Рады ликвидировать новые слободы церковных учреждений, «а равно удержать старые владельческие слободы в прежних размерах и роли XIV–XV вв., уничтожая в их лице конкурентов посадскому населению государевых городов»{1645}. И.И.Смирнов, в отличие от П.П.Смирнова, резюмировал содержание «приговора» о слободах «в виде пяти пунктов: 1. Посадские люди, вышедшие в новые слободы «после описи», должны быть выведены обратно «в город на посад» с оговоркой, что в каждом отдельном случае вопрос о выводе решается по усмотрению государя. 2. В отношении старых слобод церковные и монастырские власти сохраняли прежние права «о суде и о всяких делех, по прежним грамотам». 3. Запрещалось ставить новые слободы и новые дворы в старых слободах (в отношении «опричных прихожих людей», городских и сельских, запрет носил абсолютный характер; старым слобожанам разрешалось «выставливатися и своими дворами жити» в случае семейных разделов: «от отца детем или от тестя зятии или от братии братии»). 4. Владельцы слобод сохраняли право «называть» в запустевшие дворы в старых слободах «сельских людей пашенных и непашенных»; посадских же людей (кроме нетяглых «казаков») запрещалось как «называть» самим, так и принимать пришедших добровольно. 5. За населением же церковных и монастырских слобод, напротив, сохранялось право выхода как «в город на посады», так и «села», с соблюдением правил Судебника о крестьянском отказе»{1646}. «Приговор» о слободах, по словам И. И. Смирнова, «не разрешил вопроса во всем его объеме. Линия правительства Ивана IV на ликвидацию привилегированных слобод и на слияние их с тяглыми посадами <…> встретила упорное сопротивление со стороны церкви. Правительство Ивана IV оказалось не в силах преодолеть это сопротивление и вынуждено было пойти на компромисс, уступив в ряде пунктов требованиям церковных и монастырских властей. Наиболее крупной уступкой церкви со стороны правительства Ивана IV было оставление за церковью в неприкосновенности ее иммунитетных привилегий в отношении старых слобод. Уступив церкви в этом основном вопросе, отказавшись от мысли ликвидировать привилегированные слободы, правительство Ивана IV, тем не менее, существенно ограничило сферу действия церковных и монастырских иммунитетов запрещением устройства новых слобод и новых дворов в старых слободах. А также выводом тех посадских людей, которые поселились в новых слободах после «описи», обратно на посад. Другим направлением, по которому шло ограничение церковных и монастырских привилегий, был запрет перезывать или принимать на запущенные дворы в старых слободах пришлых посадских людей. Запрещая, таким образом, закладничество посадских людей за церковь и монастыри, правительство Ивана IV одновременно стимулировало обратный процесс — выход закладчиков из церковных и монастырских слобод, как в посад, так и в села»{1647}. Б. А. Романов рассматривает «приговор» 15 сентября 1550 года в качестве представления о слободах, сделанного в тот день митрополитом Макарием царю Ивану{1648}. Указав на то, что И. И. Смирнов резюмирует «текст закона о слободах» в 5 пунктах, а П. П. Смирнов — в 4-х (несмотря на количественное различие тожественных друг другу), Б. А. Романов предлагает выделить «следующие пять моментов: 1) изложение Макарием прежнего приговора о новых слободах, который он, митрополит, «помнил», 2) жалоба его на расширительное толкование наместниками этого приговора (отразившегося в ст. 43 Судебника) в смысле распространения его на старые слободы <…>, 3) пожелание-просьба к царю прекратить это самоуправство («и ты бы государь своим наместником впред… не велел судити»), 4) изложение приговора, текст которого был в руках митрополита («с нами») и не подлежал ни перетолковыванию, ни оспариванию: «что в те новые слободы вышли посадские люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад», и тут же выражение готовности против приговора не возражать: «и о том ведает бог да ты, государь, как тебе о них бог известит», и 5) изложение в виде пожелания-просьбы, проекта указа о слободах старых и новых <…>»{1649}. Обращался к содержанию сентябрьского «приговора» и А. А. Зимин. «Согласно «приговору» 15 сентября 1550 г., духовным феодалам запрещалось основывать новые слободы, хотя старые за ними сохранялись. В церковно-монастырских слободах запрещалось ставить новые дворы (за исключением случаев семейного раздела) <…>. Из новых слобод на посад выводились бежавшие туда посадские люди-закладчики. Запрещался впредь прием в эти слободы городских людей-новоприходцев (кроме казаков). В запустевшие слободы разрешалось сзывать людей, но из сельских местностей (за неделю до и после Юрьева дня), а не с посада. В те же сроки разрешался выход слободским людям духовных беломестцев на посад или в деревню. В целом же «приговор» 15 сентября 1550 г. носил компромиссный характер, ибо сохранял за духовными феодалами старые слободы и предоставлял им даже некоторые возможности для пополнения их населения со стороны»{1650}. Довольно обстоятельный, можно сказать, детальный обзор положений «приговора» 15 сентября 1550 года произвел Н.Е.Носов: «1). «Что в те новые слободы вышли посацкие люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад, и о том ведает Бог да ты государь, как тебе о них Бог известит». Итак, предполагалось, чтобы критерием для определения факта — является ли слобода новой или старой — было последнее государево письмо безотносительно времени, когда оно было произведено. Слободы, попавшие в него, считаются «старыми», не попавшие — «новыми». Критерий же давности, таким образом, терял силу, а главное, все церковные приобретения времени царского малолетства (после Василия III), попавшие в письмо, считались уже не подлежащими действию нового закона. Но тогда получается, что большинство церковных городских приобретений времени боярского правления не попадало под действие нового закона, поскольку последние наиболее широкие поуездные переписи были проведены правительством в середине 40-х годов XVI в., когда уже имело место явное ограничение боярского произвола. В то же время правительство 50-х годов <…> добивалось как раз обратного — ограничения льгот белых слобод, полученных церквами именно «при боярах». Значит, и тут предложения церковных иерархов отнюдь не совпадали с намерениями правительства. И Макарий это прекрасно понимал. Не случайно же он ставил принятие нового приговора в зависимость от царской совести: «о том ведает Бог да ты государь, как тебе о них Бог известит» (ясен и подтекст: пусть царь еще раз взвесит, достойно ли утеснять церковь, ведь ликвидация белых слобод — дело Богу неугодное, и ответственность за это небогоугодное деяние лежит на самом царе). 2) «А впредь бы митрополиту и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судьи о всяких делех по прежнем грамотам». Тут уже все в пользу церкви — полное сохранение старых слобод и старых тарханов. 3) «А новых бы слобод не ставити и дворов новых в старых слободах не прибавляти, разве от отца детем, или от тестя зять, или от брата братия отделяются и ставят свои дворы». Но это на будущее — запрет создания новых слобод. Конечно, церковных иерархов это вряд ли радовало, но зато не влекло ни к каким ограничениям уже имеющихся городских льгот. 4) «А в которых старых слободах дворы опустеют, и в те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по старине, как преж сего бывало, а отказывати тех людей на срок о Юрьеве дни осеннем по государеву указу по старине же». Опять рекомендация отнюдь не ограничительного свойства в отношении «старых слобод» — обеспечение их законного людского «воспроизводства». 5) «А с посаду впредь градских людей в слободы не называть и не принимати, разве казаков нетяглых людей. А которые християне митрополичьи или архипископльи и епископльи похотят из слобод итти на посад или в села жити, и тем людем ити вольно на тот же срок». Постановления, явно направленные в защиту интересов черных посадских людей, поскольку, с одной стороны, оберегали черные миры от «переманивания» посажан в белые слободы. А с другой — открывали даже «старым» беломестцам широкие и «законные» возможности выхода из феодальной зависимости от церкви на посад. Значит, именно в данном вопросе требования посадских людей были настолько решительными, что не считаться с ними было уже невозможно»{1651}. Свою задачу мы видим не в том, чтобы вслед за упомянутыми исследователями «разложить» сентябрьский 1550 года «приговор» на содержательные составляющие элементы. Это сделано ими достаточно хорошо и основательно. Для нас сейчас важнее оценить «приговор» со стороны религиозно-политической борьбы, развернувшейся в верхах русского общества середины XVI века. И здесь весьма существенным является тот факт, что «приговор» о слободах состоялся в обстановке подготовительных мер к секуляризации церковно-монастырского землевладения, предпринимаемых правительством Сильвестра — Адашева{1652}, что этот приговор вырабатывался на фоне «того радикализма в отношении ограничения церковных имуществ, который столь явственно дает о себе знать во всей правительственной политике после 1549 г. и особенно в канун Стоглавого собора»{1653}. Не менее значимо и то обстоятельство, что встреча и разговор митрополита с царем о слободах имели место уже после включения в Судебник 1550 года статей о церковно-монастырских слободах, к чему привлек внимание Н. Е. Носов{1654}. Им же высказана догадка, согласно которой встреча и беседа Макария с Иваном, завершившаяся принятием «приговора» о монастырских слободах, состоялась по ходатайству первосвятителя{1655}. Не от хорошей, разумеется, жизни митрополит Макарий просил государя об аудиенции. Русская православная церковь переживала тогда тревожные дни в один из наиболее опасных и критических моментов в своей истории. Государственная власть, оказавшаяся в руках противников Святой Руси, наносила церкви удар за ударом. Их отзвуки слышны и в сентябрьском «приговоре» («а ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том тем слобожанам нашим запустети; а преже того твои государевы наместники и властели наших слобожан не суживали»). О чем тут речь? По-видимому, как только вопрос о слободах вошел в Судебник 1550 года, наместники и волостели, исполняя указание центрального правительства, руководимого Сильвестром и Адашевым, начали судить церковно-монастырских слобожан, не дожидаясь окончательного утверждения закона, почему митрополит Макарий и обратился к царю Ивану{1656}. Но главная причина обращения Макария к Ивану IV заключалась в самом государе, его личном отношении к православной церкви. Секуляризационную политику середины XVI века в России некоторые историки всецело связывают непосредственно с Иваном IV, в крайнем случае — с правительством Ивана IV, выводя на авансцену этой политики царя и делая его чуть ли не вдохновителем ее. Под их пером царь Иван выглядит как «самостоятельная политическая сила», как «активный политический деятель», знающий, чего он добивается, и выступающий в «ряде острых вопросов против интересов церкви»{1657}. Это — спорная, если не ошибочная точка зрения. Прав был Н. Е. Носов, когда говорил: «Царь вряд ли уж был так последователен в своих взглядах на церковь, к которой он всегда имел особое пристрастие»{1658}. Возражая А. А. Зимину, писавшему о провале «царской программы реформ», предусматривающей секуляризацию церковных земель{1659}, Н. Е. Носов замечал: «Правильно ли так уж подчеркивать, что это была именно «царская» программа, ведь отношение самого царя к вопросу о секуляризации далеко не так уже ясно»{1660}. Эти ремарки Н. Е. Носова тем более оправданны, что сам А. А. Зимин в другой части своей книги писал: «Сильвестр оказывал большое влияние на всю правительственную деятельность конца 40-х — начала 50-х годов XVI в. и явился инициатором секуляризационных проектов…»{1661}. Есть основания полагать, что «программа секуляризации церковных земель» была навязана Ивану IV Сильвестром и Адашевым «с товарищи», т. е. Избранной Радой. Царя, впрочем, нетрудно было в данном случае уговорить, поскольку предшествующий период боярского правления надолго оставил в нем тяжелые воспоминания. А ведь именно в данный период щедро раздавались монастырям податные и судебные льготы{1662}. Спекулируя на этих воспоминаниях, партия Сильвестра — Адашева добивалась своих целей в борьбе с церковно-монастырским землевладением. Однако необходимо подчеркнуть, что при всем том Иван Грозный всегда являлся верным сыном православной церкви, что митрополиту Макарию, конечно же, было хорошо известно. Поэтому он и обратился к царю с жалобой на утеснение церкви представителями светской власти, ободряемыми правительством Избранной Рады. Результатом встречи с государем митрополит мог быть доволен. Иван IV подтвердил права духовенства на старые слободы («а впредь бы митрополиту, и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судити о всяких делех по прежним грамотам»). «Полное сохранение старых слобод и тарханов» — так резюмировал, насколько мы знаем, данное решение Н. Е. Носов{1663}. «Оставление за церковью в неприкосновенности ее иммунитетных привилегий в отношении старых слобод», — говорил, как известно, по тому же поводу И. И. Смирнов{1664}. Иван, стало быть, в своем благожелательном отношении к царским богомольцам (митрополиту, архиепископам, епископам и монастырям) зашел настолько далеко, что пренебрег собственным Судебником, в частности статьей 43, предписывающей «старые тарханные грамоты поимати у всех». Думается, здесь заключено, помимо прочего, свидетельство о том, что к составлению статьи 43 Иван IV был не причастен, что это дело рук Сильвестра и его друзей{1665}. Распоряжением царя Ивана насчет новых слобод митрополит Макарий был, по-видимому, также удовлетворен, поскольку, согласно этому распоряжению, к новым относились лишь те слободы, куда «вышли посацкие после писца», т. е. после переписи середины 40-х годов XVI века{1666}. Стало быть, белые слободы, которыми обзавелось духовенство, можно сказать, совсем недавно, в годы боярского правления, переводились в соответствии с «приговором» в разряд старых, находящихся в собственности «по старине» с правом суда «о всяких делех по прежним грамотам». Это полностью противоречило усилиям правительства Избранной Рады, добивавшегося «как раз обратного — ограничения льгот белых слобод, полученных церквами именно «при боярах»{1667}. В этой связи Н. Е. Носов заключает: «Значит, и тут предложения церковных иерархов отнюдь не совпадали с намерениями правительства»{1668}. Следовало бы, на наш взгляд, сказать, что и тут царь защитил своих богомольцев, разойдясь с установками Сильвестра и Адашева, настроенных явно не в пользу русской православной церкви. Ограничения, касающиесяновых слобод, не затрагивали основ церковного здания и потому с легким сердцем могли быть приняты митрополитом Макарием и другими иерархами русской церкви, прекрасно осознававшими финансовые нужды государства, начавшего войну с давним врагом — Казанским ханством. Но и в вопросе о новых слободах Иван IV сделал серьезное послабление духовенству, состоявшее в том, что в них всем ведал государь, «опричь суда». Правда, формула «опричь суда» вызывает у исследователей разное видение проблемы. М. А. Дьяконов, к примеру, полагал, что эта формула была составлена на Стоглавом соборе, который «вспомнил недавний приговор 1550 года 15 сентября и внес его в Стоглав с некоторыми изменениями. По старому приговору было поставлено, «что слободам всем новым тянути з градскими людьми во всякое тягло и з судом». Собор постановил: «и мы ныне тот приговор помним, — в новых слободах ведает бог да ты, государь, опричь суда»{1669}. И. И. Смирнов не согласился с М. А. Дьяконовым в истолковании формулы опричь суда: «С таким толкованием формулы «в новых слободах ведает Бог да ты, государь, опричь суда» согласиться нельзя. Формула эта никак не может быть признана за новый приговор»{1670}. И. И. Смирнов предлагает перевести ее словами кроме наместничьего суда{1671}. В результате «исследуемый текст принимает следующий вид: новыми слободами ведает бог да государь, кроме наместничьего суда»{1672}. Затем историк спрашивает: «В чем смысл этой формулы?» И отвечает: «Я полагаю, что смысл ее заключается в утверждении, что, за исключением вопросов суда (подлежащих ведению наместников), никто, кроме государя, не имеет права вмешиваться в дела новых слобод. Иными словами, я считаю., что в словах «в новых слободах ведает бог да ты, государь, опричь суда» следует видеть формулу, определяющую характер и объем иммунитетных привилегий новых церковных и монастырских слобод»{1673}. Наблюдения И. И. Смирнова показались А. А. Зимину неосновательными. Он писал: «И. И. Смирнов слова «опричь суда» трактует как указание на наместничий суд, который он почему-то противопоставляет подведомственности слобод царю. Скорее всего речь шла о сохранении подсудности церковных людей митрополиту <…>»{1674}. Формула сентябрьского «приговора» 1550 года опричь суда навела Н. Е. Носова на мысль о существовании «двух приговоров о новых слободах — первого, отменяющего все их тарханные и судебные привилегии, и второго, отменяющего лишь тарханные привилегии. Иначе говоря, первый («прежний») царский приговор о ликвидации тяглых и судебных привилегий новых церковных городских слобод к сентябрю 1550 г. имел силу (и то по усмотрению царя) лишь в отношении тягла, а в отношении же суда он якобы уже был изменен (и именно об этом митрополит и напоминал царю) — теперь слобожане снова, как и в старину, подсудны лишь церковным властям»{1675}. Для нас не столь важно, был ли один «приговор» о церковно-монастырских слободах или два. Нам представляется более существенным, что Иван IV внял просьбе митрополита и, вопреки наставлениям своих советников из круга реформаторов, вооружившихся, как он потом скажет, на церковь, и даже вопреки закону (ст. 43 Судебника 1550 г.), восстановил в значительной мере иммунитетные права церкви и монастырей на городские слободы, включая определенную подсудность новослободчиков церковным властям. Вот почему мысль о компромиссном характере «приговора» 15 сентября 1550 года, развиваемая некоторыми историками{1676}, является, по нашему мнению, весьма условной и не вполне соответствующей реальному ходу событий. Царю Ивану не было никакой надобности идти на компромисс с митрополитом Макарием, поскольку государь всегда сохранял верность православной церкви. И уж если говорить о компромиссе, то по отношению к Ивану и его советникам, начавшим атаку на апостольскую церковь. Но и здесь Иван Васильевич поступил так, как это едва ли могло понравиться Сильвестру и другим деятелям Избранной Рады, оставив им в «утешение» запрет на учреждение новых церковно-монастырских слобод, а в остальном восстановив отнятые было реформаторами права церкви и монастырей на городские слободы и население этих слобод. Сильвестр, Адашев и другие их «приятели» готовились к решающей схватке с митрополитом и его сторонниками на Стоглавом соборе{1677}. * * *Однако, судя по всему, они переоценили свои силы и упустили время, пребывая в некоторой самоуверенности насчет исхода борьбы. И для них, похоже, была неожиданной неколебимая стойкость митрополита Макария и других высших иерархов, решительно отвергающих планы изъятия церковного имущества. Но особенно ошеломляющее впечатление на временщиков, по-видимому, произвела уступчивость по отношению к митрополиту, проявленная царем Иваном, который, как им казалось, должен был поступать согласно предписаниям Избранной Рады и ее вождей Сильвестра с Адашевым. Случилось, однако, нечто иное: появились признаки восстановления былого согласия митрополита и царя. Вот почему правительство Избранной Рады пытается в спешном порядке укрепить «свои позиции среди высших церковных иерархов. В конце 1550-го — начале 1551 года епископом Рязанским был назначен архимандрит новгородского Юрьева монастыря Кассиан, откровенный противник иосифлян. Во время Стоглава в Москву вызывается игумен Соловецкого монастыря Филипп, принадлежавший к известной боярской фамилии Колычевых. В 1537 г. в связи с делом князя Старицкого были казнены троюродные братья Федора (Филиппа), а сам он был пострижен в монахи. Колычевы принадлежали к оппозиционному боярству. Характерна близость Филиппа к заволжским старцам и Сильвестру, который, как и семейство Колычевых, поддерживал старицких князей»{1678}. Кроме того, в самый канун открытия Стоглавого собора игуменом крупнейшего Троице-Сергиева монастыря назначается старец Артемий{1679} — известный нестяжатель и еретик, зарекомендовавший себя ярым противником монастырского землевладения{1680}. Это назначение состоялось, как полагает А. А. Зимин, при активном участии попа Сильвестра{1681}. По словам ученого, «подготовляя созыв Стоглавого собора, Сильвестр и другие сторонники нестяжательства стремились назначить Артемия как своего единомышленника на важный церковный пост троицкого игумена»{1682}. Надо сказать, что Н. А. Казакова несколько иначе расставляет акценты, приписывая инициативу назначения заволжского старца на столь ответственный пост всецело Ивану IV: «Из Порфирьевой пустыни в 1551 г. по повелению царя Артемий был вызван в Москву и поставлен в игумены Троице-Сергиева монастыря. Перемена в судьбе Артемия была связана с намерением Ивана IV поставить на Стоглавом соборе вопрос о секуляризации монастырских земель: готовясь к проведению этой важной меры, царь нуждался в единомышленниках»{1683}. Полагаем, что роль царя Ивана здесь была в значительной мере формальной: хотя Артемий и стал игуменом Троице-Сергиева монастыря «по государеву велению»{1684}, но с подачи попа Сильвестра{1685} и, конечно же, под его влиянием{1686}. Артемий потянул за собой своих единомышленников: «В свою очередь Артемий добивается назначения одного из видных заволжских старцев — Феодорита архимандритом суздальского Ефимьева монастыря»{1687}. Большие надежды реформаторы возлагали на авторитетное слово Максима Грека, переведенного в Троице-Сергиев монастырь по ходатайству новоиспеченного игумена Артемия{1688}, за которым, безусловно, стоял все тот же Сильвестр. Все названные лица (за исключением Максима Грека) так или иначе участвовали в работе Стоглавого собора. Несмотря на эти меры, противникам митрополита Макария не удалось создать среди духовенства, присутствующего на соборе, сколько-нибудь серьезную группу поддержки секуляризационного проекта. Показательно, что в составе святителей (архиепископов и епископов), которые на соборных заседаниях имели решающий голос{1689}, идеи нестяжателей разделял, по наблюдению А. А. Зимина, лишь один рязанский епископ Кассиан{1690}. Понятно, отчего в исторической литературе не раз высказывалось мнение об «иосифлянском большинстве» на Стоглавом соборе{1691}. Это верно, но, пожалуй, отчасти. И поэтому Н. Е. Носов имел основание усомниться в мысли о «полном засилии иосифлян на соборе»{1692}. Однако эти историографические контроверзы нуждаются в пояснении. Дело в том, что каждая из них, на наш взгляд, частично воспроизводит реальную картину, запечатлевшую состав участников Стоглавого собора. Как явствует из обращения царя к собравшимся в Кремле, на Соборе присутствовали не только представители духовенства (в том числе, возможно, белого{1693}), но и миряне: «И вы, господне, святии святителие, пресвященнейший отець мой Макарий, митрополит всея Русии, и все архиепископы, и епископы, и преподобный архимандриты, и честный игумени, и весь освященный събор, и иноцы, и прочии вси Божии молебници, тако же и братиа моя, и вси любимии мои князи и боляре, и воини, и все православное христианьство…»{1694}. О присутствии мирян на Стоглавом соборе историки говорят сравнительно давно{1695}, хотя роль им при этом отводят разную: одни — пассивную, другие — активную. По мнению Л. В. Черепнина, «наряду с царем и духовными иерархами на соборе присутствовала Боярская дума. Юридически это было совещание церковное; очевидно, духовенству принадлежало и решение разбиравшихся там дел; фактически же то или иное соборное постановление подсказывалось реальным соотношением сил представителей господствующего класса, встретившихся на соборе»{1696}. И надо заметить, что это соотношение сил было не в пользу реформаторов{1697}. У них, по-видимому, имелось немало сторонников среди светских лиц, принимавших участие в обсуждении вопросов, вынесенных на соборное рассмотрение{1698}. Некоторая, причем весьма незначительная, часть духовенства шла в фарватере их секуляризационной политики. Отсюда Н. Е. Носов мог заключить об отсутствии полного засилья иосифлян на соборе. Но среди тех же мирских людей, участвовавших в соборной деятельности, особенно среди духовенства и, прежде всего, высшего, подавляющее число оставалось за приверженцами традиционного уклада церковной жизни, что позволило исследователям говорить об «иосифлянском большинстве» на Стоглавом соборе. Следовательно, обе точки зрения допустимы, поскольку каждая из них по-своему права. Ну, а что Иван IV? Какова его роль на Стоглавом соборе? С. Б. Веселовский, касаясь данного сюжета, замечал: «Обе стороны, т. е. нестяжатели и иосифляне, стремились в борьбе использовать авторитет царской власти и вовлекали в свою борьбу молодого царя, облекая свои решения в форму «царских вопросов и ответов»{1699}. Еще более безвольным выглядит царь Иван под пером И. Н. Жданова, согласно которому государь «во всяком деле полусознательно и полуохотно должен был подчиняться влиянию других»{1700}. И уже вовсе опереточный образ Ивана встает перед взором В. В. Шапошника: «Иван, как маятник, качался из одной стороны в другую — то поддерживал церковное руководство, то Адашева»{1701}. На Стоглавом соборе «царь выступал лишь рупором сторон, озвучивал поступавшие к нему предложения»{1702}. Несмотря на молодость, царь не был столь безынициативен и безволен, как его изображают названные историки. Он был глубоко верующим православным христианином, преданным всей душою русской церкви, и с этой позиции государь не сходил до конца своих дней. К церковно-монастырскому землевладению Иван относился более чем терпимо, можно сказать, благосклонно. Его в данном случае никоим образом нельзя объединять с Избранной Радой и ее «начальниками» Сильвестром и Адашевым. Мы видели, как легко митрополит Макарий и царь Иван нашли общий язык относительно церковно-монастырских слобод. На Стоглавом соборе наблюдалось нечто схожее. Иван не дал реформаторам увлечь себя, выступив в качестве арбитра, стоявшего над противоборством сторон. Здесь, кажется, партия Сильвестра — Адашева сильно просчиталась, полагая, что самодержец будет послушным орудием в ее руках. Этого, однако, не произошло. В речах Ивана IV на соборе прямых выводов о необходимости секуляризации мы не найдем{1703}. Такая уклончивая и потому исполненная скрытого смысла позиция царя Ивана не могла не вдохновлять иосифлян. Следовательно, «иосифлянское большинство» обеспечило хотя и не полную, но все ж таки победу церкви в спорах о церковно-монастырском землевладении на Стоглавом соборе, тогда как предопределило эту победу поведение царя, хотя и произносившего на нем немало слов, но занявшего в данном вопросе неопределенную, как бы отстраненную позицию, стимулировавшую и в известном смысле поощрявшую активность противников секуляризации, которые, воодушевившись, реализовали свое большинство. Судя по всему, борьба в преддверии Стоглавого собора и на самом Соборе приобрела весьма острый характер. Сторонники ликвидации церковно-монастырского землевладения цеплялись за любую возможность, чтобы провести свое соборное решение. Они пытались мобилизовать даже тех сторонников, которые не принимали непосредственного участия в работе Собора. А. А. Зимин пишет: «После окончания основной части работ Стоглава Иван Грозный предпринимает еще одну попытку добиться изменения принятых решений в духе его программы. По его настоянию решения Стоглава были посланы в Троице-Сергиев монастырь трем сведенным с престола «святителям» — бывшему митрополиту Иоасафу, бывшему ростовскому архиепископу Алексею и бывшему Троицкому игумену Ионе Шелепину, которые должны были высказать свое мнение о соборных постановлениях»{1704}. Мы не стали бы утверждать, что секуляризация входила в программу Ивана Грозного. Она являлась частью программы Избранной Рады, против которой Грозный по ряду политических причин и обстоятельств середины XVI века не мог пока открыто выступить{1705}. Не все просто и со временем отправки соборных материалов на «экспертизу» «трем сведенным с престола «святителям». Надо сказать, что в этом вопросе А. А. Зимин шел вслед за Д. И. Стефановичем, который заседания Стоглавого собора приурочил к январю — февралю 1551 года (не исключая, впрочем, их продолжения вплоть до 11 мая), а поездку соборных посланцев в Троицу отнес ко времени «около 23 февраля», когда завершилась основная работа собора{1706}. Точка зрения Д. И. Стефановича показалась убедительной и Н. Е. Носову, который писал: «Собор 1551 года <…> проходил, как установил Д. Стефанович, в январе — феврале, завершив основную работу до 23 февраля, когда было начато составление самого соборного уложения, т. е. Стоглава. Примерно в это же время (около 23 февраля) решения Стоглава были направлены в Троице-Сергиев монастырь на просмотр бывшему митрополиту Иоасафу, ответ которого, адресованный, как полагает Д. Стефанович, видимо, непосредственно самому царю, был получен около 10 марта…»{1707}. Другой срок прибытия делегации собора в Троице-Сергиев монастырь, причем довольно неопределенный, называет Л. В. Черепнин: «До 11 мая текст «Соборного уложения» посылался еще на просмотр бывшему митрополиту Иоасафу в Троице-Сергиев монастырь»{1708}. Несколько иную картину, чем Д. И. Стефанович и его продолжатели, рисует Р. Г. Скрынников: «После собора Иван IV направил в Троице-Сергиев монастырь своего ближайшего советника попа Сильвестра. Реформаторы надеялись, что крупнейший русский монастырь станет их надежным союзником в деле преобразований. Формально Сильвестр ездил в Троицу к бывшему митрополиту Иоасафу с просьбой одобрить решения Стоглава»{1709}. Для датирования пересылки решений Стоглавого собора бывшему митрополиту Иоасафу, предложенного Д. И. Стефановичем, А. А. Зиминым и Н. Е. Носовым, есть, казалось бы, некоторое основание. В начале Стоглава говорится: «В лето 7059-е месяца февраля въ 23 день. Быша сии въпроси и ответы мнозии о различных церковных чинех въ царствующем граде Москве въ царскых полатах от благовернаго и боговенчаннаго царя и государя великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодръжца къ отцу его Макарию, митрополиту всея Русии, и ко всему священному собору въ осмоена-десять лето царьства его, в двадесять же первое лето от рожества его, при его отце Макарие, митрополите всея Русии, в десятое лето святительства его…»{1710}. Тем не менее хронологическая версия Д. И. Стефановича, А. А. Зимина и Н. Е. Носова (а тем более Л. В. Черепнина и Р. Г. Скрынникова) упирается в серьезное препятствие. Чтобы яснее это видеть, необходимо вспомнить рассказ Стоглава о доставке Иоасафу соборных решений и передаче им в Москву своего ответа. Из этого рассказа узнаем следующее: «По совету благочестиваго царя и митрополита, и архиепископов, и епископов царьское предисловие соборному совету и о всяких потребах вопроси, и противу царьского предложениа ответи святительский писанию преданы по правилом святых апостол и святых отец, и по прежним царьских и великих князей православных законов. И сиа вся писаниа царьских вопросов и святительских ответов посылано к живоначалной Троицы в Сергиев монастырь к бывшему Иасафу митрополиту и Ростовъскому архиепископу бывшему Алексею, и Чюдовскому бывшему архимандриту Васиану, и Троецькому бывшему игумену Ионе, и всем соборным старцем. Иасаф митрополит со всеми, выслушав царьское и святительское уложение, и всему тому соборному уложению согласуют вкупе, и о которых делех поразсудя, и писанием съгласуются съ царем и святители и приказывают съ Троецьким игуменом с Серапионом и с Осифовским соборным старцем з Герсимом с Ленкевым и з Благовещеньским попом с Селиверстром. И сии совет царю и государю и святителем и всему собору предан бысть…»{1711}. Как видим, к бывшему митрополиту Иоасафу вместе с попом Сильвестром и соборным старцем Герасимом Ленковым был направлен действующий игумен Троице-Сергиева монастыря Серапион. Но не кто иной, как сам Н. Е. Носов обратил внимание на документ, свидетельствующий о том, что еще в начале февраля 1551 года троицким игуменом был уже не Серапион, а старец Артемий, что явствует из царского подтверждения от 9 февраля 1551 года на жалованной грамоте Троице-Сергиеву монастырю от сентября 1550 года{1712}. Следовательно, Серапион не мог быть направлен к Иоасафу в должности игумена Троицкого монастыря, если речь идет о времени «около 23 февраля» 1551 года, поскольку в то время он уже не являлся главой Троицкой обители. Тем более это относится ко времени «около 10 марта» — предполагаемому Д. И. Стефановичем и другими исследователями моменту получения Иваном IV ответа Иоасафа, доставленного из Троицы в Москву все теми же Серапионом, Герасимом Ленковым и Сильвестром{1713}. Таким образом, вопрос о времени посещения посланцами Стоглавого собора бывшего митрополита остается пока открытым, во всяком случае далеко не однозначным. Однако сам факт этого посещения не подлежит сомнению. И тут важно уяснить, кем и с какой целью оно было организовано. А. А. Зимин, как мы знаем, полагал, что решения Стоглава были посланы в Троицкий монастырь бывшим святителям — митрополиту Иоасафу, ростовскому архиепископу Алексею и троицкому игумену Ионе Шелепину — по настоянию царя Ивана. «При этом, — замечает историк, — ответ Иоасафа передается собору с Сильвестром»{1714}. Однако чуть ниже он говорит: «Иосифлянам удалось также послать с Сильвестром своего видного представителя — старца Герасима Ленкова, который вместе с ним доставил собору ответ Иоасафа»{1715}. Несмотря, впрочем, на это замечание, Сильвестр здесь играет, так сказать, первую скрипку. Не то в другой книге А. А. Зимина, где, хотя и говорится о том, что «ответ Иоасафа передается собору с Сильвестром», вместе с тем сказано: «Иосифлянам удалось также послать с Сильвестром своего видного представителя — старца Герасима Ленкова. Они доставили собору ответ Иоасафа»{1716}. Тут Сильвестр и Герасим Ленков выступают как бы на равных. Однако в исследовании А. А. Зимина о реформах Ивана Грозного акценты снова меняются. Оказывается, ответ Иоасафа был передан Собору Сильвестром{1717}, а не с Сильвестром, как это изображено в других работах того же автора. Герасим же Ленков, который доставил с Сильвестром ответ Иоасафа собору, является теперь чем-то вроде «пристяжного». И уж, конечно, нельзя согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он говорит о том, будто Иван IV направил в Троице-Сергиев монастырь одного лишь Сильвестра{1718}. Если следовать тексту источника, придется признать, что в нем говорится о факте посылки Стоглава в Троице-Сергиев монастырь безотносительно к царю Ивану или к кому-то другому, т. е. безлично, глухо: «И сия вся писания царьских и святительских ответов посылано к живоначалной Троицы в Сергиев монастырь…»{1719}. Эти «писания», как мы знаем, были оформлены по согласному решению царя и митрополита с остальными святителями: «По совету благочестиваго царя и митрополита, и архиепископов, и епископов царьское предисловие соборному совету и о всяких потребах вопроси, и противу царьского предложения ответи святительский писанию преданы по правилом святых апостол и святых отец, и по прежним царьских и великих князей православных законов»{1720}. Логично предположить, что и решение о направлении делегации к бывшему митрополиту Иоасафу в Троицу принималось «по совету» упомянутых лиц, или коллегиально, соборно. Не думаем, чтобы инициатива здесь исходила от государя. Скорее всего, она принадлежала одной из боровшихся на Соборе партий иосифлян и нестяжателей, а быть может, — обеим партиям одновременно. Возможно, на Соборе велись споры, кому ехать к бывшему митрополиту{1721}. В конце концов, сошлись на игумене Серапионе Курцеве, соборном старце Герасиме Ленкове и попе Сильвестре. Случаен ли данный подбор посланцев? По-видимому, не случаен. Он, надо полагать, соответствовал раскладу сил на соборе, где большинство имели иосифляне. Поэтому в число посланцев вошли, с одной стороны, двое иосифлян, приверженцев церковно-монастырской земельной собственности (Серапион Курцев и Герасим Ленков){1722}, а с другой — один ее противник (Сильвестр){1723}. Стало быть, Серапион, Герасим и Сильвестр были посланы в Троице-Сергиев монастырь не по настоянию отдельных лиц (царя Ивана или митрополита Макария), но по решению самодержца, всех духовных иерархов и, можно думать, от лица Собора. А. А. Зимин, характеризуя ситуацию с посланцами, говорит, что иосифлянам удалось «послать с Сильвестром своего видного представителя старца Герасима Ленкова»{1724}. Вернее, на наш взгляд, было бы сказать: нестяжателям удалось вместе с Серапионом Курцевым и Герасимом Ленковым послать своего представителя. Этим представителем стал «всемогий» тогда Сильвестр, что свидетельствует о важном значении, какое придавали поездке делегатов собора в Троицу благовещенский поп и его «нестяжательское окружение». В чем оно заключалось? Отнюдь не в желании со стороны царя и Собора соблюсти этикет, проявив знак любезности в отношении бывшего митрополита Иоасафа, как считал Д. И. Стефанович{1725}, а вслед за ним — В. В. Шапошник{1726}, и, конечно же, не в просьбе «одобрить решения Стоглава», обращенной к Иоасафу, как думал Р. Г. Скрынников{1727}. Более убедительной нам представляется точка зрения А. А. Зимина, который увидел здесь стремление повлиять на соборные решения. Жаль только, что исследователь односторонне смотрит на проблему, находя в поездке посланцев собора (прежде всего Сильвестра) в Троицу попытку изменения принятых решений в духе нестяжательской программы{1728}, и не учитывает противоположной цели, преследуемой Серапионом Курцевым и Герасимом Ленковым. У иосифлян ведь тоже была своя задача, состоявшая в том, чтобы вернуться в Москву с одобрением принятых на Соборе решений. И представители каждой из соперничавших партий надеялись на успех. Сильвестр, придерживающийся секуляризационных идей{1729}, возлагал надежды на Иоасафа, близкого, по мнению ряда исследователей, к нестяжателям{1730}. Аналогичные ожидания Сильвестр, очевидно, связывал с бывшим ростовским архиепископом Алексеем, дружески расположенным к Иоасафу{1731}. Что касается бывшего архимандрита Чудовского монастыря Вассиана Глазатого, получившего наряду с другими священнослужителями решения Стоглава, то сказать что-либо определенное о его воззрениях затруднительно{1732}. Несколько иначе обстоит дело с бывшим троицким игуменом Ионой Шелепиным. Он являлся, как полагают некоторые историки, противником Сильвестра, Артемия и Иоасафа, будучи соратником иосифлян{1733}. На его поддержку могли рассчитывать Серапион Курцев и Герасим Ленков. Но основная группа поддержки этих иосифлян, судя по всему, состояла из соборных старцев, находившихся в Троицком монастыре. Их также привлекли к обсуждению решений Стоглавого собора{1734}. Кстати сказать, рассмотрение решений и подготовка соответствующего ответа осуществлялись не в индивидуальном, а соборном порядке: «Иасаф митрополит со всеми ими [архиепископом Алексеем, игуменами Вассианом, Ионой и соборными старцами], выслушав царьское и святительское уложение, и всему тому соборному уложению согласуют вкупе, и о которых делех поразсудя, и писанием съгласуются съ царем и святители…»{1735}. Перед нами нечто вроде мини-собора, производящего экспертную оценку постановлений Стоглава. С учетом данного обстоятельства необходимо воспринимать и ответ, направленный в Москву от имени бывшего митрополита Иоасафа, т. е. индивидуально, но составленного на общем собрании в Троице, или коллективно. Содержание ответа не оставляет сомнений в том, что на данном собрании иосифляне если не возобладали, то, во всяком случае, блокировали включение в ответ Иоасафа таких положений, которые позволили бы внести соответствующие замыслам реформаторов-нестяжателей изменения в принятые Стоглавым собором решения, особенно в сфере церковного землевладения. Возможно, впрочем, и то, что сам Иоасаф, зная о перевесе иосифлян на Соборе, не стал из осторожности противоречить его решениям, сосредоточившись на второстепенных вопросах соборных обсуждений{1736}. Отстраненность ответа бывшего митрополита от наиболее острых проблем дискуссии на Стоглавом соборе обратила на себя внимание исследователей. Например, по словам Г. Н. Моисеевой, «близкий к «нестяжателям», живший «на покое» бывший митрополит Иоасаф, к которому благовещенский протопоп (?!) Сильвестр свез решения Стоглавого собора, ограничился небольшими замечаниями по вопросу о выкупе пленных на деньги митрополичьего двора (замечания эти также не были приняты). Основное внимание Иоасаф направил на высказывание «обиды» «нестяжателей» по поводу того, что в решениях Стоглавого собора было упомянуто имя только Иосифа Волоцкого…»{1737}. В целом это верно, но в отдельных деталях — не вполне. В ответе Иоасафа речь все же идет о некоторых церковных льготах, но в связи с «пустыми» церквами: «О пустых церквах. Пригоже, государь, лгота им дати, а отдати бы им пошлина десятиннича и заезд, и все мелкие пошлины митрополичи. А дань митрополича имати на попех, да тем церковь соружати. А збирали бы тот приход люди лутчие и сооружали тем церкви. А священники бы тех церквей жили о приходе да о церковной земле»{1738}. Некоторым, кажется, отступлением от заветов Нила Сорского прозвучало замечание Иоасафа о мелких пустынях, содержащееся в ответе: «Пригоже, государь, тебе велеть их сносити в ъдну пустыню, где пригоже, или в монастыри упокоити, как им мочно питатися»{1739}. Наиболее значительным, по нашему мнению, предложением святителя было то, что касалось выкупа пленных: «О искуплении пленных. Чтобы государь не с сох имати откуп, имати бы откуп из митрополичи и из архиепископли, и изо всех владычни казны, и с манастырей со всех, кто чего достоин, как, государь, ты пожалуешь, положишь, на ком что велишъ взяти. А крестианом, царь государь, и так твое много тягли в своих податех. Государь, покажи им милость, как тебе, государю, Бог положит на сердце»{1740}. Иоасаф знал, на каких душевных струнах царя надо играть, чтобы вызвать в нем сочувствие к своему предложению. Он вспомнил об отце государя, великом князе Василии III, при котором «имали с митрополита и с архиепископов, и со владык ис казны владыке Смоленьскому пошлину для его недостатков, и они, государь, о том не тужили, а полоняники, государь, нужнее того»{1741}. Здесь как бы в скрытом виде противопоставляются потребности рбщества и государства материальным интересам иерархов русской церкви, не желающих якобы поступиться частью церковных богатств ради общественных нужд. Перед нами своеобразное проявление нестяжательских настроений, присущих, как мы знаем, митрополиту Иоасафу. Стоглавый собор не согласился с этим предложением святителя, приняв решение о выкупе пленных «из царевы казны» с последующей раскладкой «на сохи по всей земли, чей кто ни буди — всем равно, занеже таковое искупление общая милостыня нарицается, и благочестиву царю и всем православным велика мъзда от Бога будет»{1742}. Зная, как вырабатывался ответ митрополита Иоасафа, можно полагать, что его предложение выкупа пленных за счет средств духовенства исходило если не от всех, то, по крайней мере, от большинства священнослужителей, обсуждавших решения Стоглава в стенах Троице-Сергиева монастыря. Следовательно, среди духовенства в целом не было единства по этому вопросу. Но возобладала все ж таки другая точка зрения, требующая посошного обложения для выкупа русских христиан, оказавшихся в плену. Обосновывалась она религиозно-этическими соображениями, обусловленными заветами Христа, поучениями пророков и праведных мужей: «…рече праведный Иенох: «Не пощадите злата и сребра брата ради, но искупуй его, да от Бога сторицею приимете». И пророком рече Бог: «Не пощади сребра человека ради». Христос же не токмо сребра, но и душу свою повелеваеть по братии положити. «Болши бо тоя рече любви никто же не имать, аще кто душу свою положить по братии своей». И того ради Христова слова благочестивым царем и всем православным христианом не токмо пленных окупати, но и душу свою за них полагати, да сторичныа мъзды въ он день сподобятся. Не лож бо рекий: «В нюже меру мерите, възмерится и вам»{1743}. Новейший историк, неверующий и невоцерковленный, может легко вообразить, что за этими доводами Собора скрыта банальная корысть, нежелание церкви поделиться своими богатствами и обратить их на общественные нужды. Но думать так — значит упрощать прошлое, подгоняя его под привычные для нас сегодня понятия и нравы. Было бы, по нашему мнению, намного плодотворнее толковать решение Стоглава о выкупе пленных с точки зрения религиозно-нравственной и общественно-воспитательной. Тогда в этом соборном решении наблюдателю откроется главное: забота русской церкви о морали своей паствы, воспитуемой в духе действенной любви к ближнему, приучаемой к чувству коллективизма, взаимопомощи и взаимной выручки, т. е. к тому, что запечатлела известная формула один за всех и все за одного. Данное решение способствовало сплочению русского народа перед лицом внешнего врага, укрепляло в нем решимость защищать Веру и Отечество, что было особенно важно в исторических условиях середины XVI века, характеризуемых войнами с ханствами Поволжья и надвигающейся Ливонской войной. Таковым нам представляется внутренний смысл решения Стоглавого собора о выкупе пленных. Предложение Иоасафа брать деньги на откуп полоняников из одной лишь церковной казны, уступало по общественной значимости решению Стоглава, поскольку превращало общенациональное дело в фискальную обязанность отдельного сословия. Сознавал ли это Иоасаф и те священнослужители, которые были с ним в совете, сказать трудно. Столь же трудно судить о том, понимал ли он, что ставит митрополита Макария и церковных иерархов в неловкое положение, заставляя их отклонить внешне привлекательное, но ошибочное и вредное по своей сути предложение. Если понимал, то не было ли в его поступке группового умысла, направленного против тогдашнего руководства русской православной церкви в угоду партии Сильвестра — Адашева. Все эти вопросы останутся, по-видимому, навсегда без ответа. Тем не менее они должны быть обозначены. Довольно прозрачно бывший митрополит намекнул на неполадки в церковном суде, существовавшие до Стоглавого собора и допущенные по недосмотру руководства церкви, — упрек, направленный своим острием в сторону митрополита Макария: «А суд уложен по правилом: архимандритом и игуменом, и всякого священническаго и иноческаго чину самем святителем судити, — и будеть по правилом суд. Ино то достойно и праведно. А только одному таков суд, а иному не таков, ино то не по Бозе. Яко же ныне слышим»{1744}. Еще один укол митрополиту! Мы упомянули наиболее крупные проблемы, затронутые в ответе Иоасафа. Остальное, — можно сказать, мелочи, вроде колокольного звона, общих трапез в обителях, монастырских квасов («старых» и «черствых», «выкислых» и «слатких», «жытных» и «сычевых»), «молодых строев, которые волосаты ходят по миру», скоморохов и пр. Важно еще раз отметить, что в ответе Иоасафа самый острый вопрос, дебатировавшийся на Стоглавом соборе, — вопрос о церковно-монастырском землевладении, — обойден. Как уже нами отмечалось, в бывшем митрополите возобладала, по-видимому, осторожность. Надо полагать, Иоасаф был осведомлен о ситуации, сложившейся на Соборе, где нестяжатели оказались в меньшинстве. И он не стал, как говорится, «лезть на рожон», хотя и не удержался от соблазна лишний раз задеть иосифлян, разразившись пространным рассуждением «О игумене Иосифе Волоцком». Вот что он сказал: «Написано, государь, в твоих спискех: у деда твоего, государя нашего, у великого князя Ивана Васильевича на соборе был игумен Иосиф Волоцкой, как, государь, соборовал дед твой, государь нашь, о вдовых священникех. И на том соборе у деда твоего были многых монастырей честные архимандриты и игумены, и старцы многые, тех же монастырей пустынникы, которые житием были богоугодны и святое писание известно разумели, по тому же, государь, как ныне у тобя, государь, на соборе многые архимандриты и игумены, и многые старцы из всех монастырей. И опричь, государь, игумена Иосифа никто не написан, кто у деда твоего на том соборе был. И будет, государь, тебе угодно деда твоего, государя нашего тот собор, и ты бы, государь, Бога ради и тех честных монастырей архимандритов и игуменов, и старцев велел написати в той статьи в своем списке. А спрашивай, государь, о том соборе бояр своих старых — те, государь, помнят, кто на том соборе был — архимандритов и игуменов, и честных старцев. А о всем о том, государь, ведает Бог да ты, как тебе, царю государю, Бог известить»{1745}. Данное рассуждение весьма примечательно. Иоасаф, как бы восстанавливая справедливость, напомнил Ивану IV, что в деятельности Собора о «вдовых попах» (1503), помимо Иосифа Волоцкого и его сторонников, принимали активное участие (причем в достаточном количестве) и другие высокочтимые священнослужители. То были нестяжатели, лидером которых выступал Нил Сорский{1746}. Поднимая их престиж, Иоасаф тем самым возвышал присутствующих на Стоглавом соборе нестяжателей. Что это так, видно из прямого сопоставления соборов 1503 и 1551 гг. в плане их участников («по тому же, государь, как ныне у тобя, государь, на соборе многые архимандриты и игумены, и многые старцы из всех монастырей»). Отсюда сам собою напрашивался вывод о том, что государь должен прислушиваться к мнению этих почтенных «соборян», подобно тому, как к ним в свое время прислушивался дед царя Иван III, являющийся примером, достойным подражания. Надо заметить, что преклонение Ивана Грозного перед памятью отца и деда, с одной стороны, и резко негативное его отношение ко времени боярского правления — с другой, партия Сильвестра — Адашева умело использовала в борьбе с церковно-монастырским землевладением. Такого рода спекуляцию на чувствах молодого Ивана IV следует, по-видимому, рассматривать как некий способ психического воздействия, применяемый кликой Сильвестра и Адашева с целью управления поведением монарха. И отставной митрополит Иоасаф действовал в том же ключе, побуждая царя Ивана вспомнить, кроме вопроса о вдовствующих священниках, кое-что еще о соборе 1503 года, в частности неудавшуюся попытку добиться соборного решения относительно ликвидации церковной собственности на землю. Тем самым Иоасаф старался возбудить в молодом самодержце ревность относительно начинаний чтимого им прародителя. Но сделано это довольно туманно и завуалировано: «А о всем о том, государь, ведает Бог да ты, как тебе, царю государю, Бог известить». Поездка к Иоасафу не оправдала надежд реформаторов. Бывший митрополит повел себя уклончиво, ограничившись малозначимыми замечаниями, а серьезные вопросы либо обошел, либо истолковал обтекаемо. Но обращение Иоасафом внимания Грозного к делам Ивана III все же не «ушло в песок». Под занавес Стоглавого собора противникам русской церкви удалось склонить Ивана IV к «приговору», где опять-таки фигурируют ссылки на порядки, установленные дедом и отцом государя — Иваном III и Василием III. «Приговор», состоявшийся 11 мая 1551 года, установил жесткий контроль государственных органов над приобретением вотчин духовенством: «Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приговорил с отцом своим с Макарьем с митрополитом всеа Русии, и с архиепискупы, и епискупы, и со всем собором, что вперед архиепискупом, и епискупом, и манастырем вотчин без царева и великого князя ведома и без докладу не покупати ни у кого; а князем и детем боярским и всяким [людем] вотчин без докладу им не продавати же; а хто купит или продаст вотчину без докладу, и у тех, хто купит, денги пропали, а у продавца вотчина взяти на государя царя и великого князя безденежно»{1747}. В этом контроле над земельными операциями духовенства «приговор» опирался на прецеденты, связанные с именами деда и отца царя Ивана, которые запрещали давать «без докладу в монастыри вотчины», расположенные в Твери, Микулине, Торжке, Оболенске, на Белоозере и в Рязани: «А что изстарины по уложенью великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и по уложенью великого князя Василья Ивановича всеа Русии во Твери, в Микулине, в Торшку, во Оболенску, на Белеозере, на Резани мимо тех городов людей иных городов людем вотчины не продавали и по душам в манастыри по душам не давали»{1748}. Затем в «приговоре» сказано: «А Суздальские князи, да Ярославские князи, да Стародубские князи без царева и великого князя ведома вотчин своих мимо вотчич не продавали никому же и в манастыри по душам не давали; а ныне деи в тех городах князи и дети боярские в манастыри отчины свои продавали и по душам давали»{1749}. И вот теперь — строгий наказ: «Суздальским, и Ярославским, и Стародубским князем вотчин никому без царева и великого князя ведома не продати и по душе не дати. А хто вотчину свою без царева и великого князя ведома через сей государев указ кому продаст, и у купца денги пропали, а отчичи отчины лишены. А хто без царева великого князя ведома в сех городех во Твери, в Микулине, на Белеозере, на Резани, да Суздальские князи, да Ярославские князи, да Стародубские князи в которой монастырь кто даст по душе без государева докладу, и та отчина у манастырей безденежно на государя имати. А которые вотчины свои в манастыри по душам до сего приговору давали без государева докладу, и те отчины имати на государя, да за них по мере денги платити, да те отчины отдавати в поместье»{1750}. Далее закон гласит: «А хто без государева ведома в которой манастырь вотчину свою даст по душе, и та вотчина у манастырей безденежно имати на государя»{1751}. Приведенный материал позволяет увидеть, как из частных правительственных распоряжений, имеющих местное значение, возникал закон, применявшийся повсеместно. Б. Д. Греков по этому поводу замечал, что при сыне Ивана III Василии «было издано Уложение, в котором запрещалось жителям некоторых городов и некоторым северо-восточным князьям давать вотчины в монастыри без доклада и без ведома великого князя. 11 мая 1551 г. это правило получило силу общего закона»{1752}. Этот закон, как мы видели, касался не только земельных вкладов, но и купли-продажи земли. Само по себе появление подобного закона нельзя, по нашему мнению, рассматривать как меру, направленную против монастырского землевладения. В Московском царстве, где служба с земли получила базовое развитие, учет земельного фонда являлся важнейшей государственной потребностью. Поэтому земельные сделки и мобилизация земли не могли находиться вне поля зрения и контроля правительства. Это вполне естественно. Другое дело, каково это правительство и какую политику оно проводит, определяя конкретное содержание закона. Что касается московского правительства середины XVI века, т. е. правительства Избранной Рады, то мы неоднократно убеждались в негативном его отношении к русскому самодержавству и, следовательно, к православной церкви, пестовавшей самодержавную власть. Стало быть, в конкретных условиях того времени контроль за монастырскими операциями по земле, требующий вершить эти операции «с государева ведома» и «с доклада государю», использовался в качестве средства борьбы с землевладением монастырей, нацеленной на секуляризацию церковно-монастырской земельной собственности. Вот почему «в 50-х годах прекратилась покупка земель крупными монастырями. Не приобретали в 50-х годах земли покупкой ни Волоколамский, ни Троице-Сергиев, ни многие другие монастыри»{1753}. Кроме закона, запрещавшего бесконтрольный оборот земли, связанный с церковью и монастырями, майский «приговор» 1551 года содержал распоряжения об изъятии церковно-монастырских земель, добытых духовенством якобы силой и пособничеством писцов, а также полученных в годы боярского правления: I. «А которые царевы и великого князя поместные и черные земли задолжали у детей боярских и у крестьян и насилством поотымали владыки и манастыри или которые земли писцы, норовя владыкам же и манастырем, подавали, а называют владыки и манастыри те земли своими, а иные починки поставляли на государевых землях, и того сыскати: чьи земли были изстари, за тем те земли и учинити»; II. «А которые села, и волости, и рыбные ловли, и всякие угодья, и оброчные деревни после великого князя Василья бояре подавали архиепискупом, и епискупом, и манастырем и, того сыскав, учинити так, как было при великом князе Василье»{1754}. «Приговор» привел в соответствие с тем, как было при деде и «батке» Ивана IV, выдачу «руг» и «милостыней» церковно-монастырским корпорациям: I. «А которые будут манастыри или к которым церквам к нищим в ругах и в милостынях придача ново после великого князя Василья, и те руги и милостыни новопридачные, сыскав, отставити; а учинити по старине по тому же, как где давали руги и милостыни наперед сего при великом князе Иване и при великом князе Василье Ивановиче всеа Русии»; II. «А которые милостыни будут наперед же сего в которые манастыри или к которым церквам времянем шли, года в два, или в три, или болши, или менши, в приказ, а не ежегод, а они будут после великого князя Василья поймали грамоты, что имать им милостыни те ежегод, и, того сыскав, отставити же, а давати им милостыня в приказ по старине же, в колко годов как государь пожалует»{1755}. «Приговором» 11 мая 1551 года Стоглавый собор, судя по всему, завершил свою работу{1756}. Необходимо подчеркнуть, что данный «приговор» состоялся именно в конце соборных заседаний, а не после, когда участники собора покинули Москву. Впрочем, поскольку «приговор» принимался в самый последний момент деятельности Стоглава, то не исключено, что часть духовенства, бывшего на Соборе, могла уже разъехаться по домам{1757}. Тем не менее то был соборный документ{1758}, что со всей очевидностью явствует из его преамбулы: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил со отцем своим с Макарьем, митрополитом всеа Русии, и со архиепископы и епископы, и со всем собором»{1759}. Отсюда понятно, почему он помещен в Стоглаве (в ряде списков, причем самых ранних) и даже обозначен в перечне глав памятника: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил со отцом своим Макарием, митрополитом всеа Русии, и со всем священным собором о всяких вотчинах»{1760}. Иное дело, кому принадлежала инициатива подготовки и сама подготовка этого документа. В. В. Шапошник высказал вполне правдоподобную в данном случае версию, согласно которой «приговор формулировал не государь», а правительственная группа во главе с А. Ф. Адашевым{1761}. Исследователь полагает, что «после составления так называемой первой редакции «Стоглава», отправленной в Троицу к Иоасафу и другим, большая часть игуменов, считая дело сделанным, разъехалась. Этим моментом и воспользовались деятели, группировавшиеся вокруг А. Ф. Адашева — сумев убедить царя в своей правоте, они добились у усеченного состава Собора согласия на вошедшие в Приговор меры»{1762}. Если это так, то здесь должен быть обязательно помянут и Сильвестр — сподвижник Адашева, принимавший активное участие в деятельности Стоглавого собора. Ясно также и то, что ни царь, ни митрополит не могли выступать здесь законотворцами. Эту роль взяли на себя Сильвестр и Адашев со своими сторонниками. Именно они составили проект «приговора» и добились согласия государя представить этот проект Собору на утверждение, причем без предварительного обсуждения в самый последний момент соборных заседаний, так сказать, в «Разном» и при неполном, возможно, числе его участников{1763}. Поспешность, с которой была проделана данная операция, на наш взгляд, не случайна. Она выдает преднамеренность составителей при^ говора, обусловленную их стремлением во что бы то ни стало протащить закон, явно не устраивающий соборное большинство, тем более что некоторые пункты «приговора», по наблюдениям новейшего исследователя, вошли в противоречие с только что принятыми решениями Стоглава. «Удивляет сама возможность принятия подобного Приговора, противоречащая в некоторых пунктах соборным постановлениям», — говорит он{1764}. Удивляться тут, однако, нечему. Сильвестр, Адашев и руководимая ими Избранная Рада обладали в ту пору влиянием и властью, достаточными, чтобы настоять на своем если не целиком, то в значительной мере. В могуществе этих людей и крылась причина того, что им удалось провести через собор документ, принципиально иного характера, нежели главные соборные постановления, касающиеся церковно-монастырской земельной собственности. Поэтому едва ли можно согласиться с Н. Е. Носовым в том, будто майский «приговор» 1551 года явился итогом «обсуждения на Стоглавом соборе вопроса о секуляризации церковных земель»{1765}. На самом деле это не так. Итогом названного обсуждения стало заявление собора о неприкосновенности церковных «стяжаний» и «пошлин», аттестация посягающих на церковные «имения» и «приношения» как «татей», «хищников» и «разбойников», подтверждение, наконец, незыблемости правил «святаго Седьмаго вселенского собора и прочих святых отец», где «речено бысть о недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных, рекше: и села, нивы, винограды, сеножати, лес, борти, воды, источницы, езера и прочее, вданное Богови в наследие благ вечных — никто же их можеть от Церкви Божий восхытити или отъяти, или продати, или отдати»{1766}. Что касается «приговора» 11 мая 1551 года, то он представлял собою определенную оппозицию итогам обсуждения на Стоглавом соборе вопроса о церковно-монастырском землевладении, поскольку «предусматривал частичную секуляризацию церковных владений»{1767}, «частичную конфискацию монастырских земель»{1768}, нарушив, следовательно, правила Вселенских соборов (в частности, 38-е правило Седьмого собора), святых отцов церкви и христианских властителей. Поэтому вряд ли безоговорочно можно принять рассуждения некоторых историков о провале на Стоглавом соборе программы секуляризации церковных земель или утверждения их о том, будто секуляризация не прошла{1769}. Майский «приговор» 1551 года, навязанный Стоглавому собору группой Сильвестра — Адашева, свидетельствует о частичном изъятии государством земель, принадлежавших духовенству. И тут важны не столько масштабы этого изъятия, сколько отход от принципа неприкосновенности церковных «стяжаний», освященного авторитетом Вселенских соборов и отцов церкви. Тем самым создавался прецедент, открывающий возможность осуществления в будущем более радикальных мер по части ликвидации церковно-монастырской земельной собственности. Как видим, реформаторы нанесли русской православной церкви отнюдь не роковой, но все ж таки ощутимый удар{1770}. И мы не стали бы в данном случае разделять интересы белого и черного духовенства, как это делает В. В. Шапошник, заявляя, будто «святители, как определенная часть духовенства, оказались в наибольшем выигрыше. Видимо, их общие интересы перевесили их интересы как представителей определенных корпораций. Может быть, на Соборе состоялся определенный торг за архиерейские места (ведь практически сразу же после Стоглава в составе иерархии произошли некоторые изменения). Одно белое духовенство почти не затронули финансовые изменения — оно лишь получило твердые размеры пошлин. Таким образом, решения Собора определялись борьбой внутри церковной организации между отдельными группами духовенства и представителями различных духовных корпораций. Этой борьбой в самом конце Стоглава умело воспользовалась светская часть правительства и провела решение, несколько облегчавшее положение государственной казны. Т. е., можно сказать, что в самом конце работы Собора произошел фактически сговор иерархов с правительством за счет монастырей{1771}. Противопоставление интересов белого и черного духовенства, церковных иерархов и монастырских настоятелей, проводимое В. В. Шапошником, нам представляется искусственным уже потому, что архиереи православной церкви являлись одновременно монахами и многие из них в прошлом, близком или далеком, вышли из игуменов крупнейших русских монастырей, попавших под удар «приговора» 11 мая 1551 года. Весьма спорен и тезис автора о том, будто «решения собора определялись борьбой внутри церковной организации между отдельными группами духовенства и представителями духовных корпораций». Решения Собора, по нашему глубокому убеждению, определялись борьбой не внутри церковного лагеря, а между светскими реформаторами во главе с Адашевым в смычке с Сильвестром и поддерживающей их группой духовенства нестяжательского толка, с одной стороны, и иосифлянским большинством Собора, возглавляемым митрополитом Макарием, — с другой. Царь Иван стоял, похоже, над схваткой, но в душе все-таки тяготел к митрополиту. Таким образом, если исходить из решений одного лишь майского «приговора» 1551 года, то вряд ли можно считать доказанной мысль о том, что «наибольшие экономические потери» понесли тогда монастыри{1772}. Но, если учесть совокупность мер по ограничению и утеснению церковно-монастырского землевладения, предпринятых Избранной Радой в 1549–1551 годах, включая, помимо прочего, Постановление Судебника 1550 года о тарханах и решения «приговора» от 11 мая 1551 года, то данная мысль получит достаточные основания. Получается, следовательно, что реформаторы сконцентрировали свою «преобразовательную», а по сути разрушительную политику в сфере церковной жизни православной Русии прежде всего на монастырях{1773}. Понятно, почему они лишили обители финансовой самостоятельности и поставили под контроль назначение архимандритов и игуменов со стороны государственной власти, принудив Стоглавый собор принять соответствующие постановления. Об избрании монастырских настоятелей в Стоглаве сказано следующее: «Избирати митрополиту и архепископом, и епископом, коемуждо въ своем пределе, архимандритов и игуменов в честныа монастыри по цареву слову и совету и по священным правилом <…>, и избрав, посылают их ко благочестивому царю. И аще будет Богу угоден и царю — и таковый архимандрит и игумен по священным правилом да поставлен будет»{1774}. Судя по всему, подобный способ поставления архимандритов и игуменов явочным порядком уже применялся Избранной Радой, и Собор лишь юридически оформил его легитимность. Вспомним старца Артемия, назначенного игуменом Троице-Сергиева монастыря по совету, данному царю попом Сильвестром{1775}. Вряд ли то был единичный случай. Как видно из постановления Стоглава, высшие монастырские чины только формально избирались митрополитом, архиепископами и епископами, тогда как последнее слово здесь принадлежало царю, фактически на тот момент Избранной Раде и ее вождям Сильвестру и Адашеву, которые получали возможность таким способом сажать в монастыри на командные посты своих людей, облегчая тем задачу реформирования, а точнее сказать — уничтожения традиционного монастырского уклада в России. Ту же цель, как нам думается, преследовало, несомненно, навязанное Стоглавому собору решение, изымавшее у монастырей право самостоятельно распоряжаться собственными финансами: «А монастыри и казну монастырскую, и всякие обиходы монастырскые царя и великого князя дворетцкым по всем монастырем ведати и посылати считати и отписывати, и отдавати по книгам архимандритом и игуменом, и строителем с соборными старци в коемждо монастыре»{1776}. Избранная Рада и ее лидеры, державшие в своих руках нити управления государством, могли через дворецких контролировать денежные расходы монастырей, лишая их свободы хозяйствования и, в конечном счете, подчиняя светской власти. Возникает вопрос, по какой причине правительство Избранной Рады нанесло удар в первую очередь по монастырям? В исторической литературе бытуют разные мнения на сей счет. Б. Д. Греков, например, замечал, что «растущее централизованное государство проявило максимум стараний к тому, чтобы расширить свои военные кадры и обеспечить армию землей. Созданы были новые тысячи землевладельцев, далеко не всегда имевших возможность удовлетворять свои растущие потребности»{1777}. Ради удовлетворения этих «растущих потребностей» и предприняты были меры, которые «несколько затруднили дальнейшее расширение монастырских земельных владений»{1778}. По мнению Б. А. Романова, как в Судебнике 1550 года, так и в «приговоре» 11 мая 1551 года «все должно было быть пересмотрено под углом зрения ликвидации последствий боярского правления»{1779}. При этом основной проблемой здесь являлось «обуздание владычного, и особенно монастырского, безудержного и бесконтрольного, напора на земли всего светского сектора вотчинного землевладения безотносительно к калибрам и общественному положению его представителей вплоть до детей боярских и даже «всяких людей»{1780}. Б. А. Романов не жалеет черных красок, говоря, что «монастырский ростовщический капитал» выступал «в совершенно разнузданном виде, как грызун, принявшийся точить оборонный земельный фонд государства по линии простого кредита»{1781}. Согласно И. И. Смирнову, меры «правительства Ивана IV» середины XVI века в отношении земельной собственности монастырей обусловливались стремлением разрешить три задачи: 1) остановить монастырскую экспансию в земельном вопросе; 2) поставить под правительственный контроль дальнейший рост монастырского землевладения; 3) свести «на нет те успехи, которые сделало монастырское землевладение за годы господства княжеско-боярской реакции»{1782}. Осуществлялось это в интересах дворянства. «Обширные земельные владения, за неприкосновенность которых ратовали осифляне, — писал С. В. Бахрушин, — привлекали внимание бояр, которые мечтали за счет церковных земель удовлетворить интересы дворян»{1783}. К чести автора надо сказать, что ему удалось преодолеть узкосословный подход при объяснении причин наступления на монастырское землевладение и льготные права монастырей, предпринятого правительством Избранной Рады, и взглянуть на проблему шире, в плане реформирования церковной организации как таковой: «На Стоглавом соборе правительство выступило с законченной программой реорганизации церкви в духе нестяжательских учений. От имени царя были внесены предложения, клонившиеся к умалению как церковного землевладения, так и судебных прав церкви»{1784}. Важным в этой связи является наблюдение исследователя о существовании «реформационных течений в среде самого духовенства»{1785}. Оно позволяет предположить о том, что эти течения уносили некоторых церковников очень далеко от православия в сторону ересей и протестантизма, с позиций которых они затем вели борьбу с русской православной церковью и ее передовым отрядом — монастырями. В обстановке резкого обострения классовых противоречий и подъема реформационного движения в середине XVI века решался, по А. А. Зимину, вопрос о церковно-монастырском землевладении. Историк пишет: «Правительство было крайне заинтересовано в уменьшении податных и судебных привилегий крупных духовных феодалов и рассчитывало поставить вопрос об ограничении (если не о полной ликвидации) прав церкви на владение недвижимыми имуществами в городах и сельских местностях. Монастырское землевладение являлось важным резервуаром, за счет которого можно было удовлетворить дворянские требования. Ликвидации монастырских слобод и беломестных дворов в городах добивалось посадское население страны»{1786}. Существенную роль А. А. Зимин отводит здесь духовенству, разделявшему идеи нестяжательства и потому выступавшему против монастырской земельной собственности. «Требование осуществить ряд важнейших преобразований, — говорит он, — высказывались также нестяжательским духовенством, которое в середине XVI в. фактически возглавлял Сильвестр — один из руководителей правительства того времени. Нестяжатели выступали против землевладения духовных корпораций…»{1787}. В книге, изданной двумя годами позже, А. А. Зимин усиливает последний мотив, указывая на то, что «нестяжательское окружение Сильвестра, одного из фактических руководителей правительства компромисса, как ранее в начале XVI в. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, идеологически обосновывало необходимость ликвидации земельных богатств церкви. Представитель крайнего течения нестяжателей — старец Артемий сначала говорил Ивану IV, а затем и писал в послании к церковному собору 1551 г., что следует «села отнимати у монастырей»{1788}. Весьма существенным представляется наблюдение А. А. Зимина, по которому правительство Сильвестра и Адашева, проводя нестяжательскую политику, старалось воспользоваться заинтересованностью «боярства и дворян в ликвидации земельных богатств церкви»{1789}. Тем самым исследователь, хотел он того или нет, поставил на первое место религиозно-политические причины борьбы вокруг земельной собственности духовенства, развернувшейся в середине XVI века, а все остальные, включая потребность обеспечения землей служилого сословия, отодвинул на второй. Отсюда был, можно сказать, один шаг до верного понимания сути происходившего на Стоглавом соборе. Тем досаднее, что в другой своей книге А. А. Зимин снова возвращается к земельным нуждам служилого люда, ставшим якобы главной причиной секуляризационных попыток середины XVI столетия, а царя Ивана изображает инициатором этих попыток и автором экспроприаторской программы, изложенной в царских вопросах к Собору 1551 года{1790}. Среди требований, исходящих непосредственно от Сильвестра и близких ему людей, А. А. Зимин теперь не упоминает мер по ликвидации или ограничению монастырской земельной собственности. «Стоглавый собор, — читаем у него, — пошел на ряд уступок, которые требовали Сильвестр и его союзники из числа нестяжателей. Отцы собора вынуждены были декларировать запрет симонии (поставления по «мзде»), а также провозгласить борьбу с злоупотреблениями властью в монастырях-вотчинниках»{1791}. Нуждами дворянства, не обеспеченного землями, объяснял изъятие монастырских земель царским правительством в середине XVI века Р. Г. Скрынников. Он, в частности, писал: «Реформаторская деятельность адашевского кружка, критика злоупотреблений боярского правления, возведенная в ранг официальной доктрины, способствовали пробуждению общественной мысли в России. Вслед за Ивашкой Пересветовым на общественную арену выступает другой талантливый публицист поп Ермолай-Еразм. Дворянская публицистика подвергает всестороннему обсуждению вопрос об «оскудении» дворянства и необходимости «землемерия», т. е. перераспределения земель в пользу дворянства. Официальные проекты дворянского «землемерия», составленные в кружке Адашева, получили наиболее полное обоснование в так называемых царских вопросах митрополиту (февраль 1550 г.)»{1792}. Вслед за этим правительство «выдвигает вопрос о частичной секуляризации монастырского землевладения. Планы секуляризации получили энергичную поддержку со стороны придворного духовенства в лице благовещенского протопопа Сильвестра и тяготевших к нему монахов-нестяжателей»{1793}. Сходные суждения Р. Г. Скрынников высказывает в книге об Иване Грозном (1975). Но при том у него в данном конкретном случае куда-то ушла дворянская публицистика, стимулировавшая секуляризационные замыслы власти, и скрылся благовещенский поп Сильвестр, оказывавший поддержку планам секуляризации{1794}. Вместо последнего в этом качестве появились вызванные царем в Москву «заволжские старцы»{1795}, возглавляемые Артемием{1796}. Р. Г. Скрынников снова возвращается к вопросу о причинах секуляризации церковных земель в Русии середины XVI века в книге «Царство террора», в которой читаем: «Приняв на себя обязательство об обеспечении поместными землями всех служилых людей и их сыновей, казна принуждена была постоянно искать новые источники для пополнения фонда поместных земель. По этой причине власти время от времени возвращались к проектам частичной секуляризации церковных вотчин. В речи к членам Стоглавого собора в начале 1551 г. Иван IV весьма недвусмысленно указал на то, что монастыри не умеют как следует распорядиться доставшимися им землями и доходами. Одновременно старец Артемий подал собору совет «села отымати у монастырей». Митрополит Макарий употребил все старания, чтобы доказать царю греховность и преступность любых покушений на церковное имущество и доходы. Тем не менее, церкви пришлось поступиться частью своих земельных богатств»{1797}. Потребностями казны обусловил изъятия земельной собственности у монастырей и другой новейший исследователь, В. В. Шапошник{1798}. В результате этих изъятий, замечает он, «в распоряжение правительства поступало некоторое количество земель»{1799}. * * *Итак, в исторической литературе сложилось устойчивое мнение, усматривающее причину наступления государственной власти на церковно-монастырское землевладение во времена правления Избранной Рады в стремлении оградить служилый люд от монастырской экспансии и получить земли, необходимые для обеспечения исправной службы дворянства. Полагая, что в этом мнении есть определенный резон, мы все-таки не можем останавливаться на нем и считать его исчерпывающим. Больше того, следует подчеркнуть, что оно, на наш взгляд, страдает некоторым преувеличением земельного дефицита, «земельного голода», якобы испытываемого государством, и несет на себе печать ограниченности, поскольку не выходит за рамки сугубо материальных интересов и хозяйственных потребностей служилого сословия, с одной стороны, и монастырских корпораций — с другой. Приверженцы этого мнения не считаются с тем, что существует духовная мотивация поведения людей, в том числе и в сфере политики{1800}. И вот если взглянуть на дело с точки зрения духовной, или культурно-исторической, то придется признать, что секуляризационные меры инициировали религиозные и политические деятели, стоявшие на нестяжательских и еретических позициях, что разрушительная политика, проводимая ими в отношении церковно-монастырского землевладения, являлась следствием их религиозного мировоззрения. Придется также признать преемственную связь этих деятелей с кремлевскими священнослужителями Алексеем и Денисом, дьяком Федором Курицыным, князем-иноком Вассианом Патрикеевым и другими еретиками, достигшими на некоторое время огромного влияния и власти при дворе московских великих князей в лице Ивана III и Василия III, но потерпевшими в конечном счете крушение своих планов. Наконец, придется признать и то, что курс Избранной Рады на секуляризацию церковно-монастырских земель являлся продолжением в новых исторических условиях курса, начатого при Иване III группой еретиков во главе с Федором Курицыным и, пропагандируемого при Василии III сановным старцем Вассианом Патрикеевым и его единомышленниками. Главной целью этого курса было реформирование русской православной церкви в духе еретических идей, занесенных в Россию с Запада{1801}. Реформаторы шли к ней, прикрываясь лозунгами защиты служилого землевладения от расхищения его монастырями. Кроме продолжения старых попыток реформирования традиционной церковной организации, передаваемых с конца XV века еретиками, как по цепочке, от поколения к поколению, в середине XVI столетия появились новые причины, побуждавшие определенные круги княжеско-боярской знати включаться в борьбу с православной церковью. Эти причины были связаны с завершением процесса формирования московского самодержавства, ознаменованным венчанием Ивана IV на царство. Противники самодержавной власти, которых насчитывалось немало среди тех, кто входил в Избранную Раду, неизбежно оказывались в оппозиции к официальной церкви, являвшейся структурной опорой царского самодержавия. Целясь в русское самодержавие, они били по православной церкви, по ее важнейшему звену — монастырям, стремясь лишить монашество экономической основы посредством государственной конфискационной политики и добиться в результате двойного эффекта, состоящего в разрушении сложившегося на Руси церковно-монастырского уклада и в расстройстве союза церкви с государством. Существо обсуждаемых нами сейчас событий почувствовал Г. Флоровский. Протоиерей Георгий Флоровский усмотрел в начинаниях попа Сильвестра влияние Запада, прежде всего немецкое влияние, т. е. протестантское, или, по понятиям Восточной церкви, еретическое{1802}. Весьма любопытно охарактеризовал он Стоглавый собор, который, по его словам, «был задуман как «реформационный», но «осуществился как реакционный»{1803}. Надо сказать, что тут есть предмет для размышлений. Действительно, группа Сильвестра — Адашева готовила Собор как в некотором роде реформационный, призванный осуществить первый, но довольно решительный шаг на пути реформирования русской церкви в соответствии с еретическими учениями Запада. Этот шаг предусматривал секуляризацию церковно-монастырской земельной собственности и ликвидацию единства церкви с государством, что резко меняло положение православной церкви в экономической, социальной и политической жизни Руси. Трудно было предугадать, куда могла завести подобная реформа. Ясно только было, что она разрушала основы теократического самодержавия, подрывала устои Святорусского царства, или Святой Руси. Г.Флоровский, говоря о том, что Стоглавый собор «осуществился как реакционный», подчеркнул тем свое отрицательное отношение к итогам соборной деятельности, поддавшись субъективному восприятию события. Но позволительно спросить, почему Собор «осуществился как реакционный»? Не потому ли, что иосифляне не позволили реформаторам провести всеобщую секуляризацию церковно-монастырского землевладения, экономически удушить церковь и разорвать ее союз с государством, поставив русское общество на грань национальной катастрофы. Если это так, то мы не найдем ничего реакционного в том, как Собор «осуществился». Напротив, любому не зашоренному либеральными идеями исследователю ясно, что на Стоглавом соборе здоровые национальные силы взяли верх над деструктивными антицерковными и противогосударственными элементами, хотя и с некоторыми потерями. Однако эти потери оказались с лихвой восполненными превращением собора из духовного учреждения в институт, наделенный как церковными, так и государственными функциями. В исторической науке это превращение не осталось незамеченным. Историки давно уже говорят о том, что Стоглавый собор, приняв постановления, касающиеся церковно-монастырской жизни, утвердил, кроме того, документы внецерковного характера — Судебник 1550 года, Уставные грамоты, относящиеся к местному управлению, ввел общий налог на выкуп пленных и т. п.{1804} Некоторые исследователи считают, что при непосредственном участии Собора был составлен и утвержден «приговор» 11 мая 1551 года{1805}. Высказывалось также предположение о рассмотрении на Стоглавом соборе вопросов, связанных с предстоящей новой кампанией против Казани{1806}. Не знаем, как насчет войны с Казанью, но относительно утверждения Судебника, Уставных грамот и совета «о всяких земских строениях» сомнения излишни, ибо в речи Ивана IV, обращенной к участникам Собора, сказано: «Се Судебник пред вами и уставные грамоты. Прочтете и разсудите, чтобы было наше дело о Бозе в род и род неподвижно по вашему благословению, аще достойно сие дело на святом соборе утвердив и вечное и благословение получив, и подписати на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти. Да с нами соборне попрося у Бога помощи во всяких нужах, посоветуйте и разсудите, и уложите, и утвердите по правилам святых апостол и святых отець и по прежним законом прародителей наших, чтобы всякое дело и всякие обычен строилися по Бозе в нашем царствии при вашем святительском пастырстве, а при нашей дръжаве. А которые обычен в прежние времена после отца нашего, великого князя Василия Ивановича всея Руси, и до сего настоящаго времени поизшаталося или в самовластии учинено по своим волям или в предние законы, которые порушены, или ослабно дело, и небрегомо Божиих заповедей что творилося, и о всяких земских строениах, и о наших душах заблужение о всем о сем доволно себе духовне посоветуйте, и на среду собора. И сие нам возвестите, и мы вашего святительскаго совета и дела требуем и советовати с вами желаем — о Бозе утвержати нестройное во благо. А что наши нужи или которые земские нестроениа, и мы вам о сем возвещаем. И вы, разсудя по правилом святых апостол и святых отець, утвержате во общем согласии вкупе, а яз вам, отцем своим и з братиею, и з своими бояры челом бью»{1807}. Существенное значение для понимания исторической ситуации, отраженной в приведенном тексте, имеют так называемые «дополнительные царские вопросы», сохранившиеся в рукописи игумена Волоколамского монастыря Ефимия Туркова, найденные И. Н. Ждановым и отнесенные им к деяниям Стоглавого собора{1808}. Однако привязка этих вопросов к Стоглавому собору была не без основания оспорена как в досоветской{1809}, так и в советской историографии{1810}. В преамбуле к ним читаем: «Говорити перед государем, и перед митрополитом, и передо владыки, и передо всеми бояры дияку, как было перед великом князе Иване Васильевиче, при деде, и при отце моем, при великом князе Василье Ивановиче, всякие законы тако бо и ныне устроити по святым правилом и по праотеческим законом, и на чом святители, и царь, и все приговорим и уложим, кое бы было о Возе твердо и неподвижно в векы»{1811}. Далее идут разнообразные вопросы, касающиеся земельной, торговой и таможенной политики, местничества, вотчин и поместий, новых слобод, корчем, мытных, перевозных и мостовых пошлин, пограничных застав, вотчинных и писцовых книг, вдовых боярынь и пр{1812}. За сведениями, заключенными в преамбуле к «царским вопросам», не просматривается, как нам кажется, ни церковный, ни земский собор. Препятствует тому усеченный состав слушателей, перед которыми велено было «говорити диаку». Это — царь, митрополит, владыки (архиепископы и епископы), а также все бояре (Боярская Дума). Но для того, чтобы назвать данное совещание земским собором, необходим более широкий круг его участников: для церковного собора — весь Освященный собор, а не только митрополит и владыки; для земского собора — хотя бы на крайний случай представители дворян, а не одни лишь бояре. По-видимому, то было некое подготовительное совещание, предшествующее Стоглавому собору, независимо оттого, когда были составлены и предложены «царские вопросы»: около февраля 1550 года{1813}, между мартом — сентябрем 1550 года{1814}, одновременно с Судебником в июне 1550 года{1815} или, наконец, в летние месяцы 1550 года{1816}. Не столь существенно и то, состоялось ли заседание, на котором рассматривались эти вопросы{1817}, или же дело ограничилось только составлением «проекта реформ»{1818}. Куда важнее засвидетельствованный источником принцип совместного обсуждения и решения носителями светской и церковной власти проблем государственной жизни. Этот принцип был реализован в полном объеме на Стоглавом соборе 1551 года, что стало весьма наглядным фактом срастания государства и церкви. Таким образом, «царские вопросы», обращенные к руководству православной церкви, возможное их обсуждение с принятием соответствующих решений на совете (собрании) царя с высшими церковными иерархами и Боярской Думой явились своеобразной технической подготовкой к Стоглавому собору и вместе с тем определенным этапом на пути формирования теократической монархии в России. В своей речи на открытии Стоглавого собора царь Иван IV, как мы видели, очертил весьма широкий круг соборной компетенции, распространявшейся и на церковные, и на светские дела. Земские интересы Собора 1551 года долгое время находятся в поле зрения исследователей{1819}. Возникла версия о Стоглавом соборе как церковно-земском, основанная на том, что в работе Собора участвовали светские представители власти (Боярская Дума) и что предметом обсуждения на нем, помимо церковных вопросов, были еще и земские вопросы. Эта версия, заявленная впервые И. Н. Ждановым{1820}, приобрела немало сторонников среди именитых историков. Назовем лишь некоторых, в частности М. А. Дьяконова, признававшего «вполне правильной мысль Жданова, что земский собор «вырастает на одном стволу с собором церковным», которым на первых шагах своей жизни значительно и закрывается. Поэтому Жданов и назвал Стоглавый собор «церковно-земским»{1821}. На Стоглавом соборе, по С. Ф. Платонову, царь Иван «выражает намерение обращаться к собору со всем тем, что «наши нужи или которые земские нестроения». Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а «церковно-земским» собором»{1822}. В другой раз С. Ф. Платонов говорит: «Одновременно с Казанскими походами Грозного шла его внутренняя реформа. Начало ее связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550–1551 годах. Это не был земский собор в обычном смысле этого термина <…>. Как показал впервые И. Н. Жданов, в Москве заседал тогда собор духовенства и боярства по церковным делам и «земским»{1823}. Некоторые видные советские ученые также соглашались с терминологией И. Н. Жданова. С. О. Шмидт, например, говорил: «Стоглавый собор, по содержанию своей работы и по составу напоминавший собор весны 1549 г., еще И. Н. Жданов и М. А. Дьяконов с полным основанием называли церковно-земским»{1824}. Называл церковно-земским Стоглавый собор и Н. Е. Носов{1825}. Знаток истории соборов в России XVI–XVII веков Л. В. Черепнин полагал «достаточно обоснованным наименование, данное И. Н. Ждановым Стоглавому собору: церковно-земский»{1826}. Были, конечно, и оппоненты, возражавшие против такого наименования. К ним относился В. Н. Латкин, отвергавший название «церковно-земский» по отношению к Стоглавому собору. Суть его возражений сводилась к тому, что, во-первых, церковно-земский собор, как и земский, предполагает присутствие всех сословий, чего не было на Стоглаве, во-вторых, земские вопросы решались и на других церковных соборах, вследствие чего их тоже следовало бы именовать церковно-земскими, что не правомерно{1827}. Второй довод В. Н. Латкина показался В. В. Шапошнику особенно привлекательным{1828}. И он, подобно Латкину, не нашел «убедительных причин считать Собор 1551 г. церковно-земским»{1829}. Своими сомнениями насчет термина «церковно-земский» применительно к Стоглавому собору поделилась Т. Е. Новицкая. В обращении государя к собору она обнаружила не только духовенство, но и князей, бояр, воинов, православное христианство, что заставило ее подумать, «о каком соборе здесь идет речь. И. Н. Жданов и многие другие авторы видят в соборе 1551 года церковно-земский собор, а в Стоглаве — один из документов, принятых на этом соборе». Однако, замечает Т. Е. Новицкая, «обращение царя к князьям, боярам и народу в целом можно рассматривать и как публицистический прием»{1830}. Верно: можно рассматривать. Но можно и не рассматривать. Следовательно, тут все амбивалентно. Тем не менее надо признать, что именование Стоглавого собора церковно-земским действительно порождает сомнения, особенно с точки зрения характера соборных решений. В этом плане Собор 1551 года выступает не в качестве совещательного органа, каковым преимущественно являлся каждый земский собор XVI века, а как высший законодательный орган государства, с одной стороны, и как высшая церковная инстанция — с другой. Вот почему мы предлагаем его называть не церковно-земским, а церковно-государственным собором и видеть в нем важнейший элемент русской государственности середины XVI века, возведенной на основе единения церкви с государством. На эту особенность Стоглавого собора обратили внимание еще досоветские историки. «Церковный собор XVI–XVII вв., — писал Н. Ф. Каптерев, — это орган, при посредстве которого царь осуществлял свои верховные права»{1831}. Однако наиболее, на наш взгляд, проницательные суждения о Стоглавом соборе принадлежат И. В. Беляеву и А. Я. Шпакову. По словам И. В. Беляева, «Стоглав — образец сближения государственного и церковного права». Это сближение «так многосторонне и так тесно, что лучшего образца, по которому бы мог историк составить понятие об отношении на Руси церкви и государства в XVI в., трудно и найти»{1832}. Весьма примечательны наблюдения А. Я. Шпакова; который обнаружил в Стоглаве «обильнейший материал, освещающий отношение государственной власти и церкви». Исследователь усматривал в Стоглавом соборе — «кульминационный пункт теократического характера Московского государства, когда государство и церковь, слитые в единой организации, осуществляют совместную также единую программу»{1833}. Таким образом, перед нами высший законодательный церковно-государственный орган, только что возникший в итоге формирования Святорусского царства. Церковь и государство сошлись в этом царстве, образовав единство, составившее фундамент государственного здания России того и последующего времени. Вряд ли нужно распространяться о том, сколь благодатным для обеих сторон и для России в целом был этот редчайший в истории религиозно-политический альянс. Заметим только, что церковь, соединяясь с государством, получала мощную ограду от врагов внешних и внутренних, что было чрезвычайно важно в условиях, когда соседние западноевропейские страны раздирали ереси. В свою очередь государство, оцерковляясь, обновляло и умножало собственные силы, а посредством церковной организации проникала в глубокие сферы народного бытия, преобразуясь в государственную систему, блестяще обрисованную в свое время Л. А. Тихомировым и И. Л. Солоневичем{1834}. Что касается России, то ее величие и особая роль в мировой истории в значительной мере определялись союзом самодержавия с православной церковью. Возвращаясь к Стоглавому собору, засвидетельствовавшему единство православной церкви и русского самодержавства, заметим, что такой ход событий не устраивал реформаторов, потерпевших, несмотря на некоторые тактические успехи, общее стратегическое поражение. Рушились их планы по переустройству православной церкви на реформационный лад и преобразованию русского самодержавия в ограниченную монархию западного типа. Чем они ответили на это поражение? Прежде всего реформаторы приступили к чистке иерархов православной церкви, причем не медля{1835} и не разбираясь в средствах. Иван Грозный впоследствии вспомнит о жестоких гонениях, которым Сильвестр и Адашев подвергали церковных деятелей{1836}. В частности, царь расскажет о том, как по их наущению был избит камнями сторонник иосифлян Феодосий{1837}, епископ коломенский, согнанный с престола: «Гонения же аще на люди воскладаете: вы ли убо с попом и с Алексеем не гонили? Како убо епископа Коломенского Феодосия, нам советна, народу града Коломны повелесте камением побити? И его Бог ублюде, и вы его со престола прогнали»{1838}. Данное свидетельство примечательно не только тем, что содержит упоминание о факте низложения коломенского владыки, но еще и тем, что позволяет составить представление о возможностях Сильвестра и Адашева, способных управлять поведением населения целых городов. * * *Попутно наступлению на русское самодержавство и апостольскую церковь реформаторы вели подкоп под православную веру. Они, судя по всему, поощряли еретиков, способствуя оживлению их деятельности после Стоглавого собора. Ересь приобрела столь широкий размах, что потребовалось созвать специальный церковный собор с целью суда над лицами, причастными к ней. Особую опасность представляло проникновение ереси в верхние слои общества. Как и при Иване III, она просочилась в Кремль, где ее средоточием стал двор князей Старицких{1839}. Как и при Иване III, воздействию еретических учений подверглись люди, правившие страной, на сей раз Сильвестр, Адашев, Курбский и др. Свое сочувственное отношение к ереси (а тем более причастность к ней) эти люди держали в глубокой тайне. И только по некоторым косвенным сведениям, намекам и отрывочным данным источников можно догадываться об этой потаенной стороне их жизнедеятельности. Возьмем для начала Сильвестра. Со слов Ивана Висковатого мы заключаем, что поп Сильвестр «ссылался» и был «в совете» с еретиками Матвеем Башкиным и старцем Артемием{1840}. Мы знаем также, что Сильвестр отрицал свою связь с еретиками{1841}. Однако иначе он поступить не мог. В противном случае ему пришлось бы разделить судьбу с осужденными церковным собором 1553–1554 гг. отступниками от православной веры, закончив свой век в какой-нибудь монастырской темнице. Помимо этого общего соображения, есть и другие основания для сомнений в правдивости Сильвестра. И уж никак нельзя не замечать обстоятельств, вводивших благовещенского попа в круг достаточно специфических связей. Сильвестр, как известно, был в приязненных отношениях со старицкими князьями, родственники которых дворяне Г. Т. Борисов и его брат И. Т. Борисов-Бороздин входили в еретический кружок Матвея Башкина{1842}. Борисовы, будучи троюродными братьями княгини Ефросиньи Старицкой, занимали видное положение при дворе удельного старицкого князя Владимира Андреевича{1843}. По резонному мнению Р. Г. Скрынникова, «трудно предположить, чтобы кн. Е. Старицкая не была осведомлена о «вольнодумстве» своих братьев и придворных». Не менее трудно предположить и другое, а именно, что Сильвестр, этот давний доброхот семьи Старицких, не имел никакого понятия насчет еретичества братьев Борисовых. Но коль так, то логично допустить, что посредством этих родичей княгини Ефросиньи он мог установить связь с Матвеем Башкиным. Чем привлекали Сильвестра и его сотоварищей дворяне Борисовы и сын боярский Башкин? Надо полагать, не только своими еретическими увлечениями, но и тем, что это были военные, служилые люди, которые, являясь еретиками и в силу того оппозиционерами существующей власти, могли использоваться временщиками в нештатных, так сказать, придворных ситуациях, как это, к примеру, имело место в марте 1553 года, когда острейшим образом встал вопрос о престолонаследии. Летописец, повествуя о мартовских событиях 1553 года, сообщает о привлечении к разрешению возникшего вследствие тяжелой болезни Ивана IV династического кризиса детей боярских, служивших старицким князьям. Едва ли братья Борисовы-Бороздины находились в стороне от борьбы своих родичей-сюзеренов за московский престол, развернувшейся в те памятные мартовские дни. Что касается Матвея Башкина, несшего службу в Москве{1844}, то ему удалось собрать вокруг себя значительную, по всей видимости, группу служилых людей и приобщить их к ереси, о чем узнаем из соборной грамоты в Соловецкий монастырь, где говорится о том, как «еретик и отступник» Матвей Башкин «начат своих единомысленников пред Царем на соборе с очей на очи обличати; единомысленицы же его начат запиратись, неции ж от них и сами сказали на себя, что святым иконам не поклонялись да и уложили перед сего под Казанью, что и впредь святым иконам не покланятись»{1845}. Данное свидетельство, недостаточно оцененное исследователями, указывает на участие единомысленников Башкина в Казанском походе 1552 года в качестве, несомненно, «воинников», т. е. служилых людей. Даже во время похода они не прекращали своих тайных собраний, однажды условившись «и впредь иконам не поклонятись». К этому их побудило, очевидно, то обстоятельство, что в походах на иноверных поклонению святым иконам придавалось особенно важное значение, тем более в таком победоносном, каким стал поход 1552 года. Быть может, под впечатлением такого рода иконного моления присутствующие в русском войске еретики во главе с Матвеем Башкиным подтвердили вновь и сообща свое негативное отношение к иконам. На Башкина, как и на Борисовых-Бороздиных, поп Сильвестр мог смело положиться. Довольно правдоподобным выглядит предположение А. А. Зимина относительно того, что в марте 1553 года кружок Матвея Башкина «поддерживал кандидатуру старицкого князя Владимира»{1846}, действуя, следовательно, соответственно планам Сильвестра и стоявшей за ним Избранной Рады. Кстати сказать, А. А. Зимин отмечает близость Башкина к деятелям «правительства компромисса», т. е. Избранной Рады{1847}. Он же говорит о близости Сильвестра к еретикам{1848}. Как видим, для Сильвестра, Адашева и других «реформаторов» еретики были естественными союзниками. Иван Висковатый не только указывал на связь Сильвестра с еретиками Матвеем Башкиным и Артемием, но и прямо уличал его в ереси, проявленной им в подборе икон и аллегорических изображений на библейские сюжеты для Благовещенского собора и царских палат в Кремле. В «жалобнице», поданной митрополиту Макарию и «всему освященному собору» на посольского дьяка, сам Сильвестр говорил об этом так: «Да писал (Висковатый. — И.Ф.), что яз из Благовещенья образы старинные выносил, а новые своего мудрования поставил, да в жертвеннике от своего же умышления престол сделал, сказывает нигде того нет, да иные иконы писаны не по существу, как что в грамоте писано, да и в полате де притчи писаны не по подобию»{1849}. Далее Сильвестр напоминал: «Что о иконах Иван писал и то, государь святый Митрополит и весь освященный собор, ведомо: был, по грехом, великий пожар в сем царьствующем граде Москве и все освященныя церкви и честныя иконы, и царьский двор, и полаты, и многие стяжанья и посады все, огнем погорели, и Государь православный Царь сам жил в Воробьеве; а розослал по городом по святыя и честныя иконы, в Великий Новгород, и в Смоленьск, и в Дмитров, и в Звенигород, и из иных многих городов многия чудныя святыя иконы свозили и в Благовещенье поставили на поклонение царево и всем християном, доколе новые иконы напишут; и послал Государь по иконописцов в Новгород и во Псков и в иные городы, и иконники съехалися, и Царь Государь велел им иконы писати, кому что приказано, а иным повелел полаты подписывати и у града над враты Святых образы писати; и я, доложа Государя Царя, велел есми Новгородским иконником написати святую Троицу Живоначалную в Деяниях, да Верую во единаго Бога Отца, да Хвалите Господа с небес, да Софию Премудрость Божию, да Достойно есть, а перевод у Троицы имали иконы, с чего писали, да на Симонове; а Пьсковские иконники, Останя, да Яков, да Михаиле, да Якушко, да Семен Высокой Глагол с товарищи, отпросилися во Псков, и ялися тамо написати четыре болшия иконы: 1 Страшной Суд, 2 Обновление храма Христа Бога нашего Воскресения, 3 Страсти Господни в евангельских притчах, 4 икона, на ней четыре праздники: И почи Бог в день седмый от всех дел своих, да Единородный Сын Слово Божие, да Придете людие трисоставному Божеству поклонимся, да Во гробе плотски; и как иконописцы иконы написали, Деисус, и праздники, и пророки, и местный болшия иконы, и те иконы, которыя во Пскове писаны, привезли же в Москву…»{1850}. И вот едва новые иконы стали доступны взору приходящих в храм православных христиан, как разразился большой скандал. Иван Висковатый стал с великим шумом («вопил») и прилюдно обвинять Сильвестра, руководившего работами по написанию икон и росписей{1851}, в еретическом отступлении от канонов иконного письма. Е. Е. Голубинский по этому поводу замечал: «Когда иконы были написаны и поставлены в соборе и когда начали ходить смотреть их, Висковатый нашел, что многие из них представляют собою нововводное и противное соборным правилам об иконописании измышление. Он полагал, что 7-й вселенский собор не дозволяет писать на иконах ничего, кроме образа Спасителя по плотскому Его смотрению или виду, кроме распятия Господня и кроме образов Богородицы и святых, т. е. ничего, кроме, так сказать, исторических, воспроизводящих реальную действительность портретов; между тем на новых иконах изображены были: Бог Отец или Господь Саваоф по видению пророка Даниила в виде седовласого старца; святая Троица в виде трех ангелов; Спаситель символически в нескольких видах — в виде ангела с крыльями, сидящего на верху креста в доспехе, в виде младого юноши, облеченного в броню и имеющего в руке меч, в виде царя Давида; Дух святый в образе голубя, и целые сюжеты многих икон представляли взятое не из мира вещественно-видимого, таковы иконы: Предвечный совет, Почи Бог от дел своих, Единородный Сын, Слово Божие, Приидите людие триипостасному божеству поклонимся, Верую во единаго Бога, написанное при том в двух различных видах (в церкви в одном виде, на паперти в другом) и некоторые другие»{1852}. Висковатый был убежден в том, что через новые иконы Сильвестр распространял ересь Башкина и Артемия: в изображении Христа в виде ангела он усматривал отрицание равенства Иисуса Христа с Богом Отцом, а изображение Иисуса на кресте со сжатыми дланями (а не раскрытыми) и с ослабленными руками (а не вытянутыми по кресту прямолинейно) воспринимал как «мудрование тех, которые утверждали, что Он (Иисус Христос) не очистил нас от греха и которые считали его за простого человека»{1853}. Сколь обоснованы были обвинения Ивана Висковатого? Не являлись ли они надуманными и несправедливыми? Историки по-разному отвечают на эти вопросы. Некоторые исследователи полагали, что Висковатый переусердствовал по части бдительности, зря волновался и будоражил народ, выдавая кажущееся ему за действительное. Именно в этом ключе рассуждал митрополит Макарий (Булгаков): «Так как некоторые из новых икон, особенно в придворной Благовещенской церкви, непохожи были на те, какие прежде в ней были и к которым все привыкли; так как одного из священников этой церкви, Сильвестра, по распоряжению которого и писаны новые иконы, Висковатый подозревал в единомыслии с Артемием, а другого священника, Симеона, признавал духовником Башкина, то пришел к мысли, не приведены ли в новых иконах под видимыми образами еретические мудрования. Увлекшись такою мыслию, Висковатый начал критиковать новые иконы, порицал их вслух всего народа к соблазну православных…»{1854}. Современный ученый-историк А. А. Зимин отнес высказывания Висковатого относительно новых икон к разряду домыслов{1855}. Однако еще Е. Е. Голубинский говорил: «Висковатый был прав и ошибался только в том, что ссылался на 7-й вселенский собор. Не 7-й вселенский собор, а отчасти 6-й вселенский собор, главным же образом отцы и учителя церкви, прежде и после 7-го вселенского собора защищавшие иконопочитание от иконоборцев, указывая цель и назначение икон и отстраняя деланные против них возражения, говорят, что иконы должны быть изображением действительных лиц и действительных событий, так чтобы иконописание представляло из себя в строгом смысле слова живопись историческую (было так сказать историей в красках)»{1856}. А. В. Карташев, отмечая излишнюю подозрительность Ивана Висковатого, вместе с тем признал, что Висковатый правильно указал на «самоограничительную черту вероопределения VII Всел. Собора. Под давлением иконоборческой критики отцы собора в защите иконопочитания вообще оперлись на не потрясаемую основу. А именно: — на догмат боговоплощения, на веру в реальность (а не монофизистскую призрачность) человеческой природы во Христе. Христос евангельский и вся его видимая земная история есть бесспорный предмет наглядного изображения в формах пластических искусств. В 52 правиле Трулльского собора (692 г.) этот «исторический» реализм иконописания заостряется даже до прямого запрещения изображать Христа в образе агнца, ибо символ агнца относится к «сеням и прообразам» минувшего «закона». Мы уже должны «предпочитать исполнение закона, благодать и истину», и потому Христа «на иконах представляти по человеческому естеству, вместо ветхаго агнца». Таким образом, придирчивая критика Висковатого права в ссылке на букву древних правил. Но предпосылки последних — зримый исторический факт — может толковаться и более расширенно. Напр., явление Св. Троицы Аврааму в виде трех странников, которых он угощал обедом. Хотя это было и видение, но для Авраама оно было осязательным ярким фактом. И знаменитый инок Андрей Рублев, пиша свою знаменитейшую Троицу, ни минуты не колебался, что будто бы он этим нарушает запреты вселенских соборов. Следовательно, и в восточной иконографии была тенденция широкого истолкования соборной директивы. Но все-таки вопрос об иконном изображении библейских сновидений и апокалиптических видений являлся новым, исторической практикой непредвиденным. Здесь художество западных христиан пошло дальше привычек Востока. И протест Висковатого становится понятным, не только как симптом русской склонности к обрядоверию, но и как чуткая ревность о чистоте православия в атмосфере XVI века, насыщенной электричеством протестантизма и свободомыслия»{1857}. Признав факт нарушения в некоторых возобновленных иконах и фресках правил иконографии, принятых отцами церкви, А. В. Карташев воздержался от каких-либо специальных замечаний по существу кураторской деятельности Сильвестра, но при этом дал понять, что не верит обвинениям Ивана Висковатого, хотя и не сомневается в искренности последнего: «Во встревоженной атмосфере Москвы даже друг митр. Макария, протопоп Сильвестр, мог показаться подозрительным для Висковатого, потому что Сильвестр внешне дружил с Артемием. А Благовещенский Симеон долго возился с Башкиным. Как только коалиция упрощенных московских консерваторов подняла шум и около Башкина и около Артемия, Висковатому даже искренне могло показаться, что попустительство Сильвестра иконографическому новаторству псковичей может быть связано с еретической отравой, идущей с Запада»{1858}. Недвусмысленную позицию в данном вопросе занимает новейший исследователь И. Граля: «Обоснованность выводов посольского дьяка не подлежит сомнению в свете развернувшейся более чем век спустя реформаторской деятельности патриарха Никона. Лучше всего доказывают это постановления московского собора 1667 г., категорически запретившие какие бы то ни было изображения Бога-Отца, а также любые символические и ирреальные образы»{1859}. Хотя Висковатого и осудил церковный собор, «дальнейшее развитие религиозной дискуссии, ведущейся вокруг иконописи, показало, что дьяк в большинстве вопросов был ближе к истине, чем собор и митрополит»{1860}. Правоту Висковатого историк видит, прежде всего, в установленной посольским дьяком неканоничности ряда икон, тогда как его обличения Сильвестра в ереси всерьез не принимает: «Внесенные на обсуждение собора в атмосфере нараставшей подозрительности откровения Висковатого носили характер публичного обвинения Сильвестра и Симеона в пособничестве ереси. Свидетельство незаурядного советника монарха могло иметь пагубные последствия для обоих обвиняемых, но проведенное расследование обвинений не подтвердило»{1861}. Таким образом, исследование «дела Висковатого» показывает, что в иконах, поставленных вновь после «великого пожара» 1547 года в Благовещенском соборе под присмотром попа Сильвестра, таких как «Предвечный Совет», «Почи Бог от дел своих», «Придите людие, Триипостасному Божеству поклонимся», «Верую во Единаго Бога», «Единородный Сын» и др., запечатлено явное отклонение от канонической иконописи, характеризуемое произвольным аллегоризмом, небезопасным для чистоты православной веры. Особенно это касалось изображения Иисуса Христа в виде ангела, юноши и царя Давида, а также в принципе — изображения Троицы в виде трех ангелов. Вообще же надо сказать, что новая иконография тяготела к Ветхому Завету, к пророческим образам{1862}. Поражали вольностью своей и росписи. На фресках Благовещенского собора среди христианских святых были изображения Гомера, Демокрита, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Вергилия и др. Любопытен портрет Аристотеля, держащего в руках развернутый свиток с надписью: «Первые Бог, потом Слово и Дух, а с ним едино»{1863}. Не исключено, что данная надпись — поправка к начальной фразе Евангелия от Иоанна («В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог»){1864}. Если это так, то Аристотель здесь не только приобщен к сонму православных святых, но и чуть ли не возведен в апостольский ранг, что являлось еретической выходкой, направленной против христианства. Еще более показательны в данном отношении слова упомянутой только что нами поправки к начальной фразе Евангелия от Иоанна, искажающей канонический евангельский текст. Но существо дела здесь не столько в искажении евангельского текста, сколько в раскрытии Троицы как последовательного единства Божия (сначала Бог, а потом Слово и Дух), что не вполне соответствовало христианскому учению, поскольку в Святой Троице «ничтоже первое Или последнее, ничтоже более или менее, но целы три ипостаси, соприсносущны себе и равны»{1865}. Что скрывалось за этой дышащей ветхозаветной древностью новацией, запечатленной росписью Благовещенского собора, догадаться нетрудно. То была получившая распространение на Руси в рассматриваемое время антитринитарная ересь. Вполне закономерен вопрос, где искать источник иконографических и фресковых нововведений и что можно сказать об отношении к ним Сильвестра. Исследователей больше занимал первый вопрос, нежели второй. Согласно Е. Е. Голубинскому, греческие иконописцы давно вышли на свободу творчества за пределы, очерченные вселенскими соборами и отцами церкви. Поэтому «значительной части икон, против которых восставал Висковатый, могли быть указаны многочисленные существовавшие образцы, каковое указание и сделал митрополит в своем ответе Висковатому. Греческих образцов некоторых икон митрополит не мог указать, потому что иконы, т. е. сюжеты, были заимствованы новгородскими иконописцами от живописцев западных»{1866}. А. В. Карташев, говоря о виртуозности и новизне «иконных комбинаций» новгородско-псковских иконописцев, замечал, что источник этих комбинаций «история русского искусства без труда открыла в образцах иконописи и живописи германской. Доступным средством ознакомления наших пограничных с Западом псковских мастеров явилась тогдашняя уже печатная немецкая гравюра. Псковичи набросились на новинки и не без творческой оригинальности внесли много новизны в графику, в краски и особенно в самые иконные сюжеты в стиле богословских аллегорий. До сих пор сохранившаяся иконостасная живопись Благовещенского собора, хотя и правленная, бросается в глаза своей непривычной для старой Москвы выборностью»{1867}. По словам Р. Г. Скрынникова, «XVI век — время перелома в русском иконописании, и раньше всего этот перелом сказался в Новгороде и Пскове. Прежнее иконное письмо, сложившееся под влиянием византийской школы, пришло в упадок. В живописи появились новые темы и композиции, все более сказывалось увлечение декоративным символизмом. Икона стала изображать скорее идеи, чем лики. Она превращалась в иллюстрацию к библейским и апокрифическим текстам. И в этом случае Новгород оказался подвержен западным влияниям в большей мере, чем Москва. Висковатый уловил перемену и решительно восстал против нее…»{1868}. Итак, следует согласиться с учеными, выявившими два источника новшеств в иконографии и росписях Благовещенского собора и царских палат середины XVI века — восточный (православный) и западный (католический и протестантский). Но это общее определение нуждается в некоторых комментариях. Начнем с восточных образцов иконописания. Немало икон, вызвавших протест у Ивана Висковатого, действительно имели аналоги в восточной иконописи, стремившейся выйти на свободу творчества за рамки предписаний вселенских соборов и отцов церкви. Были у авторов этих икон и отечественные образцы, в частности Святая Троица Андрея Рублева, изображенная в виде трех ангелов. Стоглавый собор, как известно, велел иконописцам писать иконы с восточных образцов, не вникая особенно в их детали и тонкости, а также безоговорочно следовать творчеству Андрея Рублева и других прославленных русских мастеров: «Писати живописцем иконы з древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочии преславущии живописцы, и подписывати «Святая Троица», а от своего замышления ничто же предворяти»{1869}. Это правильное в своей основе соборное предписание, сформулированное, так сказать, в абстрактном плане, не учитывало должным образом специфики религиозной ситуации, сложившейся на Руси середины XVI века, — подъема еретических движений, затронувших практически все слои русского общества. В обстановке религиозного замешательства древние образцы греческой иконографии, выполненные в духе свободного творчества (т. е. с нарушением установленных канонов), приобретали значение прецедентов, которыми умело пользовались противники православной веры, внося в написание икон новые антихристианские элементы и прикрываясь при этом иконописной традицией. В результате эта традиция, наполняясь новым содержанием, лишь по форме являлась традицией, тогда как по сути не была таковой. То же самое можно сказать и об иконописи Андрея Рублева, в частности о его замечательной Троице. А. В. Карташев был, безусловно, прав, когда говорил о том, что Андрей Рублев, создавая свою знаменитую Троицу, «ни минуты не колебался, что будто бы он этим нарушает запреты вселенских соборов»{1870}. Не колебались тут, по всей видимости, и современники великого иконописца, жившие в конце XIV — начале XV века. Но в середине XVI века, во время еретических шатаний в русском обществе, представлявших для православия серьезную угрозу, пример Рублева мог служить и служил, как это видно в случае с Благовещенским собором, прикрытием для иных целей. Полагаем, что обо всем этом необходимо помнить при рассмотрении восточных и отечественных источников кремлевской иконографии середины XVI века. Что касается западных источников этой иконографии, то их нельзя, на наш взгляд, сводить к одному лишь новаторству новгородских и псковских иконописцев, заимствовавших иконописные сюжеты у живописцев Западной Европы. Подобное заимствование, несомненно, имело место. Но нельзя забывать и того, что некоторые «консультанты» по части сюжетного оформления икон находились не на Западе, а в России — в Москве и даже в Кремле. То были еретики, с видными представителями которых Сильвестр, руководивший иконописными и расписными работами, был «советен». Вместе с ними или под их влиянием (в принципе это неважно) Сильвестр ввел в кремлевскую живопись еретические мотивы. И дьяк Иван Висковатый, обладавший по тогдашним временам незаурядной богословской эрудицией, сразу почуял тут неладное. Не так уж он был не прав, заподозрив, что через новые иконы проводятся еретические идеи. Так, в изображении Иисуса Христа ангелом он увидел отрицание равенства Христа с Богом{1871}, что являлось характерным для еретиков, отдававших предпочтение ветхозаветному Богу. Нетипичные для православной веры особенности изображения Спасителя на кресте не без основания показались ему «мудрованием», за которым скрывалась ересь, отвергавшая божественную природу Христа и считавшая его простым человеком{1872}. Порождала известные сомнения и благовещенская икона «Троица» с ее несколько грузными (очеловеченными в стиле Ренессанса) ангелами и помещенным на втором плане двухэтажным зданием, «в архитектуре которого прослеживаются черты западного Возрождения»{1873}. Сильвестр, отводя обвинения Ивана Висковатого, выдвигал два основания своей невиновности: написание икон по древним образцам и одобрение их царем Иваном и митрополитом Макарием «со всем освященным собором». Особенно он напирал на последнее обстоятельство: «И те иконы, которые во Пскове писаны, привезли же на Москву, и Царь и Государь те старые привозные иконы честно проводил со честными кресты и молебная совершал Митрополит со всем освященным собором <…> а в Благовещенье и во Архангеле и у вознесенья новые иконы Царь и Государь велел поставляти, а о которых святых иконах Иван соблажняется, да что в полате въ притчи писаны, ино святый Митрополит государь, и святые владыки, и архимандриты, игумены и протопопы, и протодиаконы, и весь освященный собор, ведает…»{1874}. Эта оплошность, допущенная царем и митрополитом, спасла, по всей видимости, Сильвестра. В противном случае, т. е. в случае признания справедливости обвинений Висковатого, Иван IV и Макарий оказались бы в весьма щекотливом положении. Вот почему не стоит говорить, будто митрополит Макарий защитил Сильвестра от нападок Висковатого{1875}. Макарий защитил себя, свой престиж и авторитет как главы русской церкви. Сильвестра не так-то просто было взять, ибо его влияние тогда являлось, по словам Р. Г. Скрынникова, «неколебимым. Молодой государь слушал его как наставника. К тому же Сильвестр пользовался особым покровительством семьи удельного князя Владимира Андреевича»{1876}. И все же собор, даже осудив Висковатого, согласился с отдельными его замечаниями и «приказал сообразно им исправить иконы»{1877}. Примечательно и то, что митрополит Макарий так и не смог указать на старые греческие иконы, послужившие образцами при написании некоторых новых икон{1878}. Тем не менее он не принял сторону Ивана Висковатого. Означает ли это, что митрополит был убежден в религиозной чистоте Сильвестра? Вряд ли. Кое-что в данном отношении проясняет современное тем событиям публицистическое сочинение — анонимная «Повесть некоего боголюбива мужа, списана при Макарье митрополите Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всей Руси, да сие ведяще, не впадете во злыя сети и беззакония отъялых и прелщеных человек и губительных волков, нещадяще души, ей же весь мир не достоин, прочетше же сие, человецы, убойтеся чары и волхования, творяще скверная Богу, и грубая и мерекая и проклятая дела»{1879}. По мнению П. А. Садикова, «Повесть некоего боголюбивого мужа… царю и великому князю Ивану Васильевичу всей Руси» вышла из литературного окружения митрополита Макария{1880}. Весьма вероятно, что к созданию «Повести» имел «прямое отношение Макарий»{1881}. Хотя она «непосредственно адресовалась Ивану IV»{1882}, но предназначалась широкому кругу читателей, что явствует из слов ее заголовка «прочетше же сие, человецы, убойтеся чары и волхвования, творяще скверная Богу…». Это позволяет рассматривать «Повесть» как памятник религиозно-политической борьбы в России середины XVI века. Ф. И. Буслаев в своих примечаниях к «Повести» замечал: «Эта повесть замечательна по намекам на грозный нрав и дела Иоанна IV <…>. Враждовавшие в его царствование партии выступают и в повести. Главная завязка ее — чародейство, которого, как исторически известно, сильно боялся Иоанн»{1883}. Согласно П. А. Садикову, «все сочинение било на веру царя в колдовство и под видом советников-чародеев призрачно разумело его сотрудников по «избранной раде», стремясь доказать необходимость для него и государства осуществления подлинного, ни от кого не зависимого «самодержавства»{1884}. Цель «Повести» П. А. Садиков видит в предостережении царя «от неверных «синклит» (советников), которые стали бы склонять его верить своим чародейским книгам»{1885}. Сходные суждения высказал И. И. Смирнов, считавший целью написания «Повести некоего боголюбивого мужа» воздействие на царя Ивана, чтобы побудить его «к борьбе против тех «синклитов», т. е. бояр, которые являлись противниками усиления самодержавной власти Ивана IV»{1886}. При этом «основной огонь «Повесть» направляет против «синклита чародея», едва не погубившего вместе со своими «единомышленниками» некоего благочестивого царя»{1887}. Обратимся, однако, к самой «Повести». В ней говорится о царе, благоверном, боголюбивом и милостивом, любившем суд и правду. Царство его изобиловало «всеми благими», а воины его «враги побеждаху, яко огнь попалящ лица противных»{1888}. И вот «прилучися некто у того благочестиваго царя синклит чародей зол и губитель муж, царем же он зело любим бе, и нача въ уши влагати ложная царю»{1889}. Этот чародей-советник собрал вокруг себя единомышленников и вместе с ними «нача ложная царю глаголати, и оклеветати неповинныя, и смути царя на людей, людей же на царя, и оскорби царь неповинных различными печалми, и сам от них печаль имяше и страхование…»{1890}. Все это живо напоминает первые годы царствования Ивана IV, призывавшего подданных к общественному примирению и согласию, напоминает образование при государе группы советников («синклита»), собранных любимцами царя Сильвестром и Адашевым, и усиление борьбы придворных партий, явившейся следствием деятельности данного «синклита», или Избранной Рады. Советник-чародей, рассказывает «Повесть», погубил бы царя окончательно, если бы того Бог не уберег. Особый интерес для характеристики «синклита чародея» представляет глас Божий, обращенный к царю: «Воспомяни, Аз избрах тя царя, и преславна тя сотворих, ты же поругася Мне, отступи от Мене, и приложися к бесом, остави всемогущую Мою помощь и силу, совокупися со враги креста Моего, на нем же Аз распялся за весь мир…»{1891}. Бог здесь — Иисус Христос. Следовательно, грех царя, поддавшегося влиянию «синклита чародея», состоял в отступничестве от Спасителя и утрате веры в животворящую силу Креста. Это есть как раз то, что присуще было еретикам в России конца XV — середины XVI века. Так автор «Повести» опосредованно, через царя, обвиняет советника-чародея «со единомышленными» в ереси. Причастность «синклита чародея» и его друзей к ереси подчеркивается способом расправы с ними: «Царь же прелщения их поведа епископу и всем людем бывшая от них, осуди их смертию, и повеле их всех пожечи огнем…»{1892}. Сожжению тогда подвергались, как известно, еретики. Таким образом, «Повесть некоего боголюбивого мужа» позволяет сделать предположение о том, что митрополит Макарий и люди из его окружения испытывали немалые сомнения относительно религиозной чистоты Сильвестра и его единомышленников. Убежден был в чародействе Сильвестра и царь Иван Васильевич Грозный. Князь Курбский в первом своем послании Грозному вопрошает: «Почто, царю, силных во Израили побил еси <…> и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько прозывати?»{1893}. Здесь Курбский наверняка имел в виду и Сильвестра, невинно, как заявлял князь, пострадавшего от царя Ивана, подобно другим «доброхотным». Попутно заметим: сам Курбский сознавался, что наслышан о чудесах (чародействе), творимых Сильвестром, но только не знал-де, истинные ли то были чудеса или вымышленные с целью педагогического воздействия на молодого государя, чтобы вывести его «на стезю правую»{1894}. Среди «доброхотных», коих Иван Грозный обвинял в чародействе, Курбский, по всей видимости, числил и Алексея Адашева, что явствует из третьего его послания Ивану, где читаем: «А еже пишеши, аки бы царицу твою очаровано и тобя с нею разлучено от тех предреченных мужей…»{1895}. Нет сомнений, что «предреченные мужи» — это Сильвестр и Адашев. По тем временам обвинить в чародействе — значит обвинить в еретичестве. Надо сказать, что мы располагаем редкими сведениями источников о религиозных предпочтениях Адашева, да и то они носят косвенный характер. Известно, например, его присутствие при доносе Сильвестра и благовещенского священника Симеона государю на сына боярского Матвея Башкина, впавшего в ересь. В челобитной митрополиту Макарию поп Сильвестр писал: «И как государь из Кирилова приехал и язъ съ Семионом то Царю Государю Великому Князю все сказали про Башкина, а Ондрей протопоп и Алексей Адашев то слышали жъ»{1896}. Ересь Башкина, как мы знаем, Сильвестр долго утаивал. И лишь когда дело приобрело скандальный оборот, Сильвестр, чтобы отвести от себя подозрение, отмежевался от Матвея и донес на него царю Ивану. Ситуация, по-видимому, был настолько серьезной и угрожающей, что в нее решил вмешаться Алексей Адашев и, разумеется, на стороне Сильвестра. Трудно предположить, что тот не информировал своего друга своевременно о ереси, просочившейся в Кремль. Столь же трудно предположить, что Адашев не был с Сильвестром «заодин» в благожелательном отношении к дворцовым еретикам. Другое известие, побуждающее задуматься относительно Адашева, сообщает Пискаревский летописец: «А житие его (Адашева. — И.Ф.) было: всегда пост и молитва безспрестани, по одной просвире ел надень»{1897}. Курбский, превознося нравственные качества Адашева, говорил: «Понеже той был Алексей не токмо сам добродетелен, но друг и причастник, яко Давыд рече, всем боящимся Господа и сообщник всем хранящим заповеди его. И колко десят имел прокаженных в дому своем, тайне питающее и обмывающее их, многожды сам руками своими гной их отирающа»{1898}. Перед нами тайна, легко переходящая в гласность, больше того: рассчитанная на гласность. Такое наружное и показное благочестие внушает подозрение, поскольку к нему обычно прибегали еретики, скрывавшие свою истинную веру и желавшие выдать себя за правоверных христиан. А столь избыточное (для человека положения Адашева) и отнюдь не тайное «подвижничество» преследовало, скорее всего, цель произвести впечатление на окружающих и создать вокруг себя ореол святости. И Курбский взял на себя смелость, вопреки церковным правилам, назвать Адашева святым{1899}. Курбский приводит один любопытный рассказ, характеризующий связи Алексея Адашева: «Тогда-то убиенна Мария преподобная, нарицаемая Могдалыня, с пятью сынами своими, понеже была родом ляховица, потом исправилася в правоверие и была великая и превосходная постница, многажды в год единова в седмицу вкушающа, и так во святом вдовстве провозсиящия, яко на преподобном теле ея носити ей вериги тяжкие железные, тело порабощающе, да духу покорит его. И прочих святых дел ея и добродетелей исписати тамо живущим оставляя. Оклеветанна же перед царем, аки бо то была чаровница и Алексеева согласница, того ради ее погубити повелел и со чады ея, и многих других с нею»{1900}. Этот рассказ заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов особо. Первое, что привлекает наше внимание, — имя «ляховицы»: Мария Магдалина. Это имя, привычное у католиков, совершенно не типично для русской православной ономастики. Однако, несмотря на «исправление в правоверие» (т. е. переход в православную веру), «ляховица» сохранила свое прежнее имя, тогда как должна была бы получить новое. Здесь, стало быть, мы имеем либо «исправление» фиктивное (на словах, а не на деле), либо намек на особое религиозное значение сохраненного имени и его носительницы, либо то и другое вместе. Мы склоняемся к последнему варианту. Правда, рассказ Курбского можно истолковать и несколько иначе: «ляховицу», названную при обращении в православную веру Марией, стали затем звать Магдалиной, почему она и «нарицаемая Могдалыня»{1901}. Но при любом осмыслении рассказа видна не свойственная православной морали амбициозность «ляховицы», выражающаяся в стремлении соотнестись с известной «героиней» Святого Евангелия. А. Курбский, следуя, очевидно, существовавшей практике общения новой Магдалины со своими почитателями, прилагает к ней определение преподобная, причем преподобным называет и ее тело, изнуряемое постом и тяжкими железными веригами. Дела «ляховицы» Курбский, надо полагать, по примеру других восторженных ее почитателей, относит к разряду святых. Однако на роль преподобной «ляховица Могдалыня» явно не подходила. В православном мире преподобными именовали святых из монашеской братии, стяжавших «высшее нравственное достоинство своими подвигами и святостью жизни»{1902}. Наша «ляховица» не соответствовала этим критериям уже потому, что не являлась монахиней и «квалификацию» «преподобная» присвоила себе, судя по всему, самочинно. Вызывают недоумение слова Курбского о «преподобном теле» Магдалины, далеко отстоящие от православия. Но если учесть, что «Могдалыня» была объявлена как «чаровница» (колдунья), то кое-что проясняется, и мы можем с достаточным основанием говорить, что в этих словах слышится нечто еретическое. Западное происхождение Марии Магдалины (она — «ляховица», т. е. полька{1903}) говорит о многом. Именно с Запада, охваченного реформационными ересями, приезжали к нам еретики, развращавшие русских людей антихристианскими учениями. Там они укрывались, когда на Руси им грозила опасность. Нередко их приезды в Россию осуществлялись организованно, под эгидой западных еретических братств. Возможно, таковым был приезд и Магдалины, развернувшей активную деятельность по обращению в свою веру нестойких в православии христиан. И она преуспела в этой деятельности, собрав вокруг себя немало сторонников, что, собственно, подтверждает и Курбский, сообщая насчет ее казни «со чады» и «многими другими». Под «многими другими» подразумевались, несомненно, единомышленники Марии, которых она собрала, будучи в Русии. Стало быть, есть основание заключить о создании «чаровницей» нечто похожего на еретическую организацию, секту. Центром ее стал дом Алексея Адашева, в котором она, по догадке Р. Г. Скрынникова, обитала, но не в качестве приживалки, как полагает исследователь{1904}, а в роли руководительницы группы еретиков, сплотившихся вокруг нее. Судя по рассказу Курбского, на еретической ниве Мария трудилась не одна, а вместе с Алексеем Адашевым. Ее казнили как сообщницу, соучастницу («согласницу»{1905}) Алексея. Не так уж нелепо предположение о том, что Марию Магдалину кто-то направил из Польши или Литвы в помощь Адашеву. Если это так, то приоткрывается потаенная, тщательно скрываемая сфера деятельности Алексея Адашева, связанная с еретичеством. Нам, разумеется, могут сказать: Мария Магдалина, по свидетельству Курбского, была оклеветана как в том, что была «чаровницей», так и в том, что являлась «согласницей» Алексея Адашева. Это, конечно, так. Но бесспорно также и другое: клевета должна была выглядеть правдоподобно, т. е. соответствовать в какой-то мере реальной жизни. Данное обстоятельство нельзя отбрасывать при анализе рассказа Курбского. Этот рассказ, особенно в той части, где говорится о преподобном теле Марии Магдалины, обнаруживает и в самом рассказчике вольности, непозволительные для православного человека. Что это: из ряда вон выходящий случай или некая тенденция? Настал момент спросить и Курбского, «како веруеши». Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским содержит некоторые детали, обнаруживающее определенное (похоже, эпизодическое{1906}) неблагополучие в вопросах православной веры и у князя Андрея. Оказывается, Курбский, по словам Грозного, отступил от «божественного иконного поклонения» и «священных повелений» (т. е. догматов){1907}, а также проявлял особую склонность к Ветхому Завету («ветхословие любиши, к сему тя и приложим»){1908}, отнюдь не безобидную, а чреватую, как явствует из ответа царя Яну Роките, отпадением в ересь «жидовствующих»: «А еже от прочих словес о 2-законии словесех, аще нужда их держати, то нужда есть и обрезоватися и вся Моисеева Закона блюсти (и сего ради жидовствующе являетеся, истинным християном не подобно), — яже Христос своего божественаго плотского смотрения таинством разруши и Нов Завет законоположи»{1909}. Если Иван Грозный, говоря о любви Андрея Курбского к «ветхословию», имел в виду предпочтительное отношение Курбского к Ветхому Завету перед с Новым Заветом, то естественно возникает вопрос, от кого позаимствовал князь Андрей такого рода отношение. Ответ тут возможен один: от еретиков, с которыми, по-видимому, общался. Помимо прочих, надо полагать, то были люди его круга, и весьма возможно, что — люди, принадлежавшие к Избранной Раде. А. Курбский не чужд был мысли о «свободном естестве человеческом»{1910}, созвучной реформационным учениям. Она едва не завела его в манихейскую ересь, о чем Грозный говорил так: «А еже писал еси, аки не хотящу ми предстати нумытному судищу, — ты же убо на человека ересь покладываеш, сам подобно манихейстей злобесной ереси пиша. Яко же они блядословят, еже небом обладати Христу, на земли же самовластным быти человеком, преисподними же дьяволу…»{1911}. Иван, поправляя своего корреспондента, утверждал: «Тако же и се вем: обладающу Христу небесными и земными и преисподними, яко живыми и мертвыми обладая, и вся на небеси и на земли и преисподняя стоит его хотением, советом Отчим, благоволением Святаго Духа; аще ли не тако, сия мучение приемлют, а не якоже манихеи, яко ж блядословиши о неумытном судище Спасове…»{1912}. С точки зрения формальной, приведенные слова Ивана Грозного являлись ответом на следующий фрагмент из первого послания князя Андрея царю: «Али ты безсмертен, царю, мнишися, и в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытому судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу…»{1913}. Однако простое сравнение ответных слов Грозного с данным фрагментом показывает их, если можно так выразиться, непропорциональность: ответ Ивана и шире и глубже по содержанию, чем процитированный текст послания Курбского. Отсюда следует, что Иван Грозный отвечал, вероятно, не только непосредственно на «писание» князя Андрея, но и на нечто другое, например на давние религиозные споры и обсуждения со своим бывшим другом и даже, быть может, на распространенные среди сотоварищей Курбского по Избранной Раде взгляды, относящиеся к сфере религии. Последнее предположение тем более правдоподобно, что Иван Грозный, предназначая свое послание для «всего Российского царства», выступал не против одного Курбского, но всех «крестопреступников» в целом{1914}. Значит, и ответ свой здесь он мог дать всем разом, хотя по форме отвечал лишь только Курбскому. Критика Грозным отклонений Курбского от православия (царь, можно сказать, обвинял его в манихейской ереси){1915} не являлась совершенно беспочвенной. Это явствует из некоторых высказываний князя. В заключительной части его третьего послания царю читаем: «Очютися и воспряни! Некогда поздно, понеже самовластие наше и воля, аже до распряжения души от тела ко покаянию данная и вложенная в нас от Бога, не отъемлетца исправления ради нашего на лутчее»{1916}. По Курбскому, следовательно, человек на земле самовластен и волен. И не столь уж важно, что самовластие, как считал Курбский, даровано человеку Богом, что корень добрых поступков человека в божественной благодати, а не в самовластии{1917}. Главное заключается в том, что человек в земной жизни наделен самовластием и волей, т. е. независимостью и способностью управлять своими действиями и поступками{1918}, иначе — властвовать на земле. Это как раз то, в чем царь обвинял Курбского, уличая его в манихейской ереси. Поэтому нельзя, на наш взгляд, поддержать А. И. Клибанова, когда он говорит, будто «концепция самовластия, которой придерживался в своей полемике с Иваном IV Курбский, ничем существенно не отличается от того, что писал о самовластии Иван IV в своем ответе Роките и в своем ответе Сигизмунду II Августу»{1919}. Посмотрим внимательнее, так ли это. В ответе богемскому брату Яну Роките царь Иван Грозный неоднократно рассуждает на тему о самовластии человека. Бог, по Ивану, сотворил человека самовластным, каковым являлся Адам до своего грехопадения{1920}. Со времени «Адамского преступления» люди рождались «под завесою плоти», осужденные «смертию», которая царствовала «от Адама до Авраама, от Авраама до Моисея, а от Моисея до воплощения Христова. И не на согрешших царство смертное се, иже убо и праведнии, и до Христова воплощения смертию осуждены быша и во ад идяху»{1921}. Так «гнев Божий и вражда» пребывали «на человецех от Адама и до воплощения Христова», когда «Христовым божественным плотным смотрением вся сия разрушися: и смерть, и грех, и дияволя держава»{1922}. Иисус Христос снова «сотворил» человека самовластным вершить добро или зло{1923}. Стало быть, самовластие, согласно царю Ивану, «даровано было фактически дважды: в момент сотворения человека и после боговоплощения Христа»{1924}. Несколько иначе трактуется проблема самовластия человека в посланиях польскому королю Сигизмунду II Августу, написанных Грозным от имени русских бояр. Например, в послании от имени князя И. Д. Бельского читаем: «А што брат наш писал еси, што Бог сотворил человека и волность ему даровал и честь, ино твое писанье много отстоит от истины: понеже первого человека Адама Бог сотворил самовластна и высока и заповедь положи, иж от единаго древа не ясти, и егда заповедь преступи и каким осужением осужен бысть! Се есть первая неволя и безчестье, от света бо во тму, от славы в кожаны ризы, от покоя в трудех снести хлеб, от нетления во тление, от живота в смерть. И паки на нечестивых потоп наведе, и паки по потопе завет еже не снести душа в крови, и паки в столпотворении разсеяние и Аврааму веры ради обрезания и Исаку заповеление и Иякову закон, и паки Моисеом закон и оправдание и оцыщение, и преступником клятва дажь во Второзаконии и до убийства, та же благость и истина Исус Христом бысть и заповеди и законоуставление и преступающим наказание. Видиши ли, як везде убо несвободно есть, и тое твое, брате, писмо далече от истинны отстоит?»{1925}. Идентичный текст имеется также в письмах Сигизмунду II, направленных от лица И. Ф. Мстиславского{1926} и М. И. Воротынского{1927}. Здесь, как видим, самовластие даруется единожды при сотворении человека, а затем после грехопадения Адама изымается Богом навсегда («несвободно есть»). Таким образом, в ответе Грозного протестантскому проповеднику Яну Роките и в посланиях польскому корою Сигизмунду II Августу, написанных царем от имени бояр, заключены две различные концепции самовластия: 1) самовластие, дарованное Богом, существует с момента сотворения человека и до грехопадения Адама, после чего прерывается, а затем восстанавливается Иисусом Христом; 2) самовластие, вложенное Богом в первого человека, существовало до времени, когда Адам преступил Божью заповедь, и с тех пор «везде… несвободно есть»{1928}. Означает ли это, что Иван запутался в противоречиях и проявил неспособность усвоить ясный и твердый взгляд на вещи? Нет, не означает. Факт совмещения в его сознании двух концепций самовластия был отражением противоречивости самой действительности, относительной неразработанности проблемы самовластия человека в русской богословской литературе и, что особенно существенно, — отражением чрезвычайной остроты вопроса «о свободном естестве человеческом», обусловленной распространением еретических учений в России того времени, а также участившимися изменами, побегами подданных Ивана IV за рубеж. Само же различие концепций отражало различие задач, решаемых в рамках этих концепций. В первом случае, представленном в ответе Ивана Грозного брату Яну Роките, в форме богословского диспута разрешалась общая религиозно-философская проблема бытия человека, в частности проблема самовластия, рассматриваемая в антологическом ключе. Во втором случае, заключенном в посланиях царя Ивана королю Сигизмунду II, обсуждалась частная политическая проблема, связанная с правом свободного отъезда вассала от одного сюзерена к другому, приобретшего в середине XVI века характер одностороннего бегства бояр и служилых людей в иностранные государства, особенно в соседнее Польско-Литовское государство. Сигизмунд II Август, приглашая царских бояр И. Д. Бельского, И. Ф. Мстиславского и М. И. Воротынского к себе на службу, ссылался, помимо прочего, на «вольность» и «честь», дарованные Богом человеку в момент сотворения и с тех пор существующие как его неотъемлемое свойство. Грозный доказывал ошибочность положений польского короля, апеллируя к преходящей истории самовластия человека. Разумеется, идея самовластия была известна русским интеллектуалам задолго до времени Ивана Грозного. Предметом споров она также стала раньше этого времени. Предысторию подобных споров А. И. Клибанов ведет с начала XIV века{1929}, а действительную историю начинает с рубежа XV и XVI столетий{1930}. Грозный, следовательно, не располагал богатым наследием отечественных мыслителей, трактовавших проблему самовластия. К тому же по большей части то были вольнодумцы и еретики. Однако предшественники у Ивана все-таки были. К ним в первую очередь следует отнести Иосифа Волоцкого. Сравнение концепции самовластия, содержащейся в ответе Ивана Грозного Яну Роките, с аналогичной концепцией, заключенной в «Просветителе» Иосифа Волоцкого, показывает, что схема рассуждения царя повторяет схему волоцкого игумена «пункт за пунктом», что идеи Грозного тождественны идеям «Просветителя»{1931}. Нет сомнений, что царь Иван, с великим почтением относившийся к памяти Иосифа Волоцкого и прекрасно знавший его «Просветитель», брал именно у преподобного старца многие идеи, в том числе относящиеся к вопросу о самовластии человека. Уже одно это обстоятельство делает неприемлемым вывод А. И. Клибанова об отсутствии существенных различий между концепциями самовластия Ивана Грозного и Андрея Курбского{1932}. Как известно, Курбский питал глубокую неприязнь (если не ненависть) к Иосифу Волоцкому и его последователям — «вселукавым» мнихам-иосифлянам. Невозможно вообразить, чтобы Курбский, подобно Грозному, черпал вдохновение из «Просветителя» Иосифа Волоцкого и заимствовал оттуда идеи, касающиеся столь важной проблемы, как самовластие человека. Князь Андрей пользовался, по всей видимости, другими источниками и фактами. Нельзя в этой связи не отметить некоторое терминологическое созвучие между высказываниями Курбского и Сигизмунда II. Как можно догадаться по ответу Ивана Грозного польскому королю Сигизмунду II Августу, тот, рассуждая о самовластии человека, пользовался словами «вольность», «воля»{1933}. Курбский, говоря о самовластии, тоже соединяет его с понятием «воля»{1934}. Не свидетельствует ли это понятийное совпадение о том, что польский король и русский князь, толкуя о самовластии, исходили из реалий современной им польско-литовской действительности с ее панскими вольностями? Недаром самовластие, дарованное Богом, ассоциировалось у Курбского с привилеем: «Привилей нарицается царьской златопечатной лист, або грамота самого царя рукою подписана, на что будет данна и свобода им дарована еде в себе обдержить писанием. Сему уподобляюще, привилеем наречете самовластия волю от Бога дарованну и самое самовластие»{1935}. Курбский, следовательно, сравнивал самовластие, дарованное человеку Богом, с практикой пожалования феодальных привилегий, буйным цветом расцветших в Литве и Польше XVI века. Грозный решительно отвергал подобный взгляд на самовластие как несовместимый с русским самодержавством. С изрядной долей сарказма он писал беглому князю: «В нашей же отчине, в Вифлянской земли град Волмерь недруга нашего Жикгимонтов нарицаеши, се убо свою злобесную собацкую измену до конца совершаешь. А еже от него надеешися много пожалован быти, се убо подобно есть; понеже не хотесте под божиею десницею власти быти и от Бога нам данным и повинным быти нашего повеления, но в самовольстве самовластия (выделено нами. — И.Ф.) жити, сего ради такова и государя себе изыскал еси, еже по своему собацкому злобесному хотению, еже ничим же собою владеются, понеже от всех повелеваем есть, а не сам повелевая»{1936}. Таким образом, источником представлений Курбского о самовластии в сфере социально-политической являлась, по нашему мнению, польско-литовская действительность со свойственной ей вольностью панства. Эти представления, надо думать, возникли у него отнюдь не в годы проживания в Литве, а раньше, когда он входил в Избранную Раду, стремившуюся ограничить самодержавную власть Ивана IV и установить политический строй в России, сходный с тем, что существовал тогда в Литве и Польше. По-видимому, такого рода представления о самовластии разделялись и другими деятелями Избранной Рады. Но это — лишь социально-политический аспект учения о самовластии. Не менее важной является религиозно-философская сторона этого учения. И здесь у Курбского проглядывают довольно любопытные связи, вырисовываются довольно любопытные предшественники. Понятия самовластие, воля, душа, которыми оперирует Курбский, указывают на то, что ему было хорошо знакомо учение о самовластии души. Это учение поднимали на щит, как мы знаем, московские еретики конца XV — начала XVI столетия, в частности небезызвестный Федор Курицын. Его перу, судя по всему, принадлежит загадочное «Лаодикийское послание»{1937}, где читаем: Душа самовластна, заграда ей вера. А. И. Клибанов считал «Лаодикийское послание» программным сочинением, содержащим весьма далеко идущие идеи{1939}. Исследователь полагал, что «дух и буква «Лаодикийского послания» погружены в Ветхий Завет, в книги пророчеств Ветхого Завета, высоко ценимого <…> еретиками (не без этой причины их заклеймили православные обличители «жидовствующими»)»{1940}. Мотивы «Послания», по убеждению историка, «навеяны Ветхим Заветом и подобраны тенденциозно в духе реформационных идей»{1941}. «Лаодикийское послание», полагает он, было предметом пристального внимания «в тесном кружке еретиков, непосредственно связанных с Федором Курицыным: здесь мог быть истолкован и обсужден каждый тезис сочинения»{1942}. По вполне правдоподобному мнению А. И. Клибанова, теория «Лаодикийского послания» «в рассеянном, в корпускулярном состоянии присутствовала в мировоззрении и мировосприятии еретиков, и не их одних, а в кругах свободомыслящих людей, им современных»{1943}. Наполненность идейной атмосферы «корпускулами» этой еретической теории, очевидно, возрастала по мере нового прилива еретических движений в России, способствуя их проникновению в разные слои русского общества. Именно такую картину мы наблюдаем на Руси в середине XVI века. Своей ветхозаветной стариной некоторые идеи «Лаодикийского послания» могли импонировать Курбскому, любившему, по выражению Ивана Грозного, «ветхословие». Но исключительное следование этим идеям уводило в сторону от православия. Коснемся лишь двух сюжетов «Послания», подтверждающих, как думается, нашу мысль. Они заключены в первой и последней строках «Лаодикийского послания», несущих, по всему вероятию, основную смысловую нагрузку произведения. Не случайно, как заметил А. Л. Юрганов, оно «начинается и заканчивается одним и тем же словом — «душа»{1944}. В центре «Лаодикийского послания», следовательно, находится самовластная душа, символизирующая суверенного, свободного человека, имеющего опору не в Боге, а в себе самом{1945}. Перед нами сочинение, пронизанное духом индивидуализма, присущего реформационным гуманистическим теориям, но чуждого православной культуре, можно даже сказать, ей враждебного. «Душа самовластна, заграда ей вера» — так звучит первая строка «Лаодикийского послания». Возникает вопрос, допустимо ли построчное исследование памятника. Я. С. Лурье уверенно заявляет: «Нет необходимости доказывать, насколько ошибочен такой метод исследования. Как ни мало по величине «Лаодикийское послание», его, как и всякий источник, надо все же исследовать полностью, а не вырывать из контекста отдельные фразы, давая им произвольное, а подчас и просто искаженное толкование»{1946}. По нашему мнению, исследование данного источника, взятого в целом, не исключает его построчного изучения, что превосходно продемонстрировано А. Л. Юргановым{1947}. Не входя в обсуждение спорного вопроса о значении слова заграда и соотношении его со словом вера{1948}, подчеркнем в нашем случае главное — именно то, что в «Лаодикийском послании» идея свободы воли («душа самовластна») представлена «шире, чем это допускал ортодоксально-христианский индетерминизм»{1949}, что она, по выражению А. И. Клибанова, «противостоит концепции авторитарной религии, религии догм и обрядов»{1950}. Можно было бы сказать с большей исторической конкретностью, применяясь к событиям конца XV — начала XVI века в России. Ведь «Лаодикийское послание» — памятник еретической мысли, вышедший из круга «жидовствующих», во всяком случае, вращавшийся в круге «жидовствующих», а возможно, и за его пределами: среди склонных к вольнодумству и тех, кого, как говорится, медом не корми, но дай поумничать. С этой точки зрения оно являлось фактом ереси «жидовствующих» и предназначалось для обращения на Руси. Отсюда естественно предположить, что «Послание», будучи еретическим произведением, оппонировало, прежде всего, официальной вере — православию. А. Л. Юрганов думает иначе. «Возникает вопрос, — пишет он, — можно ли утверждать, что у тех, кого именовали еретиками, в самом деле были какие-то особые религиозные взгляды, отличные от церковной традиции? Вопрос этот трудный, но нет никаких оснований считать высказанные в «Лаодикийском послании» суждения еретическими. Даже вполне благосклонное отношение в нем к фарисейству лишь усиливает тезис о значимости христианской веры — «науки преблаженной»{1951}. Еретики, именовавшиеся «жидовствующими», придерживались все-таки взглядов, отличных от церковной традиции, и возражать против этого можно лишь по недоразумению. Что касается формулы душа самовластна, содержащейся в «Лаодикийском послании», то более вдумчиво, чем А. Л. Юрганов, к ней отнеслись, на наш взгляд, Я. С. Лурье и А. И. Клибанов. «Замечания Курицына о «самовластии», — говорит Я. С. Лурье, — позволяют предполагать, что идея «самовластия» занимала в учении московских еретиков важное место и, по-видимому, трактовалась не вполне ортодоксально (может быть, в духе пелагианства — еретического учения V в., придававшего решающее значение свободе человеческой воли)»{1952}. По А. И. Клибанову, «еретическое учение утверждало способность человека мыслить и действовать вне «ограды» той веры, что была кодифицирована и регламентирована церковью. Независимо от того, как называлась эта способность, она была «самовластной» на деле, а слово не заставило долго себя ждать. «Душа самовластна» — с этого начинаются разные версии «Лаодикийского послания», так постулируется в нем. Но в полном согласии с тем, что еретическое движение было не светским, а религиозным, постулат «самовластия души» обретает силу в том, что «оградой» души объявляется «вера». Только какая вера? Та вера, которая исповедовалась и проповедовалась еретиками, та самая заподозренная «московская вера», споров вокруг которой опасался Геннадий»{1953}. Мы знаем, что вера, которую исповедовали и проповедовали еретики в Новгороде и Москве на рубеже XV–XVI веков, была отступлением от христианства, своего рода новой верой, призванной заменить русское православие. Об этом свидетельствует не только «самовластие души», вышедшее за рамки христианской ортодоксии, но и сама «душа», находящаяся, согласно «Лаодикийскому посланию», в процессе создания, т. е. творения или созидания. Вот соответствующий текст Послания: Пророк ему наука. Привлекает внимание последняя фраза сим съоружается душа. В других списках памятника (более поздних) данная фраза звучит иначе: сим въоружается душа{1954}. А. Л. Юрганов не находит существенного различия между и съоружается и въоружается{1955}, тогда как А. И. Клибанов, осознавая это различие, предпочитает чтение въоружается чтению съоружается. При этом он говорит: «Здесь вера называется не оковами, а скорее доспехами души»{1956}. Но в том то и дело, что здесь речь идет не о вере, а о душе, которая в зависимости от различных списков «Послания» то сооружается, то вооружается. На наш взгляд, слово сооружается (от сооружати — строить, сооружать, создавать{1957}) более согласуется с контекстом «Лаодикийского послания», которое, по верному замечанию А. И. Клибанова, «возвело в достоинство наивысшей духовной ценности пророческий дар, сопряженный с мудростью. И это имело не одно отвлеченное, но и конкретное значение. Идеологи и руководители ереси видели собственное предназначение в том, чтобы выступать как пророки своего времени»{1958}. Среди последних «пасхальный тип» памятника выделяет главного пророка — «пророка-старейшину»{1959}, за которым скрывался, быть может, сам Федор Курицын, являвшийся «новому учению учитель», как впоследствии Феодосии Косой. Согласно этому учению, сформулированному в «Лаодикийском послании», самовластная душа созидается по мере утверждения человека в новой вере («сим съоружается душа»), исполненной пророческой мудрости. Пророк, следовательно, наделялся качествами, превращавшими его в некое подобие земного бога. То был явный отход от христианской догматической концепции сотворения души, имеющей свой источник в Боге, созданной промыслом Божьим и обладающей свободой воли (самовластием), дарованной Богом. Итак, князь А. М. Курбский и его друзья по Избранной Раде имели перед собой две разновидности учения о самовластии души: 1) богословски традиционное, представленное в святоотеческой учительной литературе; 2) еретическое, вышедшее из сообщества противников Христовой Веры, возглавляемых Федором Курицыным, и передававшееся еретиками от поколения к поколению на протяжении XVI века. Они взяли на вооружение второе и поступить иначе не могли, поскольку, следуя принятой в христианском богословии теории самовластия души, должны были признать русское самодержавство, основанное на единстве православной веры, апостольской церкви и самодержавной власти. Это единство выразительно запечатлел Иван Грозный в посланиях Сигизмунду II Августу, написанных от имени бояр. В двух из них, отправленных якобы боярином И. Д. Бельским и боярином И. Ф. Мстиславским, читаем: «…тричисленнаго божества воля и милость и десница самодержьство царя нашего утвержает и нас, достойных советников его, благостью осияет, и никакая же сия не токмо малая и худая сия пена, но и велие треволнение не может потопити, на камени бо церковьнем стоим, юже Христос утверди, ей же врата адова не одолеют, сего ради самодержавство царя нашего и наш вернейший совет не боимся погрязновения»{1960}. Еще раз на сей счет сказано в послании Сигизмунду II от имени боярина М. И. Воротынского: «…тричисленого божества воля и благость и десница самодержство царя нашего утвержает и нас, достойных советников его, благодатию осияет, и никакая же сия малая и худая пена, но и велие треволненье не может потопити, якоже реченно есть: «да ся пенит море и збесит, но Иисусова карабля не может потопити, на камени бо церковном стоит, юже Христос утверди, ей же врата адова не удолеют». Сего ради самодержство царя нашего и навернейший совет не боимся погрязновенья…»{1961}. Идеи Ф.Курицына о самовластии души, разделявшиеся А.Курбским и другими представителями Избранной Рады, вели прямой дорогой в схизму. Накат на Россию новой волны ереси в середине XVI века, разлившейся чуть ли не по всей стране, свидетельствовал, как мы уже отмечали, о сочувственном (если не покровительственном) отношении к еретикам со стороны Избранной Рады и ее главарей Сильвестра и Адашева, державших в своих руках аппарат власти. В противном случае ересь была бы подавлена на корню и вряд ли получила бы столь широкое распространение, проникнув, можно сказать, во все социальные группы российского общества, начиная от низших классов и кончая княжеско-боярской аристократией. По этому факту сочувствия (или покровительства) можно судить о том, какая серьезная опасность нависла тогда над православной верой, тем более что еретики выступали против основных догматов церкви, отвергая Святую Троицу, божественную природу Иисуса Христа, животворящую силу Креста, святость Девы Марии, веру в святых, особенно новоявленных, и др. Не следует думать, будто церковные соборы 1553–1554 гг. полностью погасили ересь. Нет, это не произошло по той причине, что благоприятная обстановка, созданная еретикам Избранной Радой, позволила ереси основательно укорениться. Поэтому выкорчевать ее было очень не просто. К тому же Сильвестр, Адашев и другие члены Избранной Рады пока еще находились у власти, что давало возможность им и далее оказывать схизматикам не только моральную, но и материальную поддержку. Есть основания полагать, что в конце 50-х — начале 60-х гг. XVI века религиозная обстановка на Руси снова обострилась. Косвенным образом об этом говорят некоторые элементы переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, особенно первые послания корреспондентов, уверяющих друг друга в своей приверженности православным догматам. Так, Курбский старается убедить Грозного, что неколебимо верит в «пребезначальную» Троицу, «богоначального» Иисуса Христа, «заступницу», «владычецу» Богородицу и «всех святых», во Второе Пришествие и Страшный Суд{1962}. Послание Ивана Грозного открывается знаменательным вступлением: «Бог наш Троица, иже прежде век сый и ныне есть, Отец и Сын и Святый Дух, ниже начала имеет, ниже конца, о нем же живем и движемся, им же царие величаются и сиянии пишут правду; иже дана бысть единородного слова Божия Исус Христом, Богом нашим, победоносная хоруговь крест честный, и николи же победима есть…»{1963}. Затем на протяжении всего послания неоднократно звучат вариации на эту основную тему: «Но убо самое победоносное оружие, крест Христов, силою Христа Бога нашего, вам сопротивник да будет»{1964}; «мы же убо, християне, веруем в Троицы славимого Бога нашего Исус Христа <…>. Мы же убо, християне, знаем предстатели тричисленное божество, в не же познание приведени быхом Исус Христом Богом нашим, тако же заступницу християнскую, сподобльшуся быти мати Христа Бога, Пречистую Богородицу; и потом предстатели имеем вся небесныя силы, архаггели, и аггели…»{1965}; «сице аз верую Страшному судищу Спасову»{1966}, и т. п. Усердие и настойчивость, с которыми авторы посланий говорят о своей преданности догматам православной веры, могут на первый взгляд показаться излишними и даже странными: в самом деле, надо ли было столь методично заявлять о том, что являлось самоочевидным, самим собою разумеющимся. Однако всякие вопросы отпадут, если вспомнить напряженную и очень тревожную религиозно-политическую обстановку, возникшую на Руси середины XVI века вследствие нового всплеска еретических учений, подвергавших сомнению фундаментальные положения православной веры. Заявления Ивана Грозного и Андрея Курбского о приверженности постулатам православия следует, по всей видимости, рассматривать как их реакцию на деятельность еретиков. Но эта реакция имела в каждом отдельном случае особый смысл. Царь Иван IV, говоря насчет своей веры в христианские святыни, свидетельствовал о неизменной верности православию, тогда как Андрей Курбский, делая аналогичные признания, стремился произвести впечатление о себе как невинно страдающем добропорядочном христианине. Глубоко верующий государь не нуждался в религиозной реабилитации. Другое дело — Курбский, запятнанный связями с партией, покровительствовавшей еретикам, с партией, чьи лидеры Сильвестр и Адашев недавно были осуждены собором 1560 года. Ему требовалось подновление православного облика. Достичь этого он мог посредством изъявления преданности православным догматам и развенчания собора, осудившего Сильвестра и Адашева как «ведомых злодеев» и «чаровников»{1967}. Первое мы наблюдаем в послании Курбского царю Ивану, второе — в его «Истории о великом князе Московском». В этой «Истории» автор поместил злобную сатиру на собор, состоявшийся, как предположил С. Б. Веселовский, во второй половине сентября 1560 года{1968}. Царь, по словам Курбского, «собирает соборище — не токмо весь сенат свой мирский [Боярскую Думу{1969}], но и духовных всех, сиречь митрополита и градских епископов призывает, и ктому присовокупляет прелукавых некоторых мнихов — Мисаила, глаголемаго Сукина, издавна преславного в злостях, и Васьяна Беснаго, поистинне реченного, неистоваго, и других с ними таковых тем подобных, исполненых лицемерия и всякого безстыдия дияволя и дерзости. И посаждает их близу себя, благодарне послушающе их, вещающих и клевещущих ложное на святых и глаголющих на праведных безакония со премногою гордынею и уничижением. Что же на том соборище производят? Чтут, написавши, вины оных мужей (Сильвестра и Адашева. — И.Ф.) заочне. Яко и митрополит тогда пред всеми рекл: «Подобает, — рече, — приведенным им быти зде пред нас, да очевисте на них клеветы будут, и нам убо слышете воистинну достоит, что они на то отвещают». И всем ему добрым согласующе, такоже рекшим, губительнейшие еже ласкатели вкупе со царем возопиша: «Не подобает, рече, о епископе! Понеже ведомые сие злодеи и чаровницы велицы, очаруют царя и нас погубят, аще придут!» И тако осудиша их заочне. О смеху достойное, паче же беды исполненое усуждение прелщенного от ласкателей царя!»{1970}. Эти сведения о соборе 1560 года, как и другие, содержащиеся в «Истории» Курбского, мы не стали бы, подобно С. Б. Веселовскому, называть «чрезвычайно важными и достоверными»{1971}. Необходим их анализ в каждом отдельном случае. Князь Курбский в принципе не отрицал способность людей к чародейству. Он отвергал лишь клевету в чародействе, возведенную на его друзей Сильвестра и Адашева «ласкателями» Грозного — Захарьиными и другими «нечестивыми губителями всего тамошнего царства». При этом не только дружеские чувства здесь руководили им, но и личный интерес. Ведь обвинения в чародействе (колдовстве, еретичестве) близких сотоварищей Курбского бросали тень, собственно, и на него. Поэтому он постарался приписать «ласкателям» то, в чем они обвиняли Сильвестра и Адашева: «Тогда цареви жена умре, они же реша, аки бы очеровали ее оные мужи. Подобно, чему сами искусны и во что веруют, сие на святых мужей и добрых возлагали»{1972}. Воспроизводя речи «ласкателей», Курбский увлекается и рассказывает то, что ему не следовало бы вообще ворошить в памяти. По его словам, «ласкатели», приводя доводы в пользу заочного суда на Сильвестром и Адашевым, говорили: «Так худые люди и ничемуже годные чаровницы тебя, государя, так великого и славного и мудрого, благовенчанного царя, держали пред тем аки во оковах, повелевающе тебе в меру ясти и пити и со царицею жити, не дающе тебе ни в чесомже своей воли, а ни в мале, а не в великом, а ни людей своих миловати, а ни царством твоим владети. И аще бы не они были при тебе, так при государе мужественном и храбром и приселном и тебя не держали аки уздою, уже бы еси мало не всею вселенною обладал. А что творили они своими чаровствы: аки очи тебе закрывающе, не дали ни на что же зрети, хотящи сами царствовати и нами всеми владети. И аще на очи присътупишь их, паки тя, очаровавши, ослепят. Ныне же, егда отогнал еси их, воистинну образумился еси, сиречь во свой разум пришел и отворил еси себе очи, зряще уже свободно на все свое царство яко помазанец Божий, и никтоже ин, точию сам един тое управляюще и им владеющее»{1973}. Сравнение речей «ласкателей» с тем, о чем говорит Иван Грозный в первом послании Андрею Курбскому, обнаруживает немало аналогий, касающихся попыток Сильвестра и Адашева ограничить власть царя, регламентировать его поведение, помешать успешному ведению им военных предприятий и покорению вражьих земель{1974}. Складывается впечатление, что эти речи — своеобразный ответ Курбского царю Ивану, обеляющий Сильвестра и Адашева, оклеветанных якобы «ласкателями», т. е. боярами Захарьиными, их родичами и приятелями. Это впечатление еще более усиливают некоторые подробности, введенные Курбским в свое повествование и отсутствующие у Грозного, например вмешательство в личную жизнь царя. Ясно, что Курбский знал многое из того, что было между Иваном IV и лидерами Избранной Рады в пору их могущества. Но ему надо было оправдать своих друзей и, следовательно, себя. Однако он почему-то не учел простого обстоятельства: «ласкатели», говоря царю о покушении на его права «оных мужей», сообщали о вещах, хорошо ему известных. Поэтому ложь здесь вряд ли могла пройти. Захарьины, по верному замечанию Р. Г. Скрынникова, напоминали Ивану «старые обиды»{1975}. Так Курбский, сам того не желая, подтвердил справедливость обвинений Грозного в узурпации царской власти со стороны Сильвестра и Адашева. Описывая события, связанные с собором 1560 года, Курбский изобразил митрополита Макария, как мы знаем, сочувствующим Сильвестру и Адашеву, которые, узнав о предстоящем соборном суде над собой, «начаша молити, ово епистолиями посылающе, ово через митрополита руского, да будет очевистное глаголанные с ними»{1976}. На соборе митрополит, проникшись якобы сочувствием к опальным, заявил: «Подобает приведеным им быти зде пред нас, да очевисте на них клеветы будут, и нам убо слышети воистинну достоит, что они на то отвещают»{1977}. Но митрополита Макария царь Иван и его окружение будто бы не послушали. Известия Курбского о соборе 1560 года навели историков на мысль о том, что митрополит Макарий принял сторону Сильвестра и Адашева, даже пытался оборонить их от недругов, выступив с возражениями и протестом против заочного суда над ними. «Митрополит Макарий и все «добрые люди», согласные с ним, возражали»; «царь созвал совещание освященного собора и бояр, на котором один митрополит Макарий осмелился возвысить голос и высказаться за удовлетворение просьбы опальных о суде», — замечал С. Б. Веселовский{1978}. «Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемых, несмотря на протест митрополита», — читаем у Л. В. Черепнина{1979}. «Несмотря на угрозы Захарьиных, — говорит Р. Г. Скрынников, — митрополит Макарий открыто взял под свою защиту опальных вождей Рады и предложил вызвать их на собор для очного суда. Но он не смог добиться единодушной поддержки даже со стороны духовенства. Против его предложения выступили Мисаил Сукин, приглашенный на собор по настоянию Захарьиных, а также некий старец Васьян, архимандрит кремлевского Чудовского монастыря Левкий, а также Троицкие старцы-иосифляне»{1980}. В другой своей книге Р. Г. Скрынников пишет: «Митрополит Макарий не побоялся выступить в защиту опальных <…>. Глава церкви пользовался большим авторитетом. Но ему не удалось добиться послушания членов священного собора»{1981}. Идею защиты Сильвестра и Адашева от преследования со стороны Ивана IV, «печалования» о них перед монархом развивает С. О. Шмидт: «Можно полагать, <…> что Макарий пытался противодействовать царю, начавшему преследовать своих бывших главных советников (А. Адашева и Сильвестра). Во всяком случае, допустив соборное обсуждение, а точнее сказать, осуждение их в 1560 г., пытался использовать митрополичье право «печалования», пригласив их на суд. Но в итоге вынужден был согласиться с заочным осуждением»{1982}. Согласно В. В. Шапошнику, «попытка митрополита спасти осужденных, требуя очного разбирательства дела, не привела к успеху»{1983}. В другой книге В. В. Шапошника митрополит Макарий уже не пытается «спасти осужденных», а стоит лишь на страже традиционных норм: «Этот заочный суд (над Адашевым и Сильвестром. — И.Ф.) был грубейшим нарушением традиций — ведь обвиняемые должны были иметь возможность оправдываться. Тем более что Алексей Адашев был членом Боярской думы — окольничим. На это (?!) и указал митрополит Макарий. Часть присутствующих согласилась с ним, но другие, «ласкатели» вместе с Грозным, отказались…»{1984}. Что можно сказать об этих суждениях исследователей? Святитель едва ли сомневался в чародейских способностях, по крайней мере, Сильвестра. Предложение Макария судить Сильвестра и Адашева очно основывалось отнюдь не на его желании возразить по поводу несправедливого и необоснованного суда над ними, защитить или спасти их от жестокого наказания. Еще Н. М. Карамзин замечал, что митрополит Макарий «саном Первосвятительства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надобно призвать и выслушать судимых»{1985}. Истина заключалась в том, чтобы соблюсти традиционный порядок судебного разбирательства, предполагающий присутствие на суде обвиняемых{1986}, особенно если это касалось вопросов вероисповедания. Митрополит в силу своего положения обязан был напомнить о названном порядке{1987}. Но это не означало, будто он сомневался в справедливости выдвинутых против Сильвестра и Адашева обвинений. Не сомневалось в том и большинство участников собора, включая виднейших представителей духовенства. Более того, можно думать, что оно было уверено в обоснованности обвинений, составивших целый список, зачитанный на соборе. И уж, конечно, в полной уверенности относительно виновности Сильвестра и Адашева находился царь Иван. Нельзя согласиться с Р. Г. Скрынниковым, что Грозный не имел оснований и улик для суда над Адашевым, что царь чувствовал «неуверенность в благополучном исходе суда в случае появления в Кремле подсудимых»{1988}. Ничего подобного: как раз уверенность государя, митрополита и большинства соборян в доказанности вины Сильвестра и Адашева сделала их участие в суде излишним. Однако не это, по-видимому, послужило главным основанием для решения произвести заочный суд над бывшими вождями Избранной Рады. Причину тут мы видим в отсутствии возможности быстрой доставки обвиняемых на суд. Адашев в это время, как известно, находился в Ливонии, а Сильвестр — в Заволжье. Дело же было большой государственной важности и не допускало никаких отлагательств, поскольку затрагивало не только судимых, но и целую партию, осуществлявшую политику под руководством Сильвестра и Адашева. Интересы государства требовали незамедлительного приведения к присяге (крестоцелованию) на верность государю сторонников Сильвестра и Адашева в Боярской Думе, их нейтрализации в других местах. По составу участников собор 1560 года являлся церковным и светским, что обусловливалось неоднородностью решавшихся на нем задач, религиозных и политических по своему характеру. Были некоторые и формальные основания для подбора именно такого состава лиц, участвующих в работе собора. С. Б. Веселовский писал: «По каноническим правилам Сильвестр, как лицо духовного звания, не мог быть судим светской властью без предварительного осуждения церковным судом и лишения священнического сана. А. Адашева, как человека в думном чине, царь должен был судить по старым обычаям вместе с боярами. Чтобы обойти эти затруднения и придать всему делу вид законности, был созван собор «всего сената», т. е. всех думных людей, и так называемого «преосвященного собора», т. е. митрополита и епископов. Кроме того, на собор были призваны некоторые «прелукавые» монахи — Мисаил Сукин, издавна прославленный «в злостях», и «бесный», т. е. одержимый бесом, Вассиан (Топорков?) и некоторые другие»{1989}. Правильно обозначив проблему, С. Б. Веселовский начинает в присущей ему недоброжелательной к царю Ивану манере разоблачать последнего. В самом деле, почему историк уверен в том, будто Грозный созывает собор «всего сената», чтобы «придать делу вид законности» и «обойти затруднения» суда над Сильвестром и Адашевым, связанные с порядком, предусмотренным «каноническими правилами» и «старыми обычаями»? Ведь с равным основанием можно предположить и другое: Иван Грозный созывает собор «всего сената» ради исполнения «канонических правил» и «старых обычаев». В любом, однако, случае состав собора соответствовал специфике тех задач, которые ему предстояло разрешить. Что касается заочного суда над Сильвестром и Адашевым, то эта форма судопроизводства была избрана не лично царем Иваном, а всем собором, причем после специального обсуждения, последовавшего за открытым заявлением митрополита, т. е. избрана гласно, публично, по соборному решению, а не по царскому велению{1990}. И это — один из главных элементов суда над Сильвестром и Адашевым, с чем исследователь не имеет права не считаться. Он не может также не задуматься над вопросом, был ли собор 1560 года подлинным собором, а не его имитацией. Постановка этого вопроса возвращает нас к проблеме участников собора. С. О. Шмидт, обращаясь к данной проблеме, говорил: «Членами освященного собора помимо митрополита и архиереев были и «некоторые» монахи (имена двух из них — Мисаила Сукина и Васьяна Бесного — Курбский называет). Сложнее установить по описанию Курбского состав «всего сената мирского». Допустимо предположить, что участниками собора были не только «думные люди», но и другие советники из «множайших и бесчисленных лжесчивальцев», окружавших царя. Именно в связи с осуждением Адашева и Сильвестра Курбский пишет о том, что царь «собрал и учинил уже окрест себя яко пресильный и великий полк сатанинский». Этот «полк сатанинский» мог тоже быть частью «сонмища ласкателей», осудивших руководителей Избранной рады»{1991}. Начни с определения исторической роли и значения собора 1560 года, исследователь намного облегчил бы свой поиск. На соборе решалась не только личная судьба Сильвестра и Адашева. По наблюдениям Р. Г. Скрынникова, «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады, в которой они были ключевыми фигурами. Переворот затрагивал интересы влиятельных политических сил»{1992}. Действительно, суд над Сильвестром и Адашевым был последней точкой в ликвидации Избранной Рады. Верно и то, что крушение Избранной Рады затрагивало «интересы влиятельных политических сил». Однако упразднение Рады являлось не «переворотом», как считает Р. Г. Скрынников, а напротив, — остановкой ползучего переворота, осуществлявшегося Избранной Радой, нацеленной на изменение церковно-государственного строя Руси по типу западных монархий. Поэтому если посмотреть на проблему шире, как того требует научный подход к изучению прошлого, то станет ясно, что суд над вождями Избранной Рады подводил черту под целым историческим периодом России XVI века, сложным и противоречивым, далеко не однозначным: с одной стороны, отличавшимся проведением необходимых реформ, а с другой — попытками партии Сильвестра и Адашева свернуть страну с национального пути развития, ограничив самодержавную власть царя и подвергнув существенному реформированию русскую православную церковь. Всем этим и определяется значение и роль собора 1560 года как чрезвычайно важного события в религиозно-политической жизни Руси эпохи Ивана Грозного, допускающего сравнение (как это ни покажется кому-то странным) с учреждением Опричнины{1993}. Масштаб события требовал соответствующего набора его участников, подразделявшихся, так сказать, на две палаты, составленные из духовенства и мирян, — Освященного собора и, по лексике Курбского, Сената мирского. Освященный собор, несомненно, включал митрополита, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и авторитетных старцев. На подобный состав Освященного собора намекает и Курбский, говоря, что царь «собирает духовных всех», хотя, перечисляя духовные чины, пропускает игуменов и архимандритов. И все же смысловой акцент заключен, по нашему убеждению, в его фразе собирает всех духовных. Весь Сенат мирской — это князья, бояре и некоторые представители служилого класса. Прав, на наш взгляд, С.О.Шмидт, когда замечает, что среди мирских людей — участников собора были не только «думные люди», но и другие лица из служилого окружения Ивана Грозного. Соединенные вместе, все упомянутые группы и образовали собор 1560 года. По мнению С. О. Шмидта, собор 1560 года был по существу «актом судебного процесса, и этот процесс, как и многие другие подобные процессы того века, превратился в «колдовской»{1994}. Отсюда один шаг до признания собора церковным, поскольку вопросы, связанные с колдовством (чародейством), находились в ведении духовенства. Но С. О. Шмидт не сделал этот шаг. Его совершил Л. В. Черепнин. «Думаю, — заявлял он, — что правильно будет отнести собор 1560 г. к категории церковных, а активное участие в нем светских лиц — характерное для того времени явление»{1995}. Л. В. Черепнин, как и С. О. Шмидт, склонен усматривать в соборе 1560 года «акт судебного процесса»{1996}. Несколько иначе взглянул на собор Р. Г. Скрынников, который, оценив суждения о соборе С. О. Шмидта и Л. В. Черепнина, замечал: «В некоторых отношения суд над Сильвестром и Адашевым действительно был колдовским процессом. Недаром Курбский бросил царю упрек в том, что он лживо обвинил своих «доброхотов» в измене и «чародействе»{1997}. Но «по существу дела собор 1560 г. был скорее политическим, чем церковным. На соборе, созванном в Москве в 1549 г., Адашев и его друзья устами девятнадцатилетнего царя изобличили неправды боярских правителей, стоявших у кормила власти «до государева возраста», и объявили о начале реформ. На соборе 1560 г. обличения адресовались самому Адашеву и его единомышленникам. Собор мало напоминал судебный процесс в собственном смысле и нужен был царю для публичного осуждения недавних учителей и советников. В отличие от «собора примирения» 1549 г. его можно было бы назвать «собором вражды и суеверия». Он положил конец десятилетию реформ»{1998}. На наш взгляд, собор 1560 года нельзя характеризовать только как судебный, а также как церковный или политический. Этот собор сочетал в себе и то и другое, более соответствуя наименованию церковно-государственный, подобно Стоглавому собору. Такого рода собор В. О. Ключевский называл государственным советом{1999}, что, на наш взгляд, придает этому учреждению не свойственный ему односторонний характер, не говоря уже о модернизации соотношения церковной и светской власти. Церковь и государство в рассматриваемое время находились, можно сказать, в состоянии равновесия. Поэтому институт, составленный из соединения власти церкви и государства, было бы правильнее именовать церковно-государственным, каковым, в частности, и являлся собор 1560 года. Этот собор навсегда прекратил деятельность Избранной Рады, ее политику утеснения самодержавной власти, церковной организации и православной веры, открыв перспективу восстановления этих, образно говоря, несущих опор Святорусского царства. Поэтому его можно было назвать «собором возвращения Руси на торную дорогу национального развития», временно потерянную в годы правления Избранной Рады. Таково наше общее представление о соборе 1560 года. Однако сейчас было бы к месту обратить внимание на религиозную часть работы этого собора. Описание собора 1560 года живо напомнило С. О. Шмидту «соборы «на еретиков» середины 1550-х годов»{2000}, к чему Л. В. Черепнин добавил: «Я бы сказал — и более раннего времени»{2001}. Полагаем, что собор 1560 года отчасти напоминал соборы против еретиков середины 1550-х годов XVI века и более раннего времени, причем одной лишь стороной своей деятельности, связанной с осуждением Сильвестра и Адашева, обвиненных в чародействе, т. е. в еретичестве. Если искать более близкий аналог собору 1560 года, то следует, как нам кажется, остановиться на Стоглавом соборе, рассматривавшем, подобно собору 1560 года, религиозные и мирские вопросы. Правда, Р. Г. Скрынников считает, что в чародействе (колдовстве) «были обвинены не сами царские советники (Сильвестр и Адашев. — И.Ф.), а люди из их окружения, исполняющие их волю»{2002}. Это ошибочная точка зрения, противоречащая, кстати сказать, тому, что говорил об этом ранее сам историк: «собор заочно осудил Адашева и Сильвестра как «ведомых злодеев» и «чаровников»{2003}. Факт осуждения собором 1560 года Адашева и Сильвестра за чародейство имел двоякое значение, личное и общественно-политическое. Личное значение этого факта состояло в том, что еретиками Сильвестр и Адашев были объявлены персонально со всеми вытекающими отсюда последствиями для их конкретных судеб. Общественно-политическое значение данного факта обусловливалось тем, что Сильвестр и Адашев, будучи вождями Избранной Рады, олицетворяли ее, и потому оценка деятельность Рады напрямую зависела от оценки деятельности бывших царских советников и друзей. Признав деятельность Сильвестра и Адашева еретической, собор тем самым дал оценку деятельности Избранной Рады. Таким был итог правления Избранной Рады. Он и не мог быть иным. И вот почему. Нельзя, разумеется, отрицать положительных моментов в политике Избранной Рады, таких, например, как военная и земская реформы. Но вред, причиненный Радой Русскому государству, был большим, чем польза. Ее деятельность, направленная, как мы могли убедиться, против самодержавия, апостольской церкви и православной веры поставила Россию на грань национальной катастрофы. Речь по существу шла о переменах, равных ликвидации этих главнейших основ Святой Руси. Необходимы были самые решительные меры, чтобы удержать Русское государство от падения. Поворот к Опричнине стал неизбежным. Примечания:Комментарии id="c_1">1 Загоскин Н. П. История права Московского государства. Т. II. Центральное управление Московского государства. Вып. I. Дума Боярская. Казань, 1879. С. 31. 2 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1882. С. 342 (прим.). В другой раз В. О. Ключевский говорит, что Курбский Избранной Радой «называет думу, составившуюся при царе Иване под влиянием Сильвестра и Адашева» (Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1902. С. 270; Пг., 1919. С. 267). В третий раз историк заявляет: «Едва вышедши из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его возраста энергией принялся за дела правления. Тогда по указаниям умных руководителей царя митрополита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников — «избранная рада», как называет Курбский этот совет, очевидно получивший фактическое господство в боярской думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и начал править государством» (Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти томах. Т. II. Курс русской истории. М., 1987. С. 162). Разные мнения В. О. Ключевского по одному и тому же вопросу являются отражением большой сложности изучения проблемы Избранной Рады. 3 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 322. 4 Там же. 5 См.: Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. С. 151–152. 6 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. 1882. С. 342 (прим.). 7 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. М., 1954. С. 336–338. 8 Там же. С. 331. 9 Там же. 10 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960. С. 318. См. также: Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. М., 1955. С. 293; История СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. II. М., 1966. С. 160; Зимин А. А., Хорошкевич А. А. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 44. 11 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. С. 293. 12 Там же. 13 Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 58–59. 14 Кузьмин А. Г. 1) Адашев и Сильвестр // Великие государственные деятели России. М., 1996. С. 131; 2) История России с древнейших времен до 1618 г. В двух книгах. Кн. II. М., 2003. С. 237. 15 История России. С древнейших времен до конца XVII века. М., 1996. С. 418–419. 16 См.: Фроянов И. Я. Начала русской истории. М., 2001. С. 915. 17 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л.,1966. С. 74–75. 18 Там же. С. 74. 19 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 127. 20 Там же. С. 80, 82, 84, 85, 94, 98, 124, 127. 21 Там же. С. 87, 98, 107, 113, 115, 119. 22 Там же. С. 115. 23 Там же. С. 119. 24 Там же. С. 127. 25 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 36. 26 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 108. 27 Р. Г. Скрынников замечает, что историки, как правило, «использовали понятие «Избранная рада» для обозначения правительства реформ 1550-х гг.» (Там же). Но дальше этого не идет, заявляя лишь, что «обращение к «Истории» Курбского позволяет выявить ошибку в исходном пункте всех рассуждений о раде» (Там же). Этим как бы утверждается мысль о необходимости переоценки «всех рассуждений» отечественных исследователей об Избранной Раде. 28 Там же. С. 117, 118. 29 Там же. С. 110, 112, 120. 30 Там же. С.117, 118. 31 Там же. С. 118. 32 Там же. 33 Там же. С.116, 118. 34 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. 35 Р. Г. Скрынников очень ценит исследования А. Гробовского за то, что в них, как он полагает, «традиционная точка зрения подверглась основательной критике» (Там же. С.121). Однако достоинства исследований А. Гробовского не столь безусловны, как представляется Р. Г. Скрынникову. См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. С. 165–167; Хорошкевич А. А. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 42–43, 77 (прим. 67). 36 Скрынников Р. Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. С. 282. 37 Там же. С. 282–283. 38 Скрынников Р. Г. Русь. IX–XVII века. СПб., 1999. С. 197–198. 39 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С.75. 40 Ермолаев И. П. Становление Российского самодержавия. Истоки и условия его формирования: Взгляд на проблему. Казань, 2004. С. 257. 41 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 45. Эти высказывания созвучны тому, что говорил об Избранной Раде Н. И. Костомаров, усматривавший в ней подобранный Сильвестром и Адашевым «кружок людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу», «кружок любимцев» Ивана IV, «кружок бояр и временщиков». — Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. М., 1990. С. 413, 414. 42 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1907. С. 143. 43 Там же. С. 146. 44 Пресняков А. Е. Рецензия на книгу С. Ф. Платонова «Иван Грозный» // Века. Пгр., 1924. С. 180–181. 45 Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. СПб., 2000. С. 386–387. 46 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 154. 47 Базилевич К. В. История СССР от древнейших времен до конца XVII века. М., 1950. С. 279. 48 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л.,1988. С. 45–16. 49 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 49. 50 Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 215. 51 Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 35. 52 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 91. 53 Там же. 54 Сергеевич В. И. Русские юридическое древности. Т. II. Вече и князь. Советники князя. СПб., 1900. С. 369. 55 Покровский М. Н. Избранные произведения: В 4-х книгах. М., 1966. Кн. 1. С. 294. 56 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 77; 2) Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006. С. 85. 57 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77; 2) Иван Грозный… С. 85. 58 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77; 2) Иван Грозный… С. 85. 59 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 79, 81, 85; 2) Иван Грозный… С. 86. 60 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77–78; 2) Иван Грозный… С. 85–86. 61 Шапошник В. В. 1) Церковно государственные отношения в России… С. 85–86: 2) Иван Грозный… С. 86. 62 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 81. 63 Там же. С.79, 81. Помощь в данном вопросе В. В. Шапошник ищет у Д. Н. Альшица, который якобы «увидел в «Раде» некую форму представительства» (Там же. С. 79). Но Д. Н. Альшиц говорит нечто иное: «Система реформ, предпринятых фактическим правительством (Избранной Радой. — И.Ф.) в конце 40-х и в 50-х гг., по самой своей сути была изначально связана с идеей ограничения царской власти «мудрым советом» — той или иной формой представительства, выражающим в отличие от кастовой Боярской думы преимущественно интересы служилой массы и верхов посада» (Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 53). Как видим, Избранная Рада, по Д. Н. Альшицу, — это не «некая форма представительства», а «фактическое правительство», которое посредством системы реформ стремилось к ограничению царской власти и установлению той или иной формы представительства. 64 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 86. 65 Смирнов И. И. Очерки… С. 145–146. 66 Там же. С. 146. 67 Там же. С. 160. И. И. Смирнов снова возвращается к этой мысли, указывая на искажение Курбским объективной исторической действительности, которое состояло «в изображении «избранной рады» как некоего новообразования, новшества, причем новшества, имевшего чрезвычайный характер и существовавшего лишь при Сильвестре и Адашеве, которые, по Курбскому, и являлись создателями «избранной рады». — Там же. С. 159. 68 Смирнов И. И. Очерки… С. 150. В другом месте книги И. И. Смирнов пишет: «Вряд ли может быть сомнение в том, что, создавая свою концепцию «избранной рады», Курбский опирался на ту роль, какую играла в Русском государстве XVI в. Боярская дума». — Там же. С. 157. 69 Там же. С. 159. 70 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). Лондон, 1987. С. 62. См. также: Grobovsky А. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: А Reinterpretation. N.-Y., 1969. 71 Филюшкин А. И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998. С. 231. 72 Там же. С. 241. 73 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 231. 74 Там же. С. 238. 75 Там же. С. 246. «Есть основания считать содержащуюся в переписке концепцию «Избранной Рады» политической и историографической легендой, исказившей состав и деятельность правящих кругов России 1550-х гг.». — Там же. С. 246–247. 76 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII вв.: Очерки истории. СПб., 2006. С. 204. 77 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 165. 78 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 42. 79 Там же. С. 77(прим. 67). 80 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 86. 81 Наиболее основательная попытка установления персонального состава Избранной Рады принадлежит С. В. Бахрушину. Однако полученные им результаты также достаточно скромны. Надо при этом иметь в виду, что на подсчеты историка существенное влияние оказывало его убеждение в тождестве Избранной Рады с Ближней Думой. — См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. М. С. 333–340. 82 Бахрушин С. В. Научные труды. С. 331. 83 См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 268–269. 84 Именно по этой причине Избранная Рада, как отмечал С. В. Бахрушин, слова которого мы только что привели, «не оставила никаких следов в официальных памятниках». 85 Постановка этой политической организации явственно проглядывает на фоне деятельности отдельных ее представителей, в частности А. Ф. Адашева, о котором И. И. Смирнов писал: «Анализ данных, относящихся к политической деятельности А. Ф. Адашева, заставляет прийти к выводу о том, что эта деятельность не может быть уложена в рамки обычной должностной службы в тех или иных органах власти. Напротив, характерной чертой А. Ф. Адашева как политика было то, что в своей деятельности он находился вне рамок служебной иерархии и зачастую над этой иерархией». — Смирнов И. И. Очерки… С. 229. 86 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 19, 31. 87 Там же. С. 32. 88 Там же. С. 13, 15, 31, 32, 33, 43. 89 Там же. С. 14. 90 Там же. С. 17, 31. 91 См.: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 45–46; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116, 118. 92 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 19. 93 Там же. С. 129. 94 Там же. С. 31. 95 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. С. Ф. Платонов полагал, что Сильвестр провел Курлятева «в ближние бояре». — Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 64. 96 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 317. 97 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. 98 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32. 99 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 152 (прим. 29). 100 См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902; Сергеевич В.И Русские юридические древности. Т. И. С. 337–417; Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 77–85. 101 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13. 102 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 14. 103 Там же. 104 Там же. С. 15. 105 Там же. С. 17. 106 Там же. С. 32. 107 Там же. С. 20. 108 Там же. С. 21, 70. 109 Там же. С. 104. 110 Там же. С. 15, 65. 111 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 30–31, 79. 112 Там же. С. 20, 21. 113 Там же. С. 31, 79. 114 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. 115 Отметим только, что, согласно Р. Г. Скрынникову, «царь не без основания утверждал, будто Сильвестр и Курлятев самовольно распоряжались государственными делами, «строениями и утверждениями», раздавали чины и должности и «ни единые власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 112). В недавней своей работе исследователь писал: «Утверждение царя насчет насаждения радой своих «угодников» на высшие посты в приказах не было сорвавшейся в порыве раздражения фразой». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. 116 Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. (Памятники XI–XV вв.). Приложения. СПб., 1880. Стб. 274. 117 До сих пор в современной историографии существует большой пробел в области изучения религиозных основ правления Ивана Грозного. Правда, в последнее время наметилось стремление восполнить этот пробел. — См.: Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 132–170; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 408–503. 118 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13. 119 Там же. С. 380. 120 История Византии. В трех томах. Т. 2. М., 1967. С. 53. 121 Там же. С. 58. 122 Там же. С. 52, 59. 123 Там же. С. 59. 124 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 15, 64. 125 Там же. С. 14–15, 64. 126 См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Стб. 2140–2141. 127 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 18, 58. 128 Там же. 129 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 47, 86. 130 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 34, 82. 131 Там же. С. 395. 132 Там же. С. 17, 59, 67. 133 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. 134 Источники по истории новгородско-московской ереси конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 265. 135 Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 174. 136 Там же. 137 Калибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв. М., 1960. С. 66. 138 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7, 9. 139 Там же. С. 38–39. 140 Там же. С. 39, 90. 141 Там же. С. 46–47, 60. 142 Там же. С. 26, 74–75. 143 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 46, 97. 144 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 318, 320. 145 Там же. С. 316. 146 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 9–10. 147 См., напр.: Grobovsky А. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: A Reinterpretation. N.-Y., 1969. 2) Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа); Филюшкин А. И. История одной мистификации… 148 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси М., 1902. С. 270 (прим.); Пг., 1919. С. 267 (прим.). 149 Там же. 150 Там же. М., 1902. С. 298; Пг., 1919. С. 294. 151 Именно так раскрывает понятие Избранная Рада Курбский в третьем послании Грозному, называя ее «избранным советом нарочитых сингклитов». — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 108. 152 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 102. 153 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 318. 154 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. С. 102; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 220; 221. 155 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 318. 156 Ср.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 143. 157 См.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. II. С. 369; Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 386; Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 45; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 322; Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 49; Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 32, 35; Власть и реформы… С. 59. 158 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 45. 159 См., напр.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 34–35; Филюшкин А. И. История одной мистификации… 243–244; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 77. 160 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 154. 161 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 241. 162 Так позволяет думать уже упоминавшееся нами свидетельство Курбского о советниках Ивана: «И нарицались тогда оные советницы у него избранная рада» (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 318). К этому надо добавить, что Грозный в своих посланиях (1567 г.) полякам пользовался выражениями «панов рад»» «добрая рада», свидетельствуя тем самым, что слово «рада» ему хорошо было известно. — См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 241. 163 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 324–325. 164 Ключевской В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 344; Пг., 1919. С. 340. 165 Любавский М. К. Лекции по древней русской истории… С. 86. 166 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 323. 167 Там же. С. 324. 168 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 103, 105, 108. 169 Сходным образом рассуждает А. И. Филюшкин: «Концепция Грозного о временщиках Адашеве и Сильвестре была лишь одной из пропагандистских версий, исходящей от Ивана Васильевича и направленной на оправдание его опричной политики». — Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 276. 170 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 47. 171 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 323–324. 172 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181–182. 173 См. Материалы по истории СССР. Вып. II. М., 1955. 174 Там же. С. 14. 175 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 233. 176 Там же. С. 235. 177 Там же. С. 235–236. 178 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 256. 179 См.: Тихомиров М. Н. Пискаревский летописец как исторический источник о событиях XVI — начала XVII в. // История СССР. 1957, № 3. 180 Тихомиров М. Н. Русское летописание. С. 235–236. 181 См.: Шмидт С. О. 1) Челобитенный приказ в середине XVI столетия // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. Т. VII. 1950, № 5; Правительственная деятельность А. Ф. Адашева // УЗ МГУ. Вып. 167. М., 1954; Смирнов И. И. Очерки… С. 225–226, 229–230. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 321, 324, 326–328. 182 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 61. 183 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 61–64; 2) Царство террора. С. 34–35. 184 Автор справедливо указывает на неточности повествования Пискаревского летопица, связанные с датировкой поездки отца и сына Адашевых в Константинополь, с определением времени и места похорон Алексея Адашева. — См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 253–254. 185 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 105. 186 И. И. Смирнов писал: «Целью рассказа Пискаревского летописца являлось продемонстрировать роль и значение А. Ф. Адашева, когда он был «во времени», и подкрепить характеристику правления Адашева той поры, когда «Русская земля была в великой тишине и во благоденстве и управе». — Смирнов И. И. Очерки… С. 225. 187 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 83. Н. М. Карамзин предложил следующий перевод данного текста: «Сей муж знаменитый (Годунов. — И.Ф.) питал, утешал наших пленников, когда они сидели в темнице, и дав им свободу, милостиво угостил их в своих палатах, одарив каждого сукнами и деньгами. Слава его везде разносится. Вы счастливы, имея ныне Властителя подобного Алексею Адашеву, великому человеку, который управлял Россиею в царствование Иоанново». Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Т. X. М., 1989. Стб. 29. См. также: Соловьев С. М. Сочинения. Кн. IV. М., 1989. С. 200. 188 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к тому X. Стб. 19 (прим. 82). См. также: Соловьев С. М. Сочинения. Кн. IV. С. 201. 189 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 83. 190 Там же. 191 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 243. 192 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 64. 193 Там же. 194 Там же. С. 82. 195 Там же. С. 80. 196 Смирнов И. И. Очерки… С. 230. 197 Смирнов И. И. Очерки… С. 230. 198 Смирнов И. И. Очерки… С. 231. 199 ПСРЛ. Т. 34. С. 181–182. 200 См.: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). С. 146–147; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 254. Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 253; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 121. 201 Тихомиров М. Н. Русское летописание. С. 235. 202 Шмидт С. О. Челобитенный приказ в середине XVI столетия. С. 447. 203 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 326, 328. 204 Смирнов И. И. Очерки… С. 223–227. 205 Смирнов И. И. Очерки… С. 253. 206 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 35. 207 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 121. 208 Д. Н. Альшиц, имея в виду Пискаревский летописец, замечал: «Итак, Адашев «правил русскую землю» вместе со священником Сильвестром — утверждает источник, совершенно независимый от писаний Грозного и Курбского, утверждающих то же самое». Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 37. 209 По этому поводу И. И. Смирнов замечал: «Характеристика Сильвестра в Пискаревском летописце представляет большой интерес. Рассматривая, подобно Ивану Грозному и Курбскому, Сильвестра как соправителя Адашева, автор Летописца вместе с тем, однако, вкладывает в понятие «править Русской землей» существенно иное содержание, по сравнению с Иваном Грозным и Курбским, видя в «правлении» Адашева и Сильвестра не проявление самовольства и всевластия этих двух деятелей, а выражение «царской милости», доверия Ивана IV к Сильвестру и Адашеву» (Смирнов И. И. Очерки… С. 253). Начнем с того, что Грозный видел в Сильвестре не соправителя Адашева, а сотоварища по узурпации царской власти. Что касается Курбского, то он изображал Сильвестра и Адашева в роли помощников и советников Ивана Грозного. Пискаревский же летописец подает их как правителей Русской земли, осуществлявших реальную власть в стране от имени царя. Но это не значит, что они неотступно следовали царским предначертаниям. Не случайно Летописец, сообщая о государственной деятельности Алексея Адашева, вносит в нее зримый элемент самостоятельности. 210 О времени составления Царственной книги в литературе нет единого мнения. Одни исследователи полагают, что она была составлена в 1560-е годы, другие — в конце 1570-х — начале 1580-х гг. — См.: Шмидт С. О. Становление российского самодержавства… С. 42; У истоков российского абсолютизма… С. 50; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 77. 211 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. М., 2000. С. 524. 212 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 20. 213 Веселовский С. Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические записки. Кн. 22. М., 1947. С. 106. 214 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 258. 215 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 283. 216 Там же. С. 284. 217 Попутно заметим, что С. Б. Веселовский в другой своей работе изображает Сильвестра в качестве царского опекуна, которым тяготился Иван, не зная, как избавиться от него. Историк готов назвать Сильвестра временщиком, но только не узурпатором (Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С.97, 98,106,107). Опекун и временщик — лицо, конечно, влиятельное, обладающее большой властью. Но автор твердит свое: «Влияние Сильвестра на царя и на дела управления тенденциозно преувеличено самим Иваном и официальным летописцем» (Там же. С. 108). Но тут же мы узнаем, что удаление Сильвестра и Адашева «было первым этапом на пути царя Ивана к свободе действий и независимости от совета думных людей». Иван, по признанию С. Б. Веселовского, боролся за «неограниченное самодержавие» (Там же). Следовательно, царь Иван не имел свободы действий, находился в такой зависимости от советников, что власть его была ограничена. Но, согласившись с этим, мы должны согласиться с тем, что часть властных полномочий государя оказалась отторгнутой и сосредоточенной в руках его временщиков — Сильвестра и Адашева. 218 И. И. Смирнов, затрагивая данный сюжет, «поймал» летописного рассказчика на собственном противоречии: «Нарисовав образ «всемогущего» правителя государства, автор рассказа переходит к описанию столкновения между Сильвестром и боярами, получившегося в результате того, что Сильвестр сделал попытку добиться пропуска Владимира Старицкого к больному Ивану IV (к которому его не пускали бояре). Казалось бы, всемогущему Сильвестру не могло стоить никакого труда заставить бояр подчиниться его воле, но в действительности бояре категорически отказались следовать совету Сильвестра — в разительном контрасте со всем тем, что говорится о Сильвестре в общей его характеристике» (Смирнов И. И. Очерки… С. 249–250). И. И. Смирнов не учитывает должным образом того обстоятельства, что отказ верных царю бояр следовать настояниям Сильвестра имел место в чрезвычайных условиях открытой борьбы двух придворных группировок — сторонников и противников Ивана. Это, безусловно, сказалось на отношении преданных государю бояр к Сильвестру, представлявшему враждебную им партию. И они отказались повиноваться Сильвестру. Но в обычных условиях дворцовой жизни власть Сильвестра, насколько явствует из приписки к Царственной книге, была непререкаемой уже потому, что за ним, как знали люди, стоял Иван IV, у которого благовещенский поп бмл «в великом жаловании». Во время мартовских событий 1553 года Сильвестр не ассоциировался с Иваном, поскольку оказался в лагере противников царя. В результате власть его была поколеблена непослушанием части бояр, а затем все более слабела во «вражде» с ними. 219 Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 143. 220 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 39. 221 См.: Альшиц Д. Н. 1) Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. М., 1947; 2) Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. М., 1948; 3) Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования // Труды Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. IV. 1957. 222 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 255–256. 223 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 44. 224 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 291–292. 225 Там же. С. 292. 226 Смирнов И. И. Очерки… С. 248–249. 227 Там же. С. 249. 228 Там же. С. 250. 229 Там же. 230 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 253, 387. 231 Там же. С. 375, 406. 232 РИБ. Т. 4. Стб. 1440. 233 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. С. 157–166. 234 Там же. С. 168. 235 Рекомендация Сильвестра была единственной и решающей, хотя вопрос о назначении игумена в такую прославленную обитель, как Троице-Сергиев монастырь, являлся весьма значимым и потому предполагающим участие в этом назначении митрополита Макария. Но царь Иван и Сильвестр обошлись здесь, похоже, без митрополита, что лишний раз свидетельствует о большом влиянии Сильвестра на государя. 236 Смирнов И. И. Очерки… С. 250. 237 Там же. С. 251. 238 Там же. 239 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 770 (прим.). 240 Смирнов И. И. Очерки… С. 251. 241 Там же. С. 251–252. 242 Случилось это в 1553 году, о чем речь ниже. 243 Смирнов И. И. Очерки… С. 250. 244 «Алексие! взял я тебя от нищих и от самых молодых людей… и ныне взысках тебе выше меры твоея, ради помощи души моей». — Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. II. Примечания к VIII. М., 1989. Стб. 29. 245 «Вручаю тебе челобитныя приимати у бедных и обидимых, и назирати их с разсмотрением. Да неубоишися сильных и славных, восхитивших чести на ся…». — Там же. 246 Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 59. 247 Оспорить это едва ли возможно. Не случайно Р. Г. Скрынников в своей ранней книге, более объективной, чем позднейшие его работы, писал: «В известных приписках к летописи царь Иван ярко живописует правление Сильвестра. «Некий священник», служивший в церкви Благовещенья у царского двора, «бысть яко всемогий, вся его послушаху и никто не смеяше ни в чем же противитися ему ради царского жалования: указывающее бо и митрополиту… и бояром, и дияком» и т. д. Впадая в полемическое преувеличение, царь утверждал, что поп-невежа склонен был «спроста рещи, всякия дела и власти святителския и царския правяше, и никтоже смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владяше, обема властми, и святителскими и царскими, якоже царь и святитель…». Могущественный временщик, объединивший в своих руках духовную и светскую власть, — таким предстает Сильвестр в рассказах Грозного. При всей тенденциозности подобных рассказов в основе их лежит несомненный факт: во второй половине 50-х гг. Сильвестр оказывал всестороннее влияние на управление государственными и церковными делами» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966. С. 116). Другой разговор в книге со специфическим названием «Царство террора»: «Сведения приписки (к Царственной книге. — И.Ф.) поражают своей пристрастностью. К тому же царь противоречит себе, как только начинает излагать конкретные факты, доказывающие рассуждения о всесилии Сильвестра. В дни болезни царя священник лишь однажды подал голос, советуя допустить Старицкого к постели царя. Но на его слова никто не обратил внимания. При всей тенденциозности Грозный верно указал на два источника влияния придворного проповедника. Во-первых, «никто не смеяше ни в чем противитися ему ради царского жалованья» и, во-вторых, он был «чтим добре всеми». Будучи не столько политиком, сколько церковным пастырем, Сильвестр пользовался большим моральным авторитетом» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 122). Сравнение этих разновременных высказываний Р. Г. Скрынникова убеждает в том, что и сам историк может впадать в противоречие с собой, а также быть пристрастным и тенденциозным. 248 Смирнов И. И. Очерки… С. 243; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 317, 328 (прим. 30). Ср.: Малини В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 180; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 48. 249 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1874. С. 88. 250 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 88. 251 Вопрос этот, впрочем, не прост. И. И. Смирнов под «ближними» в данном случае усматривает Боярскую Думу или, еще вероятнее, — Ближнюю Думу (Смирнов И. И. Очерки… С. 243). Возможно, это так, но только применительно к тексту: «Велми о сем государь и вси ближний благодарят твоего разума делу о всем». Когда же Сильвестр говорит, что «издалека зрех и овогда слышах благоразумное твое и премудрое писание к царю и ближним твоим», то он под словосочетанием «ближние твои» разумеет, по нашему мнению, родичей Горбатого. 252 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1874. С. 90, 91. 253 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. М.-Л., 1947. С. 202. 254 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 120. 255 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 61. 256 Там же. 257 Там же. С. 62. 258 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века… С. 201. 259 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 93. Правда, он затем, будто опамятовавшись, говорит о «богодарованном Государе и Царе». — Там же. С. 96, 98. 260 Смирнов И. И. Очерки… С. 243. 261 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 100. 262 Смирнов И. И. Очерки… С. 243–244. См. также: Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 94 263 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 89. 264 Там же. Сильвестр, разумеется, не исключал проповеди, но в случае упорства «заблудших Агарян и Черемисы» настаивал на применении понуждения и запретов. — Там же. С. 95. 265 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. H. Т. VIII. М., 1989 Стб. 124; Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 463; Еромолаев И. П. Становление Российского самодержавия… 2004. С. 280; Котляров А. А. Московская Русь и народы Поволжья в XV–XVI веках: У истоков национальной политики России. Ижевск, 2005. С. 257. 266 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. С. 458. См. также: Котляров А. А. Московская Русь и народы Поволжья… С. 256–257. 267 Летописец рассказывает, как после взятия Казани приезжали к Ивану IV представители местных племен с изъявлением покорности. Царь «велел их к шерти (клятве) привести и ясаки на них имати и во всем их управляти» или «к шерти приводить и управу чинить» (см.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. М., 2000. С. 222, 516). Присяга на верность и уплата ясака-дани — вот что нужно было Ивану, не больше). 268 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 225, 520. 269 Смирнов И. И. Очерки… С. 244. 270 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 59–60. 271 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 100. 272 Там же. 273 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 31. 274 Там же. С. 32. 275 Там же. 276 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр. С. 31. 277 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. 278 Там же. С. 238. 279 Недаром Максим Грек называет князя Никиту Борисовича «многострадальным». 280 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. 281 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 317–318. См. также: Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 37. 282 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 318. 283 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 41. 284 Там же. С. 37. 285 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 131. 286 Смирнов И. И. Очерки… С. 188. 287 Смирнов И. И. Очерки… С.191. 288 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 318. 289 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81. 290 Там же. 291 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 61. 292 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. Это утверждение Грозного, полагает Р. Г. Скрынников, «не было сорвавшейся в порыве раздражения фразой». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. 293 Исследователи говорят о расширении состава Думы «за счет родов, ранее не допускавшихся до властных структур узким кругом боярских группировок» (Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 131). Таким способом инициаторы кадровых перемен «припускали» в Боярскую Думу людей, обязанных им, а потому — послушных. 294 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. 295 Эта «прелестная» тактика, рассчитанная на создание социальной базы для Сильвестра и Адашева, в различных вариациях повторялась много позже. В частности, отражение ее наблюдаем в осеннем верстаньи 1605 года, произведенном по указу Ажедмитрия I — См.: Воробьев В. М. Ажедмитрий I и судьбы службы «по отечеству» и поместной системы // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы научной конференции 18–20 ноября 2003 года. Великий Новгород, 2003. С. 98–122. 296 Скрынников Р. Г. Царство террора… С. 94. 297 Там же. 298 Во всяком случае, Иван IV доверял Висковатому «больше других» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 74). Он, по-видимому, возлагал большие надежды на Висковатого и наделил его большими полномочиями. И. Граля по этому поводу говорит: «Случай с Висковатым был беспрецедентным — впервые в истории московской дипломатии в составе боярской комиссии, ведущей переговоры с иностранным посольством, в качестве ее полноправного члена оказался подьячий. Мнимый дьяк имел такие же полномочия, как и его титулованные сотоварищи, участвовал в церемонии ознакомления послов с царским ответом». — Там же. С. 63. 299 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV и боярский «мятеж» 1553 года // Отечественная история. 1994, № 3. С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 74. 300 «Царская делегация, — пишет И. Граля, — получив категорические рекомендации думы… энергично потребовала указать в документах о перемирии новый титул Ивана Васильевича…». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 72. 301 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 297, 300. 302 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 73. 303 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 73. См. также: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 79. 304 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. С. 291. 305 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. 306 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 312–313. 307 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. 308 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. 309 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13–14. 310 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 679. 311 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 29–30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81–82. 312 А. Л. Хорошкевич говорит о «Соборе примирения», но «в контексте внутриполитических событий», а не религиозно-нравственных установок. — Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 29; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 79–80. 313 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 29; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 78. 314 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. 315 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 74–75. 316 А. Л. Хорошкевич. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. 317 А. Л. Хорошкевич. Россия в системе международных отношений… С. 78. 318 Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Т. 41. М., 1989. С. 495. 319 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. 320 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 48. 321 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 49. 322 Там же. 323 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 75. Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81. 324 Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952. С. 176. 325 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 317. 326 Рожков Н. Происхождение самодержавия в России. М., 1906. С. 184–185, 189. 327 Сергеевич В. И. 1) Русские юридические древности. Т. II. СПб., 1900. С. 368–369; 2) Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910. С. 170–171. 328 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 164. 329 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПб., Киев. 1907. С. 170. 330 Там же. С. 171. 331 Там же. С. 171, 172. 332 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1912. С. 439. 333 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя… С. 441. 334 Покровский М. А. Русская история с древнейших времен. Т. 1. Приложение. М., 1933. С. 231. 335 Там же. С. 232. 336 Базилевич К. «Торговый капитализм» и генезис московского самодержавия в работах М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сб. статей. 4.1. М.-Л., 1939. С. 157. 337 Смирнов И. И. Очерки… С. 386. 338 Там же. 339 Там же. С. 387. 340 Там же. 341 Смирнов И. И. Очерки… С. 397–398. 342 Там же. С. 398. См. также: Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. Т. 24. М., 1947. 343 Романов Б. А. Комментарий // Судебники XV–XVI веков. С. 334. 344 Там же. С. 335. 345 Там же. С. 337. Несколько иначе оценивал результаты исследования И. И. Смирнова историк русского права Г. Б. Гальперин, заявлявший, будто из его схемы «совершенно выпала боярская дума как орган, осуществляющий совместно с царем законодательные функции в стране. Все законодательные памятники свидетельствуют, что в большинстве случаев государь законодательствует вместе с боярами». — Гальперин Л. Д. Форма правления Русского централизованного государства XV–XVI вв. Л., 1964. С. 45. 346 Власть и реформы… С. 62. 347 Там же. 348 Там же. С. 61. 349 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 292. 350 Там же. С. 293. 351 Памятники русского права. Вып. IV. Под редакцией проф. Л. В. Черепнина. М., 1956. С. 340. 352 Там же. С. 339. 353 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 365. 354 Российское законодательство X–XX веков: В 9 томах. Т. II. М., 1985. С. 170. 355 Кузьмин А. Г. 1) Адашев и Сильвестр. С. 135; 2) История России с древнейших времен до 1618 г. В двух книгах. Кн. II. М., 2003. С. 240. 356 Янов А. А. Россия: У истоков трагедии. 1462–1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001. С. 500. 357 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89. 358 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89. 359 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31–32; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89–90. 360 Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 31. 361 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 41 (прим. 61); 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89 (прим. 122). 362 Романов Б. А. Комментарий. С. 334. 363 Власть и реформы… С. 61. 364 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 365 (прим. 1); Памятники русского права. Вып. IV. С. 360, 361. 365 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 290. 366 См.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. II. С. 369. 367 Там же. 368 См.: Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996. С. 31–39. 369 Сказания Князя Курбского. СПб., 1868. С. XVIII. 370 Сказания Князя Курбского. С. XVIII–XX. 371 Там же. С. XX–XXI. 372 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 215, 227. 373 См., напр.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. II. Примечания к тому VIII. М., 1989, Стб. 16 (прим. 80); Николаевский П. Ф. Русская проповедь в XV и в XVI вв. // ЖМНПросв., 1868, февраль. 374 Барсов Н. И. К вопросу об авторе «Послания к царю Ивану Васильевичу» Сильвестровского сборника С.-Петербургской Духовной академии // Сб. Археологического ин-та. Кн. IV. СПб., 1880. С. 90–130. 375 Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, апрель. С. 674–677. 376 Смирнов И. И. Очерки… С. 238; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. С. 127. 377 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 13–14; Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. С. 272–273; Жданов И. Н. Сочинения. Т.1. СПб., 1904. С. 193–197; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 198; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники; Альшиц Д. Н. 1) Начало самодержавия в России… С. 64–68; 2) Публицистические выступления Сильвестра в эпоху реформ «Избранной Рады» // ТОДРЛ. Т. 42. Л., 1989. С. 94–103; 3) Иван Грозный: известный и неизвестный. От легенд к фактам. СПб., 2005. С. 44–51; Флоря Д. Я. Иван Грозный. С. 103, 104; Филюшкин А. Ю. История одной мистификации… С. 318. 378 Макарий. История русской церкви. Т. VII. СПб., 1891. С. 346. 379 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 13–12, 64; Смирнов И. И. Очерки… С. 237–238; Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95, 100, 101. 380 Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. С. 194–201; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С.53; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л. 1958. С. 12. 381 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения… С. 127. 382 Барсов Н. И. К вопросу об авторе… С. 90–130; Бычков А. Ф. Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Публичной библиотеки. Ч. 1. СПб… 1882. С. 57–58. 383 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. 384 Смирнов И. И. Очерки… С. 238. 385 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. 386 Смирнов И. И. Очерки… С. 237–238. 387 См. также: Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95, 103. 388 Смирнов И. И. Очерки… С. 236, 238. Глинские и их окружение были разгромлены в результате июньского восстания и выведены из политической игры. 389 Там же. С. 237. 390 Там же. С. 118. 391 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 92. 392 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 69. 393 Там же. С. 82. 394 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. 395 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 80. 396 Смирнов И. И. Очерки… С. 237. 397 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 87. 398 См.: Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 246–247. 399 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 86–87. 400 См.: Емченко Е. Б. Стоглав… С. 255. 401 Там же. С. 310, 312–313. 402 Там же. С. 262. 403 Там же. С. 261. 404 Там же. С. 262, 302. 405 Там же. С. 262. 406 Там же. С. 294. 407 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 200. 408 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 72. 409 Там же. С. 73. 410 Там же. 411 Там же. 412 Там же. 413 Там же. С. 82. 414 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 84. 415 Там же. С. 73. 416 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 232. 417 См.: ЧОИДР. 1858. Кн. II, отд. III. С. 9–10. 418 Там же. С. 12. 419 См.: ААЭ. Т. I. СПб., 1836. С. 246. 420 См.: Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. СПб., 1909. С. 88–89; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 378; Носов Н. Е. Становление, сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 72; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1973. С. 179; 2) У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 202. Полной уверенности в том, что Стоглавый собор заседал именно в указанное время, у нас, разумеется, нет. По этому поводу Л. В. Черепнин однажды заметил: «При бедности источниковедческой базы трудно в достаточной степени убедительно и точно определить исходную и конечную грани деятельности собора». — Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 79. 421 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 66. 422 Там же. С. 68. 423 Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 94–95. 424 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 67. 425 Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95. См. также: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 64. 426 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52–53. 427 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 199–202. 428 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 199–202. 429 Смирнов И. И. Очерки… С 238. 430 Там же. 431 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 53. 432 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. 433 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 88, 100. 434 Там же. С. 100. 435 ААЭ. Т. I. С. 246. 436 Смирнов И. И. Очерки… С. 238. 437 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. 438 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 241. 439 Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.). М., 1901. С. 129. 440 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 226; 2) Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. С. 227. 441 См.: ПСРЛ. Т. 34. М, 1978. С. 30. 442 Смирнов И. И. Очерки… С. 195. 443 Смирнов И. И. Очерки… С. 195–196. 444 См.: Покровский H. H. Афанасий (в миру Андрей) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 73; Шимдт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 245. 445 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 458. 446 См.: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр… С. 13. 447 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 316. 448 Там же. С. 400. 449 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 30. 450 См.: Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 15; Розов H. H. Библиотека Сильвестра (XVI век) // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 192; Филюшкин Л. Ю. История одной фальсификации… С. 316. 451 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 87. 452 Смирнов И. И. Очерки… С. 201. 453 Сочинения Максима Грека. Ч. II. Казань, 1860. С.362. 454 Москвитянин. 1842, № 11. С.91. 455 См.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. 1861. С. 877–884. 456 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. 457 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… С. 879. 458 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 11–12. 459 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 69. 460 Там же. С. 87. 461 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 188, 223–224. 462 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 224. 463 Там же. С. 184–185. 464 Там же. С. 185. 465 Там же. 466 Там же. С.186. 467 Масса Исаак. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии до 1610 года за короткое время правления нескольких государей // О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 21. 468 Смирнов И. И. Очерки… С. 195. 469 Там же. С. 195–196. 470 Там же. С. 196. 471 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. Стб. 291; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 112. 472 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 198. 473 Там же. С. 186, 198. 474 Там же. С. 223, 518. 475 Казанская история. М.-Л., 1954. С. 166–168. 476 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 219–220, 514. 477 Там же. С. 224–225, 519. 478 См.: Альшиц Д. Н. Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. 1947. С. 267. 479 См.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 258. 480 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 129. См. также: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 82. 481 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 204, 500. 482 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 348. 483 Там же. 484 Веселовский С. Б. Исследования по истории Опричнины. С. 271. 485 Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 67. 486 Точно так же поступает и Р. Г. Скрынников. «На третий день после падения Казани, — пишет он, — самодержец, как вспоминал Курбский, произнес: «Ныне оборони мя Бог от вас!». Одаренный от природы умом и наблюдательностью, Иван понимал двусмысленность своего положения, полную зависимость от собственной аристократии» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 66). Историк, следовательно, поверил А. Курбскому, но, чтобы, по-видимому, лучше верилось, опустил дальнейшие слова, приписываемые князем царю, ввиду их очевидной нелепости. 487 См.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений… С. 125. 488 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 227–228, 522. 489 В «Казанской истории» также говорится о раздаче кормлений участникам царского пиршества. — Казанская история. С. 170. 490 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 265. 491 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 51. 492 Там же. С. 49. 493 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 268. 494 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. 495 По вопросу достоверности сведений, содержащихся в «Казанской истории», нет единого мнения. Г. З. Кунцевич, написавший специальное исследование, посвященное «Истории», отмечал в ней как историческом источнике «много неточностей, недостатков, ошибок» (Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве. СПб., 1905. С. IX). И все же, по словам Г. Н. Моисеевой, «не объяснив отличий в описании одних и тех же событий в «Казанской истории» и в документальных и литературных памятниках этого времени, Кунцевич не раскрыл намеренного, тенденциозного отступления автора в ряде случаев от достоверной передачи фактов во имя осмысления прошлого в свете общественно-политической борьбы времени создания произведения)) (Казанская история. С. 19. См. также: Моисеева Г. Н. Автор «Казанской истории» // ТОДРЛ. Т. IX. М.-Л., 1953). Имея в виду «Казанскую историю, или Историю о Казанском царстве», М. Н. Тихомиров писал: «В исторической литературе это произведение считается мутным. Тем не менее, почти все историки им пользуются из-за богатства фактическим материалом истории Казани, отсутствующим в других источниках» (Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейший времен до конца XVIII в. Курс источниковедения истории СССР. Т. I. М., 1940. С. 132–133). К этому надо добавить, что к данному памятнику обращаются исследователи и за материалом по истории Руси эпохи Ивана IV. — См., напр.: Смирнов И. И. Очерки… С. 265–266. 496 Казанская история. С. 169. 497 Казанская история. С. 169. 498 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. 499 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 522–523. 500 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. 501 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 265. 502 А. И. Филюшкин чересчур расширительно толкует данное известие, чем сглаживается конкретный его смысл: «Забвение аристократией своих обязанностей управлять государством, по Грозному, немедленно привело к мятежу казанских татар: взбунтовались Луговая и Арская стороны» (Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78). Царь говорил не об управлении государством вообще, а о «казанском строении» конкретно. 503 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237 (прим. 4). 504 Смирнов И. И. Очерки… С. 266. 505 Там же. С. 267. 506 Там же. 507 Смирнов И. И. Очерки… С. 267 (прим. 11). 508 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 113. 509 Стало быть, «увесистую оплеуху», которую, по А. Л. Хорошкевич, якобы получил Иван IV от «западного соседа», исследовательница может оставить при себе. 510 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 366. 511 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С 113. 512 Там же. С. 114. 513 См.: Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. Л., 1991. С. 81–115. 514 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. С. 367. 515 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый. С. 89. 516 Там же. 517 Там же. 518 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. С. 368. 519 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 266. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 407. 520 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников… С. 286. См. также: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 209–210. 521 Альшиц Д. Н. Происхождение… С. 266. Позднее Д. Н. Альшиц, видимо, под воздействием критики его построений, несколько смягчит свои суждения: «В самом тексте Царственной книги о мятеже 1553 г. ничего не сказано. Рассказ, который счел необходимым приписать редактор, весьма пространен. Сличив его с тем, что об этих же событиях пишет Грозный в своем письме (Курбскому. — И.Ф.), мы убедимся, что приписка, как и в прежних случаях, лишь расширяет и детализирует написанное в нем» (Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 214). Следовательно, соотношение сведений приписки к Царственной книге и письма Ивана Грозного к Андрею Курбскому о боярском «мятеже» 1553 года иное, чем заявлял об этом ранее Д. Н. Альшиц: они взаимно не исключают, а дополняют друг друга. 522 Там же. С. 266, 267, 285, 288, 289. См. также: Альшиц Д. Н. Крестоцеловальные записи Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // История СССР. 1959, № 4. 523 См., напр.: Веселовский С. Б. Исследования… С. 255–257; Гробовский А.Н Иван Грозный и Сильвестр… С. 65–69; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 77. 524 См., напр.: Зимин А. А. 1) Реформы Ивана Грозного… С. 408; 2) Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 72; 3) Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 23, 25. 525 Смирнов И. И. Об источниках для изучения «мятежа» 1553 г. // Смирнов И. И. Очерки… С. 485. 526 Там же. С. 484. 527 Там же. С. 483. См. также: Смирнов И. И. Иван Грозный и боярский мятеж 1553 г. // Исторические записки. Т. 43. 1953. 528 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 408. 529 Там же. С. 409. 530 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30 (прим. 1). 531 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30. 532 Там же. С. 31. 533 Там же. 534 Там же. 535 Там же. С. 31–32. 536 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 32. Об использовании следственного дела при составлении приписки к Царственной книге о боярском мятеже в марте 1553 года говорил С. В. Бахрушин еще за двадцать лет до выхода книги Р. Г. Скрынникова. В статье ««Избранная рада» Ивана Грозного», увидевшей свет в 1945 году, он писал о содержащих дополнительные сведения вставках в Синодальный список и Царственную книгу следующее: «Мы можем угадать источники, откуда черпались эти дополнительные сведения. В ряде случаев это, несомненно, следственные дела о «поносительных словах» и об измене (например, следственные дела о князе Лобанове-Ростовском и о «мятеже» при крестном целовании маленькому царевичу Дмитрию), в других случаях — разрядные выписки…» (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 333). В другой раз С. В. Бахрушин, касаясь лишь известия Царственной книги о боярском мятеже 1553 года, утверждает, что в основе этого известия «лежит следственное дело по поводу «мятежа». — Там же. С. 349. 537 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 27, 112. Мысль Р. Г. Скрынникова о Повести не оригинальна. С. А. Морозов, анализируя приписки к Царственной книге, пришел к выводу о том, что в их основе было оригинальное литературное произведение, условно названное исследователем «Летописная повесть о болезни царя Ивана Васильевича в марте 1553 г.». Автором Повести являлся, по С. А. Морозову, дьяк Иван Висковатый. — Морозов С. А. Летописные повести по истории России 30–70-х гг. XVI века. Автореф. канд. дисс. М., 1979. С. 14–19. См. также: Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 210. 538 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 27. 539 Там же. С. 29. 540 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. 541 См.: Андреев Н. Е. 1) Interpretations in the 16th Century Muscovite Chronicles // Slavonic and East European Review. Vol. 35, № 84, 1956. P. 96–115; 2) Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 117–118. 542 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 98–99. 543 Там же. С. 108. 544 Там же. С. 103. 545 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 176 (прим. 206). 546 Там же. С. 173 (прим. 190). 547 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 125. 548 Там же. С. 126. 549 И. Граля верно заметил, что до момента появления работ С. Б. Веселовского и Д. Н. Альшица в конце 40-х гг. прошлого века достоверность сведений этих источников «не вызывала у исследователей ни малейших сомнений». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 169 (прим. 167). См. также: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 123. 550 Ср.: Шапошник В. В. Иван Грозный: Первый русский царь. С. 189. 551 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 230. Р. Г. Скрынников предложил слишком упрощенный, по нашему мнению, комментарий к данному тексту: «Официальная летопись, составленная при Адашеве, обрисовала ситуацию с помощью библейской цитаты: «Посети немощь православного нашего царя… и сбыстся на нас евангельское слово: поразисте пастыря, разыдутся овца». Адашев явно желал предать забвению «вся злая и скорбная» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 68). Историк не задался даже вопросом, почему Адашев так поступил. 552 Летописец так и говорит: «Он государь, добрый пастырь». — Там же. 553 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. 554 Там же. А. Л. Хорошкевич не учла этого свидетельства Курбского, когда рассуждала насчет «молниеносного выздоровления» царя Ивана (Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений середины XVI века. С. 129). Впрочем, в другой раз она говорит, что болезнь царя «длилась долго». — Там же. С. 125. 555 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. 556 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 168 (прим. 161). 557 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. 558 Там же. 559 См., напр.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. М., 1990. С. 434; Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. Л… 1990. С. 189; 2) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 246; 3) Корона и крест: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. С. 241. 560 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. 561 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 129. 562 У Ивана IV не было причин для душевных потрясений. Сложности и неудачи в переговорах с польско-литовской стороной, на которые указывает А. Л. Хорошкевич в подтверждение своей искусственной догадки, совершенно несопоставимы с «казанским взятием» и рождением наследника, переполнявшими радостью душу царя. Сравнительно с этим все остальное на тот момент для него было не столь значимо. 563 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1956. С. 385. 564 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 25, 57, 73. 565 Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений середины XVI века. С. 123. 566 Смертельная болезнь, по В. И. Далю, безусловно смерть причиняющая, лишающая жизни. — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 234. 567 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 335. 568 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 110. Страницей ниже Р. Г. Скрынников говорит об «умирающем царе», допуская, как и А. Л. Хорошкевич, лексическую, так сказать, неряшливость: умирающий царь не умер. Слово «умирающий» происходит от умирать, т. е. помирать, кончать земную жизнь. — См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 492. 569 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. 570 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126. 571 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 112; 2) Иван Грозный. М., 2002. С.70. 572 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 14–15. 573 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 49. 574 Можно, впрочем, и так, как у И. Грали: «Иван с трудом узнавал окружающих». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. 575 Ср.: Там же. Нельзя согласиться и с Б. Н. Флорей, толкующим фразу «мало и людей знаяше» так, будто царь Иван «часто находился в беспамятстве». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. 576 См.: Колесникова В. С. Краткая энциклопедия православия. Пусть к храму. М., 2001. С. 258. 577 Храм Божий и церковные службы. СПб., 1912. С. 57. 578 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1993. С. 246. 579 Там же. 580 См.: Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Сентябрь. М., 1903. С. 7 (прим. 3). 581 Скрынников Р. Г. 1)Начало опричнины. С. 102, 103, 104; 2) Иван Грозный. М., 1975. С. 52. 582 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78–79. 583 ПСРЛ. T.XIII. Продолжение. С. 523. 584 Там же. Присяга на имя Дмитрия людей «ближнего круга» состоялась, судя по всему, несколько дней спустя после начала болезни Ивана IV, во всяком случае, не 11 марта, как полагают некоторые исследователи. — См., напр.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 110; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. 585 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 112; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 69. 586 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348. 587 С. В. Бахрушин усматривал в ней простую осторожность. «Алексей Адашев, — говорил историк, — держался очень осторожно во время «мятежа» и «шума» во дворце» (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294). Нам, однако же, эта пассивность напоминает поведение человека, запустившего механизм и наблюдающего со стороны за тем, как он действует. 588 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 511. 589 И. Граля видит в этом маневрировании князя Палецкого «классический пример страховки на случай любого поворота событий» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 99–100). По мнению же А. Л. Хорошкевич, действия Палецкого отчасти определялись «его родственными связями: он, с одной стороны, был тестем царского брата Юрия и, с другой, дальним родственником — через Бороздиных и Хованских — Владимира Старицкого» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126). 590 См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78. 591 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. 592 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31. 593 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 511. 594 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 348. 595 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. 596 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 191. 597 Б. Н. Флоря справедливо заметил, что детей боярских, т. е. военных вассалов, Владимир и Ефросинья призвали в Москву «с территории своего Старицкого княжества». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 70. 598 О заговоре Старицких пишет и Р. Г. Скрынников. — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 92. 599 По словам И. Грали, во время болезни Ивана «противники царевича Дмитрия вступили в тайные отношения с претендентом, обещая поддержать его кандидатуру…» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С.94). Думается, это произошло не на один год раньше. Болезнь царя лишь активизировала данные «отношения с претендентом». 600 СГГиД. 4.1. М., 1813.С. 466. 601 «Старицкие, — говорит Р. Г. Скрынников, — пытались использовать благоприятную ситуацию и втайне готовились захватить власть». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 92. 602 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 268; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 79. 603 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С.92. В книге «Царство террора», изданной много позже, Р. Г. Скрынников убрал идею о заговоре Старицких и несколько приглушил мысль о затеваемом ими перевороте. Оказывается, Владимира Старицкого «заподозрили в подготовке военного переворота, что удостоверено записями 1554 г.» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 109). И уж вовсе далекое от действительности объяснение сбора детей боярских князем Владимиром и княгиней Евфросиньей приводит Б. Н. Флоря: «Старицкий князь, конечно, знал, что сразу после смерти Василия III Боярская дума арестовала и заключила в тюрьму его дядю, брата великого князя Юрия, опасаясь его притязаний на трон в малолетство наследника, и мог поэтому принимать меры по обеспечению своей безопасности с помощью военных слуг». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 70. 604 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523–524. 605 Там же. С. 524. 606 Там же. С. Б. Веселовский по какой-то причине перепутал последовательность описанных в интерполяции событий. Он писал: «Мысль привести кн. Владимира ко кресту царевичу Дмитрию возникла у приближенных царя в первый же день, но распри бояр, по-видимому, заставили отложить это дело. «А как привел государь бояр к целованию, и государь велел записати запись целовалную, на чем приводити к целованию кн. Володимира Ондреевича». На отказ кн. Владимира присягать царь будто бы сказал: «То ведаешь сам: коли не хочешь креста целовати, то на твоей душе; што ся станет, мне до того дела нет». После этой угрозы царь удалился в свои покои, приказав боярам действовать без него. Бояре заявили князю, что они не выпустят его, пока он не поцелует крест. «И едва князя Володимира принудили крест целовати, и целовал крест поневоле». Кн. Евфросинья отказалась привесить свою печать к записи сына, со словами: «Что то де за целование, коли неволное? и много речей бранных говорила. И оттоле быть вражда велия государю с князем Володимером Ондреевичем, а в боярех смута и мятеж». Создавшееся положение грозило старицким князьям «нятством» и смертью в тюрьме, и только тут выступил Сильвестр…» (Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С.284). Сильвестр, как следует из приписки к Царственной книге, выступил после того, как ближние бояре «часто не почали пущати» Владимира Старицкого к больному Ивану, т. е. раньше, чем это изображает С. Б. Веселовский. Кроме того, исследователь небрежно излагает мартовские события 1553 года, в результате чего в его изложение вкрадываются отдельные неточности, странные для историка, пользующегося репутацией тонкого источниковеда. Так, целование креста Владимиром Старицким пришлось отложить не из-за боярских распрей, а по причине, прежде всего, отказа большинства бояр присягать царевичу Дмитрию, вызвавшего столкновение Боярской Думы с Ближней Думой. Когда Дума была приведена к присяге, настал черед и князя Старицкого. Далее, княгиня Евфросинья отказывалась привесить к целовальной грамоте не свою, но, как в источнике сказано, княжую печать, т. е. печать кн. Владимира, хранимую старицкой княгиней. К сожалению, уже во время издания документа в начале XIX века на этой восковой печати, привешенной к грамоте «на шелковом малиновом снурке», «за растеплением воску никакого изображения на оной видеть не можно). — СГГиД. 4. 1. С. 461. 607 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 284. 608 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 285, 286. 609 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 104. 610 Там же. С. 94. 611 Следует согласиться с А. Л. Дворкиным, когда он говорит: «Крайняя осторожность и смирение Сильвестра позволяли ему всегда оставаться в тени, не занимая никакого официального положения при дворе, поэтому его истинная роль и не могла быть заметна большинству современников. Громадное влияние Сильвестра заключалось в том, что он был одним из главных идеологов политики Избранной Рады и духовным вождем ее участников» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. Нижний Новгород, 2005. С. 74). Тут все, на наш взгляд, верно, за исключением смирения Сильвестра, чье активное вмешательство в мирские дела свидетельствует об обратном. 612 А. Л. Дворкин старается изобразить Сильвестра в мартовских событиях 1552 года некой «овечкой». Оказывается, Сильвестр «лишь спросил» бояр, «может ли двоюродный брат царя, князь Владимир Старицкий, повидать больного» (Там же. С. 119). Неизвестно только, откуда историк почерпнул такого рода сведения. 613 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 3. М., 1976. С. 50. 614 Ср.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 283–285. 615 Смирнов И. И. Очерки… С. 272 (прим. 21). 616 Там же. С. 271. 617 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. 618 Там же. 619 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 349. Аналогичным образом рассуждает новейший исследователь А. И. Филюшкин. — Филюшкин А. И. История одной мистификации… С.79. 620 Смирнов И. И. Очерки… С. 272. 621 Там же (прим. 21). 622 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 411. См. также: Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 70. 623 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 93–94. 624 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111. 625 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 48–49. 626 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. 627 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94–95. 628 Там же. С. 102. 629 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 102. 630 А. Л. Хорошкевич должна была бы сказать: так полагают Р. Г. Скрынников и И. Граля. 631 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126. В книге, написанной в соавторстве с А. А. Зиминым, А. Л. Хорошкевич придерживалась несколько иного взгляда, полагая, что И. М. Шуйский «хотел уклониться» от присяги. — Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 70. 632 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. 633 Там же. 634 Шуйский вообще обошел молчанием проблему взаимоотношений старших и молодых бояр. Поэтому рассуждения Р. Г. Скрынникова, будто Иван Шуйский был недоволен тем, что руководить церемонией присяги поручили не ему, а молодому боярину Воротынскому, повисают в воздухе. 635 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. 636 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 511. 637 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. М., 1990. С. 434. 638 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 65. 639 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 348. 640 Смирнов И. И. Очерки… С. 271. 641 Там же. 642 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. 643 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 411. «Отец Алексея Адашева окольничий Ф. Г. Адашев хотя и принес присягу, но сделал при этом оговорку…» — читаем в книге А. А. Зимина, вышедшей посмертно и в соавторстве с А. Л. Хорошкевич (Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 71). Текст, как видим, несколько изменен (наверное, А. Л. Хорошкевич), причем не лучшим образом — с неточностями. 644 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 413. 645 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 53. Во-первых, Федор Адашев являелся тогда окольничим, а не боярином. Во-вторых, когда он выражал свои «сомнения», он еще не поцеловал крест царевичу Дмитрию. В-третьих, он не делился сомнениями, а высказал свое твердое неприятие Захарьиных в качестве регентов при малолетнем Дмитрии. 646 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 282. 647 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 94. 648 Там же. 649 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 49. 650 См. также: Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. С. 242; 2) Крест и корона… С. 239. 651 Эту нелепость повторяет А. Л. Дворкин. «Адашев заявил, что «целует крест» наследнику, но не Захарьиным», — пишет он. — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. 652 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111–112. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. 653 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 112. Эта концовка выглядит иначе в книге 2002 года об Иване Грозном: «Адашев старший недвусмысленно высказался за присягу законному наследнику, но при этом выразил недоверие Захарьиным. Выступление Федора Адашева отличалось большой откровенностью». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. 654 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 95. 655 Там же. С. 102. 656 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 191. 657 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 284. 658 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. 659 Там же. С. 524. 660 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 271. 661 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. 662 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412–413. 663 Вот почему в высшей степени проблематичным является утверждение А. Л. Дворкина о том, что никто из бояр «не отказывался от крестного целования наследнику, в том числе и те, кого беспокоило усиление Захарьиных-Юрьевых». — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. 664 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 665 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 93. 666 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 71. 667 Смирнов И. И. Очерки… С.264. 668 Там же. С. 268. 669 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 277–278. 670 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 280. 671 Там же. С. 281. 672 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 334, 335. 673 Там же. С. 335. 674 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 244. 675 Смирнов И. И. Очерки… С. 275. 676 Там же. С. 275–276. 677 Там же. С. 276. 678 Там же. 679 Там же. С. 276–277. 680 Смирнов И. И. Очерки… С. 277. 681 Недавно она была в некотором роде воспроизведена В. В. Шапошником: «Было и еще одно, что не может не броситься в глаза, — в рассказе о царской болезни ни словом не упоминается митрополит Макарий — один из виднейших деятелей правительства того времени. Предположить, что он просто не присутствовал при бурных событиях, невозможно: тяжелая болезнь правителя не могла обойтись без присутствия первоиерарха Русской церкви. Вполне вероятно, что и Макарий оказался не в числе сторонников кандидатуры царевича Дмитрия. Просто авторы приписок к летописи не сочли нужным упоминать об этом неприятном для царя факте. О позиции Макария говорит позиция его ставленника Сильвестра». — Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 194. 682 Андреев Н. Е. Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного // ТОДРЛ. Т. 18. М.-Л., 1962. С. 129. 683 Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 37. 684 Там же. С. 37–38. 685 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 98. 686 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 51. 687 Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 186–187; 2) Государство и церковь на Руси… С. 243; 3) Царство террора. С. 113; 4) Крест и корона… С. 239. 688 Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 188; 2) Государство и церковь на Руси… С. 245; 3) Царство террора. С. 113; 3) Крест и корона… С. 240. 689 Скрынников Р. Г. 1) Святители власти. С. 189; 2) Государство и церковь на Руси… С. 246; 3) Крест и корона… С. 241. 690 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 114. 691 Там же. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 189–190; 2) Государство и церковь на Руси… С. 246; 3) Крест и корона… С. 241. 692 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524, 525. 693 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 298. 694 Аз грешный вам известих желание свое о пострижении». — Послания Ивана Грозного. СПб., 2005. С. 164. 695 Там же. 696 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 74. 697 Надо сказать, что творческая изобретательность Р. Г. Скрынникова не оскудевает. Недавно он предложил новую версию умолчания имени митрополита Макария в мартовских событиях 1553 года. Ему, наконец, стало «понятным замечание Курбского о том, что Сильвестру удалось отогнать от царя Ивана «ласкателей» после того, как он «присовокупляет себе в помощь архиерея онаго великаго града» Москвы, иначе говоря, митрополита Макария. Вот причина, почему Грозный ни словом не обмолвился о Макарии в своем отчете о кризисе 1553 г. Смертельная болезнь государя [почему не умер, коль смертельная!] и династический кризис выдвинули фигуру митрополита на первый план. Если монарх в своем отчете о «мятеже» вообще не упомянул имени Макария, то лишь потому, что щадил его память. Он не стал обвинять пастыря церкви в том, в чем обвинял «изменных бояр», а именно во вражде к Захарьиным» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 86). 698 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 137, 186 (прим. 326). 699 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 137–138. 700 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 281. 701 На это обратил внимание Р. Г. Скрынников, но не сделал из этого никаких выводов. — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 113. 702 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 112. «Центральное место в «Сказании о мятеже», — пишет в другой своей книге Р. Г. Скрынников, — занимают царские речи, произнесенные в день «мятежа» в Думе. Сочинение вымышленных речей, соответствующих характеру героя, отвечало издавна сложившимся канонам летописания. Речи «Сказания» не были исключением. Но их своеобразие заключалось в том, что царские речи были сочинены не летописцем, а самим государем» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002, С. 135). Однако, коль Иван — не летописец, а государь, то незачем ему приписывать исполнение «канонов летописания», тем более что он воспроизводил не чужие слова, как это делали летописцы, а собственные. Вопрос, следовательно, в том, насколько хорошо царь запомнил собою сказанное и насколько точно передавал его. Мартовские события 1553 года, памятные своим драматизмом, стали к тому же поворотными в отношении царя Ивана к Сильвестру и Адашеву. Иван IV прекрасно помнил о том, что тогда с ним приключилось, помнил как по причине экстраординарности произошедшего, так и благодаря своей феноменальной памяти, поражавшей современников. — См.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 125. 703 Некоторые историки «зациклились», что называется, именно на речах. — См., напр.: Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV…; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 79; Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. 704 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. 705 Так, собственно, и поступает А. Л. Хорошкевич, для которой «бурная активность» Ивана, в том числе его неоднократные речи, служат признаком душевного смятения, нежели настоящей болезни. — См.: Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 37. 706 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 273. 707 Здесь лежит и наш ответ Р. Г. Скрынникову относительно того, был ли у Ивана повод «для «жестокого слова» и отчаянных призывов». 708 Смирнов И. И. Очерки… С. 273–274. 709 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. 710 Смирнов И. И. Очерки… С. 274. 711 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. 712 СГГиД. 4. I. С. 460. 713 См.: Там же. С. 461. В крестоцеловальных грамотах на имя царя Ивана и царевича Ивана (апрель и май 1554 г.) эта подпись наличествует. — Там же. С. 464, 468. 714 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. 715 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525–526. 716 Иван не мог забыть формулу присяги на имя царевича Дмитрия, поскольку сам настаивал на ней. О том, что он помнил об этой формуле, свидетельствует рассказ Царственной книги, принадлежащий, по всему вероятию, самому царю: «Да государю же сказывал околничей Лев Андреевич Салтыков, што говорил ему, едучи на площади, боярин князь Дмитрей Иванович Немово: «Бог то знает: нас де бояре приводят к целованию, а сами креста не целовали…» (ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525). Слова недовольного боярина могут показаться странными, поскольку бояре, о которых он говорил, будто они «креста не целовали», в действительности крест целовали, когда их «въ вечеру» приводил к присяге на «княже-Дмитриево имя» сам царь Иван. По мнению Р. Г. Скрынникова, Д.И.Немого-Оболенский «негодовал на то, что регенты принесли присягу не на общем заседании Боярской думы на глазах у всех, а за спиной Думы, на день раньше» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111). Догадка Р. Г. Скрынникова не имеет под собой никаких оснований, так как Д.И.Немого-Оболенский вообще отрицает принесение присяги ближними боярами. Это следует понимать, на наш взгляд, только так, что Боярская Дума присягала на иной формуле (на имя государя и его сына), чем Ближняя Дума (на имя царевича Дмитрия), вследствие чего присяга ближних бояр теряла силу и, значит, ее как бы и не было. Тогда становится понятно, почему Д.И.Немого упрекал ближних бояр в том, что они «креста не целовали». 717 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. 718 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 275 (прим. 30). 719 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 5 720 Там же. 721 Там же. 722 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412. 723 Смирнов И. И. Очерки… С. 275. Автор еще раз подчеркивает, что летописный текст, относящийся к истории с целованием креста Владимиром Старицким, нужно толковать «не в плане угрозы Владимиру Старицкому заключением в тюрьму, а именно как угрозу смертью». — Там же. С. 275 (прим. 30). 724 ПСРЛ. Т. XIII. С. 526. 725 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 128. 726 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М„1988. С. 94–95. 727 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 526. 728 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 710 (прим. 90). 729 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.С. 191. 730 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 238. 731 Там же. 732 Временник Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С. 23. 733 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 237. 734 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 11. С. 535. 735 Там же. С. 535. 736 См.: «Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе» // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С. 46–47. 737 Новое о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Л., 1934. С. 48. 738 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к IX тому. М., 1989. Стб. 63 (прим. 277); Устрялов Н. Примечания // Сказания князя Курбского. СПб., 1868. С. 324 (прим. 140). 739 См.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. 740 См., напр.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. III. С. 302; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 290; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 119; Скрынников Р. Г. 1) Опричный террор. Л., 1969. С. 22; 2) Царство террора. С. 356; Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 78; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. 741 ЧОИДР. 1859. Кн. III. С. 95. 742 Здесь Н. М. Карамзин, сбиваясь на версию Курбского (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 420), расходится с Таубе и Крузе, говорившими о двух дочерях и двух сыновьях. — См.: Устрялов Н. Примечания. С. 323. 743 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III, т. IX. М… 1989. Стб. 83–84. 744 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 420. 745 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к IX тому. Стб. 63 (прим. 277). 746 См.: Устрялов Н. Примечания. С. 325; Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. Вып. I. М., 1960. С. 59; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., [964. С. 290–292; Скрынников Р. Г. 1) Опричный террор. С. 22; 2) Царство террора. С. 356; Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 78; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. В безымянной статье о Владимире Старицком, помещенной в «Советской исторической энциклопедии», говорится, что в октябре 1569 года Владимир Андреевич Старицкий «был казнен вместе с женой и младшими детьми (два сына и две дочери)…» (Советская историческая энциклопедия. 3. М., 1963. Стб. 524). Автор энциклопедической статьи тут следовал за Таубе и Крузе. 747 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 292. А. А. Зимин, следовательно, насчитал у Старицкого троих детей: сына и двух дочерей. По Р. Г. Скрынникову, у Владимира Старицкого детей было четверо — сын Василий, две дочери от первого брака и одна дочь от второго брака, казненная вместе с отцом и матерью «на Богане». — См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 149; М., 2002. С. 251. 748 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к X тому. Стб. 31 (прим. 152); Устрялов Н. Примечания. С. 325 (прим. 142). 749 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 56; 2) Опричный террор. С. 24; 3) Царство террора. С. 38, 356. 750 «Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе». С. 46. 751 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 149; М., 2002. С. 250–251. 752 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. 753 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 777. 754 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.-Л., 1950. С. 480. 755 Р. Г. Скрынников утверждает: «В розыскном деле о новгородской измене, хранившемся в царском архиве, значилось, что Владимир Андреевич с единомышленниками «хотели злым умышлением извести» царя и великого князя Ивана Васильевича» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 356). Автор здесь допускает очередную неточность. В розыскном деле говорилось, что «извести» государя хотели архиепископ Пимен с новгородцами и московские бояре с приказными людьми, а не «Владимир Андреевич с единомышленниками». Что же касается Владимира Старицкого, то его злоумышленники намеревались «на государство посадити». 756 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 289–290. 757 Те же, по-видимому, недоброжелатели распространили слух о том, что Марию отравил сам царь, о чем заявляет Пискаревский летописец: «Да тогда же опоил царицу Марью Черкаскову» (ПСРЛ. Т. 34. С.191). Подобная версия присутствует в исторических песнях, где, впрочем, отравление Марии связывается с ее собственным желанием умертвить своего мужа (см.: Шамбинаго С. К. Песни времени царя Ивана Грозного. Сергиев Посад, 1914. С. 56–57). Существует еще одна версия, согласно которой Иван велел постричь Марию и отправить ее в монастырь. — Горсей Джером. Записки о России. XVI — начало XVII в. М., 1990. С. 55. 758 ААЭ. Т. I. С. 329. 759 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 431. Ср.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 209. 760 ААЭ. Т. I. С. 329. 761 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. 762 Штаден Генрих. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 100. 763 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 94. 764 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 207; М., 2002. С. 430. 765 См.: Панова Т. Химия уточняет историю. Жена Ивана Грозного царица Анастасия была отравлена — это подтвердил химический анализ, проведенный в наше время // Наука и жизнь. 1997, № 4. С. 82–86. 766 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 290. 767 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 292–293. 768 У А. Л. Дворкина не вяжутся концы с концами, когда он говорит, что Сильвестр и Адашев придерживались «неустойчивого нейтралитета, явно желая воцарения их друга, князя Владимира Старицкого» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 118). Явное желание воцарения друга и нейтралитет, пусть даже неустойчивый, совместить, на наш взгляд, невозможно. 769 По словам С. Б. Веселовского, «смута, мятеж и распри… продолжались не менее двух недель и закончились тогда, когда царь вполне поправился и опасность его смерти миновала». — Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 285. 770 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 282. 771 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. 772 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 773 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 774 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. Ср.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 775 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. 776 Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV–XVII вв. М., 1969. С.100. 777 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 81–82. 778 Там же. С. 82. 779 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года… С. 280. Сходную логику демонстрирует А. Л. Дворкин. «Зная характер Грозного, — говорит он, — трудно поверить, что он (Грозный. — И.Ф.), потеряв доверие к ближайшим друзьям и советникам, мог терпеть их у власти еще семь-девять лет. Напротив, известно, что сразу же по выздоровлении он пожаловал Алексея Адашева чином окольничего, а его отца сделал боярином; князь же Владимир Старицкий был объявлен правителем государства и опекуном наследника в случае Ивановой смерти». — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. 780 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года… С. 283, 285, 288. 781 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. II. Т. VIII. М., 1989. Стб. 129–130. 782 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 512. 783 Там же. 784 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. 785 Полевой H. А. История русского народа: В трех томах. Т. III. М., 1997. С. 459–460. 786 Устрялов Н. Примечания. С. 322 (прим. 140). 787 Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 143. 788 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 230–231. 789 Там же. С. 231–232. 790 Там же. С. 232. 791 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 481. 792 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. М., 1958. С. 38; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 22; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 30. 793 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 360. 794 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины, С. 482. 795 См.: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 44. 796 См.: Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. СПб., 1904. С. 158; Зимин А. А. Когда Курбский написал «Историю о великом князя Московском»? // ТОДРЛ. Т. XVIII. М.; Л., 1962. С. 306; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 39. 797 См.: Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С.22; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 30. 798 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. Подобно Курбскому, винят Ивана в гибели Дмитрия и некоторые современные историки. — См., напр.: Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 179. 799 Библиотека Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. 800 Там же. 801 Максима Грека князь Курбский сам называл своим «превозлюбленным учителем». — Там же. С. 564. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 73; Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 138, 143. 802 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 352. 803 Там же. 804 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 352. 805 Там же. С. 352, 354. 806 Там же. С. 354. 807 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 98–99. 808 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116. 809 Там же. 810 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. 811 Там же. С. 354, 356, 358, 360. См. также: Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. С. 515; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 73. Р. Г. Скрынников повторил эту неточность и в новейшей своей книге, утверждая, что инок Вассиан находился в Кириллове (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116). Впрочем, ради справедливости надо сказать, что не только Р. Г. Скрынников заслуживает здесь упрека. С. В. Бахрушин, например, также говорил, что Иван IV, посетив в 1553 году Кирилло-Белозерский монастырь, «зашел к проживавшему там бывшему епископу коломенскому Вассиану Топоркову». — Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 293. 812 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 73. 813 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 482. 814 Там же. 815 Там же. 816 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. 817 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 74. 818 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 482. 819 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 415. В совместной работе с А. Л. Хорошкевич историк говорит, что царевич просто умер: «В июне 1553 г. во время поездки Ивана IV на богомолье царевич Дмитрий умер». — Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 71. 820 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. 821 Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 121. 822 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 80. 823 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 103. 824 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. См. также: Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений России середины XVI века // История СССР. 1976, № 3. С. 82–83, 87–97; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 82. 825 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. 826 Там же. 827 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. 828 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 117. 829 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. 830 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. 831 1) Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 106; 2) Царство террора. С. 115. Ср.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 117; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 139. 832 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. 833 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237, 238. 834 Там же. С. 238 (прим. 1). 835 Там же. С. 238. 836 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 80. 837 ПСРЛ. Т. XIII. С. 238. 838 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. 839 ПСРЛ. Т. XIII. С. 237, 238. 840 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. 841 Выступления кн. И. М. Шуйского и Ф. Г. Адашева, означавшие прямой призыв к Боярской думе перейти на сторону Владимира Старицкого, — говорит И. И. Смирнов, — вызвали бурную реакцию со стороны боярства…». — Смирнов И. И. Очерки… С. 272. Ср.: Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. 842 См. Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. 843 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412–413. 844 Там же. С. 413. 845 См.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. 846 Уместно еще раз напомнить слова из ранней книги Р. Г. Скрынникова относительно интерполяций Синодального списка и Царственной книги: «Летописные приписки имеют один общий сюжет — заговор, организованный боярами во время болезни царя в марте 1553 года. Сведения, касающиеся этого сюжета, не противоречат друг другу, а напротив, почти полностью совпадают». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30. 847 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 268. 848 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 116–117; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 72. 849 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. 850 Там же. С. 116. 851 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. 852 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. 853 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 453. 854 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 238. 855 Там же. 856 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 108; 2) Царство террора. С. 119; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 73. 857 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. 858 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 108; 2) Царство террора. С. 119; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 72–73. 859 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 107. 860 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 80. 861 Там же. С. 81. 862 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 246–247. 863 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 269–270. 864 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 212. 865 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 214–215. 866 См.: Веселовский С. Б. Последние уделы в северо-восточной Руси // Исторические записки. Т. 22. 1947. С. 106; Альшиц Д. Н. 1) Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. 1947. С. 285–286; 2) Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 266; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М… 1964. С. 71–72; Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия… С. 205–210. Ср.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 28–32; 2) Царство террора. С. 25–29. 867 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 274; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 32. 868 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. 869 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 275–278. 870 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 211. 871 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 872 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 71. 873 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 52. 874 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. 875 Там же. 72. 876 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 115. 877 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 103. 878 Там же. 879 Этим, по-видимому, объясняется активное участие в мартовской политической интриге князя И. М. Шуйского. Успех Владимира Старицкого подавал роду Шуйских-Рюриковичей заманчивые надежды на будущее, которым суждено было осуществиться лишь во времена Смуты при необычных обстоятельствах пресечения династии великих князей Московского дома. 880 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 109. 881 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 25. 882 Там же. С. 135. 883 Королюк В. Д. Ливонская война. Из истории внешней политики Русского Централизованного государства во второй половине XVI в. М., 1954. С. 29. 884 Там же. 885 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 556 886 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 235. 887 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 90. 888 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. 889 Там же. 890 Там же. С. 417. 891 «И придет воля Божия над тобою Государем нашим: и мне Князю Володимеру Ондреевичу, по твоей Государя моего душевной грамоте, держати сына твоего Царевича Ивана в твое место Государя своего…». — СГГиД. 4.1. С. 463, 465. 892 Там же. С. 460–461. 893 Альшиц Д. Н. Крестоцеловальные записи Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // История СССР. 1959, № 4. С. 148–149. 894 Власть и реформы… С. 78. Здесь все верно, за исключением, пожалуй, слова «амбиции», неуместного в данном случае. 895 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… М., 1998. С. 106. 896 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 70. 897 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 71. 898 Там же. С. 71–72. 899 Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. М., 1963. С. 69. 900 Там же. С. 70. 901 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. М., 1955. С. 370. См. также: История СССР. С древнейших времен до наших дней. Т. II. М., 1966. С. 181. 902 Власть и реформы… С. 78. 903 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 203–204. 904 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 204. 905 Там же. С. 205. 906 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 35–36. 907 Там же. С. 36. 908 См.: Пашуто В. Т. 1) Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век). М., 1956. С. 92–118, 133–146; 2) Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 226–241. 909 С. О. Шмидт полагает, что «и накануне Ливонской войны, и в ее первые годы руководитель внешней политики Российского государства Адашев отнюдь не был противником активизации борьбы за выход России к Балтийскому морю, и само назначение воеводой на фронт военных действий не воспринималось первоначально как опала» (Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 247). И. В. Курукин, ученик С. О. Шмидта, в свою очередь, считает, что и Сильвестр не являлся противником войны на западных рубежах России (см.: Курукин И. В. К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности правительства А. Ф. Адашева и Сильвестра // Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981). У нас нет оснований, чтобы согласиться с этими положениями С. О. Шмидта и И. В. Курукина. Традиционная точка зрения насчет позиции Сильвестра и Адашева в ливонском вопросе нам представляется более обоснованной, чем взгляд С. О. Шмидта и И. В. Курукина, противоречащий как отечественным, так и зарубежным источникам. К числу последних принадлежит дневник и отчет дипломата Томаса Хорнера. Их анализ, проделанный шведским историком Свенссоном, убеждает в отрицательном отношении Адашева к войне в Ливонии. Даже первый поход в Ливонию «не положил конец дипломатическим переговорам и стремлениям А. Адашева добиться мирного исхода конфликта» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 472–474). Противоречивые суждения по вопросу об отношении Алексея Адашева к Ливонской войне высказывает Р. Г. Скрынников. В своей недавней книге об Иване Грозном он заявляет, что Адашев и его окружение не были противниками войны в Ливонии (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 103, 104). В первом издании той же книги он утверждает иное: «В московском правительстве образовались две партии: Адашев настаивал на продолжении активной восточной политики и снаряжал экспедиции против Крыма, а его противники выступали за войну с Ливонией». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 128–137. 910 Р. Г. Скрынников вслед за другими историками говорит: «Планы Ливонской войны получили поддержку со стороны московского дворянства» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66). Но однозначные решения здесь вряд ли плодотворны. 911 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. 912 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 287. См. также: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 218; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206, 208. 913 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. 914 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 37 (прим. 67); Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. 915 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 77. 916 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. 917 Там же. 918 См.: Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989.С. 486; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. 919 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 290. 920 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 205. 921 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38, 86. 922 Там же. 923 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 36. 924 Там же. 925 Там же. С. 36, 37. 926 Флоря Б. Н. Проект антитурецкой коалиции середины XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. С. 76–77. 927 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 128. 928 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 218. 929 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 210. 930 Там же. С. 209. 931 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38, 86. 932 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. 933 Там же. С. 207. 934 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 210. 935 Там же. 936 Там же. С. 207. 937 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 145. 938 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 38. 939 Там же. С. 39. 940 Там же. С. 39–40. 941 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 40. 942 Там же. С. 41. 943 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 133. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66. 944 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 224. 945 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 41. Аналогичным образом рассуждают и такие выдающиеся исследователи эпохи Ивана Грозного, как С. Ф. Платонов, А. А. Зимин и Р. Г. Скрынников. «Ливонцы, — говорит С. Ф. Платонов, — воспользовались перемирием для того, чтобы найти покровителей и союзников против Москвы» (Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 73). По словам А. А. Зимина, ««прекословие» Адашева по вопросу о целесообразности Ливонской войны дорого стоило России: получив в 1559 г. благодаря заключению перемирия передышку, ливонские рыцари втянули в конфликт польского короля Сигизмунда II Августа…» (Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 81. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960. С. 474; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 94–95). «Рыцари использовали перемирие, предоставленное им Москвой для сбора военных сил», — пишет Р. Г. Скрынников. — Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 67; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 105. 946 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. 947 Там же. 948 Там же. С. 14. 949 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 44. 950 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 234. 951 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 134. «Магистр Кетлер, — пишет Р. Г. Скрынников в другой своей работе, — подписал договор с литовцами. Орден перешел под патронат Литвы и Польши. Договор круто изменил ход Ливонской войны… Конфликт с Ливонией стремительно перерастал в более широкий вооруженный конфликт с Литвой и Польшей в тот самый момент, когда Россия ввязалась в войну с Крымским ханством». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 67. 952 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 43. 953 С. Ф. Платонов отмечал, что против Москвы стали Швеция, Дания, Речь Посполитая, «а за ними император и вообще Германия». — Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 72. 954 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. 955 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 132. 956 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 104. 957 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 294–295. 958 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 45. 959 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 134. 960 В. Б. Кобрин пытался снять с Адашева ответственность за предательское перемирие с Орденом в 1559 году и возложить ее на Ивана IV. Историк писал: «Иван Грозный впоследствии обвинял Адашева в том, что по его инициативе было заключено перемирие с Ливонским орденом, которое дало противнику возможность оправиться от поражений. Когда результаты известны, всегда легко обвинить в злонамеренности того, кто совершил ошибку. Еще легче и приятнее списать свою ошибку на другого: ведь перемирие не могло быть заключено без санкции царя, а он был мастером перекладывать ответственность на чужие плечи» (Кобрин В. Д. Иван Грозный. М., 1989. С. 54–55). Думается, психологические мотивы здесь неуместны. Следует, прежде всего, исходить из реальной позиции и политики Адашева. А он вместе с Сильвестром, как мы знаем, являлся стойким противником войны с Орденом в частности и с Западом вообще, в чем сказывались прозападные симпатии того и другого. 961 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 292. 962 Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч.I. М., 1981. С. 48. 963 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 134; 2) Царство террора. С. 132. Иной точки зрения придерживается Б. Н. Флоря. «Благодаря успешным действиям военных отрядов, — говорит он, — Крымская орда оказалась запертой на Крымском полуострове и впервые за много лет сама стала объектом нападений. Как с энтузиазмом записал на страницах официальной летописи Алексей Адашев, «русская сабля в нечестивых жилищах тех по се время кровава не бывала…», а теперь «морем его царское воинство в малых челнех… якоже в кораблех ходяще… на великую орду внезапу нападаше и повоевав и, мстя кров крестианскую поганым, здоруво отъидоша». Войско во главе с Данилой Адашевым, разорив побережье Крыма и освободив «русский» и «литовский» полон, благополучно вернулось на русскую территорию, нанеся серьезные потери орде, пытавшейся задержать его на днепровских переправах. Вернувшиеся из похода в сентябре 1559 года Данила Адашев и Игнатий Вешняков были пожалованы царем за службу». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 131. 964 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 67. 965 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 318–320. 966 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 380. 967 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 132. «Безрезультатность широко задуманного похода Даниила Адашева на Крым в 1559 г., — говорит новейший исследователь, — могла вызвать только раздражение у своенравного монарха». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 81. 968 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 37. 969 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 380. 970 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 134–135. 971 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 292. 972 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 232. 973 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 321. 974 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 106. 975 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33. 976 «Некоторую неуверенность в данном вопросе проявляет А. А. Зимин. Он пишет: «В мае 1560 г. в Ливонию был отправлен Алексей Адашев. Здесь его назначили третьим воеводой большого полка (после князя И. Ф. Мстиславского и М. Я. Морозова) <…>. Трудно сказать, была ли опалой посылка Адашева в войска, но, вероятно, в ней можно увидеть первое предзнаменование царской немилости». — Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 475. 977 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 133. 978 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 285. 979 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 47. 980 Там же. С. 48. 981 Там же. 982 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. 983 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 48. 984 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 227–228. Я. С. Лурье и О. В. Творогов, не отличая «наряд» от «народа», предлагают следующий перевод данного текста: «погубили много нашего народа». — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148. 985 О том, что слово «наряд» обозначало артиллерию, свидетельствует летопись: «приходил маистр къ Ааюсу со многими людми Неметцкими и съ нарядом со многим и, поставя туры, били по городу из наряду»; «из города изъ наряду две пушки розбили»; «наряд прикатя, и учали бити съ утра до обеда и стену до основания розбили», и т. д. — ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 323, 325. См. также: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. С. 228. 986 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 136, 137. См. также: Зутис Я. Я. К вопросу о ливонской политике Ивана IV // Известия АН СССР. Серия истории и философии. Т. IX, № 2. 1952. 987 См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 56–57. 988 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 328. 989 См.: Воронова И., Панова Т. Химик уточняет историю. Жена Ивана Грозного царица Анастасия была отравлена — это подтвердил химический анализ, проведенный в наше время // Наука и жизнь. 1997, № 4. С. 82–86. 990 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. 991 Там же. С. 33. 992 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 134. 993 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 306, 312–313. 994 См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 109. 995 Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. 4.1. С. 82. 996 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 134. Одну из глав своей книги об Иване Грозном историк называет «Отставка Адашева». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. 997 Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. С. 95. 998 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 109. 999 Там же. 1000 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 135. 1001 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. 1002 Следует заметить, что А. Г. Кузьмин чересчур доверял этому рассказу А. М. Курбского и строил на нем своего рода концепцию истории взаимоотношений России с покоряемыми военной силой народами. «Курбский в «Истории», — говорил он, — отмечает, что, будучи в Ливонии, Адашев умел расположить к себе города и народы, так что они сами готовы были пойти «под руку» московского царя. Ранее та же политика была испытана в Поволжье. Для России она стоила недешево: приходилось отнимать у себя, чтобы передать другим. И все же дешевле, чем при лобовом пробивании «окна в Европу». — Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр // Великие государственные деятели России. М., 1996. С. 145. 1003 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. 1004 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181. 1005 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 475 (прим. 7). 1006 Р. Г. Скрынников почему-то испытывает затруднение в истолковании термина «нарядчик» («нарятчик» в транскрипции автора): «Что именно должен был «наряжать» окольничий, неясно» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 110). Другой исследователь, Б. Н. Флоря, вопреки сообщению Пискаревского летописца, утверждает, будто царь велел быть Адашеву в Юрьеве, «не давая ему никакой должности. В «Пискаревском летописце, неизвестный составитель которого записал в начале XVII века рассказы старших современников о времени правления Ивана IV, сохранились припоминания, что Алексей Федорович «бил челом многажды» наместнику Юрьева князю Дмитрию Ивановичу Хилкову, чтобы тот дал ему какую-нибудь должность, но тот «не велел быти», очевидно, потому, что не имел на этот счет никакого приказа от царя. Во всем этом, как представляется, явно проявилось желание царя отстранить своего бывшего ближайшего друга и советника от всякого участия в государственной деятельности» (Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 136). Известия Пискаревского летописца Б. Н. Флоря, как видим, переиначил. 1007 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 327. 1008 Там же. С. 323. 1009 См., напр.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 137. 1010 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 476. 1011 Советская историческая энциклопедия. Т. 1. М., 1961. Стб. 202. 1012 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 145. 1013 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 112. 1014 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 54. 1015 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. 1016 Там же. С. 316. 1017 См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 69. 1018 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 145; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 325; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 135. 1019 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 476. 1020 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 53–54. 1021 Примером здесь может служить Р. Г. Скрынников. В книге «Начало опричнины» он писал: «Сознавая безвыходность положения, Сильвестр объявил царю о том, что намерен уйти на покой в монастырь. Иван не стал удерживать своего старого наставника и отпустил его «благословив» на Белоозеро в Кириллов монастырь» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 138). Немного позднее автор рисует несколько иную картину: «Созванный в Москве собор осудил их (Сильвестра и Адашева. — И.Ф.) как «ведомых» злодеев. Сильвестра перевели в Соловки на вечное поселение» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 69). Недавно Р. Г. Скрынников вернулся «на прежнее»: «Сильвестр, оставшийся в Москве после отъезда Адашева в Ливонию, предпринимал отчаянные попытки предотвратить его отставку. Но успеха не добился. Иван не стал удерживать своего старого наставника и, благословив, отпустил в Кириллов монастырь». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 110. 1022 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 81. 1023 Там же. 1024 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 49–50; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 476; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 325. 1025 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 82. 1026 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1027 Там же. 1028 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 99. 1029 Не случайно Д. Н. Альшиц одному из параграфов своей книги о начале самодержавия в России дал характерное название: «Парламентаризму — нет». — Там же. С. 93–101. 1030 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 470. 1031 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90. 1032 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 471. 1033 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 162. 1034 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 471. 1035 СГГиД. 4. 1, № 172. С. 472. 1036 Там же. С. 471. 1037 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 162 (прим. 4). 1038 Там же. С. 162. 1039 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90. 1040 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 124. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 163. 1041 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 339–340. 1042 СГГиД. Ч. 1, № 177. С. 484–485. 1043 СГГиД. 4. 1, № 177. С. 485. 1044 Там же. С. 476. 1045 Там же. С. 479. 1046 Там же. С. 485–486. 1047 СГГиД. Ч. 1, № 177. С. 486. 1048 В данном случае речь, разумеется, идет не обо всем господствующем классе в целом, а об отдельных его представителях. 1049 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. 1050 Альшиц Д. Н. Начальный этап истории самодержавия // Вопросы истории. 1985, № 9. С. 52. 1051 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 346. 1052 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. 1053 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. 1054 Там же. 1055 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 112. 1056 См., напр.: Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало XVII в. С. 291; Альшиц Д. Н. Начальный этап истории самодержавия. С. 54. 1057 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 82. 1058 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. 1059 Скрынников Р. Г. Царство террора С. 149. 1060 Там же. 1061 См.: СГГиД. Ч. I, № 177. С. 484–485. 1062 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 167 (прим. 56). 1063 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. 1064 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 343. 1065 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. II. СПб., 1865. С. 155. 1066 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 344. 1067 Описи царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 г. М., 1960. С. 50. По свидетельству другого источника, по материалам сыска «измены» Воротынских было составлено «сыскное дело», к сожалению не сохранившееся: «Столп, дело сыскное про князя Михаила да про князя Олександра Воротынских, которова году, того не написано, вверху нет, весь росклеился». — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVII вв. М.-Л., 1950. С. 480. 1068 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 77. 1069 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 151. 1070 Ср.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 144. 1071 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 151. 1072 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. 1073 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150–151. 1074 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 113. 1075 СГГиД. 4. 1, № 178. С. 487–488. Та же формула содержится в поручной записи за бояр, взявших на поруки А. И. Воротынского. — Там же, № 179. С. 490. 1076 Там же, № 189. С. 534. 1077 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 123. 1078 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 344. 1079 Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 129–130. 1080 Описи царского архива и архива Посольского приказа 1614 г. С. 36. 1081 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 152. 1082 А. А. Зимин на основании одной записи из царского архива полагает, что то был Каргопольский монастырь. — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 99. 1083 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 1950. С. 480. 1084 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 153. 1085 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 153. 1086 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 414. 1087 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 113. 1088 Там же. С. 113–114. 1089 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. 1090 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. С. 61. 1091 См.: Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 182; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 159, 162. 1092 См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. 1093 Скрынников Р. Г. 1) Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 56; 2) Иван Грозный. М., 1975. С. 88–89. 1094 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 90. 1095 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 59. 1096 См.: Кунцевич Г. З. Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1914. 4. XIX, кн. 2. С. 284. 1097 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 97. 1098 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 61–62. 1099 Ср.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61–62. 1100 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины… С. 118. 1101 Там же. С. 112–113. См. также: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 143, 144. 1102 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины… С. 122. 1103 Там же. С. 120. 1104 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1105 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 122. См. также: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 147. 1106 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 114. 1107 СГГиД. Ч. 1, № 189. С. 534. 1108 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 301. 1109 Боярин получил грамоту 15 сентября, о чем и сообщил гетману: «Прислал еси к нам лист свой чюхном Андрешом сентября в 15 день». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 70–71. 1110 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 70. 1111 Там же. 1112 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 72–73. 1113 Там же. С. 73. 1114 Там же. С. 85. 1115 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 82. 1116 Там же. С. 71, 73. 1117 Там же. С. 69. 1118 Там же. 1119 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 76. 1120 Там же. С. 75. 1121 Там же. С. 80. 1122 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 80–81. 1123 Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 308. 1124 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 5. С. 76. 1125 Там же. С. 78. 1126 Там же, № 6. С. 120. 1127 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 83. 1128 По словам А. Л. Хорошкевич, «уже осенью 1562 г. царь основательно готовил свой поход на Полоцк» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 308). А. Л. Хорошкевич также замечает, что царь Иван планировал на конец 1562 года «грандиозное наступление на Великое княжество Литовское». — Там же. С. 301. 1129 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 312–313. 1130 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 329. 1131 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 363. 1132 В Посольских книгах несколько иная хронология: «И после того (после взятия Полоцка 15 февраля. — И.Ф.) на шестой день, февраля 20 день, прислали из литовского войска к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитреевичу Белскому и к иным бояром королевская рада…». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. № 7. С. 121. 1133 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 364. 1134 См. также: Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123–124. 1135 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 125. 1136 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 364. В посольских книгах читаем: «И царь и великий князь, по литовской грамоте, войну уняти велел и от Полотцка в далние мест поход отложил; а по литовской раде грамоте велел бояром, князю Ивану Дмитреевичю Белскому и иным бояром своим оттписати от себя грамоту к виленскому воеводе к пану Миколаю Яновичу Радивилу и к воеводе тротцкому Миколаю Юрьевичю и к Григорью Хоткеву, что их для челобитья, государь к иным городом не пошел…». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 124. 1137 А. Л. Хорошкевич замечает, что «именно Боярская дума оказалась инициатором прекращения военных действий» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 339). Это согласуется со сведениями, содержащимися в посольских книгах, где устами бояр говорится о том, что царь Иван принял выгодное для Литвы решение «за нашим челобитьем». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123. 1138 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123. Бояре Даниил Романович и Василий Михайлович Захарьины в тот момент отсутствовали, находясь «для царских справ на Москве». — Там же. С. 126–127. 1139 Там же. С. 127. 1140 Там же. С. 130. 1141 Там же. С. 130–131. 1142 Там же. С. 129. 1143 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 338–339. 1144 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 338. 1145 Там же. С. 339. 1146 См.: Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 57–58. 1147 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 338. 1148 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. № 7. С. 126. 1149 Там же. 1150 Там же. С. 131. 1151 С мыслью А. Л. Хорошкевич о том, что Иван IV обходился без официального царского титула, нельзя согласиться полностью. Со времени венчания на царство в 1547 году царский титул, по верному замечанию В. А. Шарова, «становится официальным атрибутом монарха в России» (Шаров В. А. Опричнина Ивана Грозного: что это такое? // Археографический ежегодник за 2003 год. М., 2004. С. 124). Другое дело — непризнание царского титула Польско-Литовским государством. Однако позиция западного соседа мало что значила во внутриполитической жизни Русии. 1152 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 340. 1153 Потом царь Иван скажет, что согласился заключить перемирие, «свою трудность персоне своей отлагая», т. е. сообразуясь с обстоятельствами. — Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 145. Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 345. 1154 Сборник Русского исторического общества. Т. 71.С. 123. 1155 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13–14. 1156 См.: Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 57. 1157 В исторической литературе высказывались и другие догадки. Так, А. А. Зимин говорил: «Казнь Шаховского и известие об измене Шишкина могли послужить поводом для опалы на князя Андрея Курбского, который 8 марта получил назначение «годовать» в далекий Юрьев» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 102–103). А. А. Зимин не разъясняет, почему эти разноплановые события (казнь Ивана Шаховского и измена Ивана Шишкина) могли так существенно повлиять на судьбу Андрея Курбского. 1158 Иван и впоследствии «полностью возлагал ответственность» за заключение перемирия на бояр (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 345). И в этом он был прав. 1159 Витебская старина. Т. IV. Витебск, 1888. С. 65–66. Эту официальную отписку А. Л. Хорошкевич почему-то уподобляет слухам. — Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 341. 1160 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. См. также: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 472; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 102; Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 178; 2) Царство террора. С. 157; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 341. 1161 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 158. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 179 (прим. 3). 1162 См.: Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 12. С. 235. 1163 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 177; 2) Царство террора. С. 157. 1164 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1165 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 18. С. 466–467. 1166 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 80; М., 2002. С. 128. 1167 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 181. Ср. его же: Царство террора. С. 159. 1168 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 182–183. См. также: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 159. 1169 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 360. 1170 Там же. С. 362. 1171 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 361. 1172 Там же. С. 362. 1173 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 132. 1174 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. 1175 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 344. 1176 В грамоте (ноябрь 1562 г.), отправленной митрополитом Макарием епископу виленскому Валериану и виленскому же воеводе Н. Я. Радзивиллу, читаем: «Что ты князь Валериан бискуп виленский, и ты Миколай Янович Радивил, воевода виленский, присылали к нам паробка своего Семена с грамотою, а в грамоте своей, бьючи челом, писали есте, чтоб мы благочестивому государю, боговенчанному царю, воспоминали, чтоб он с братом своим, с вашим государем, хотел доброго пожитья и миру, и об иных о многих делех государских писали есте; и мы то ваше челобитье выслушали и вразумели гораздо. И вы и преж того многижда есте к нам присылывали посланников своих, и мы всем тем посланником вашим отказывали, что нам до тех дел дела нет, зане мы люди церковные, пасем стадо Христово словесных овец, и строим вещи церковные, а те дела ведают государские бояре и с паны ссылалися; а к прежним митрополитом, к нашим братьям, о таких делех от государя вашего рады присылки не бывало: и вы б и впредь о таких делех нашему смирению не стужали». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 6. С. 101. 1177 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 132. 1178 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. 1179 Там же. 1180 Там же. С. 134. 1181 Там же. С. 132. 1182 Там же. С. 134. 1183 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. 1184 Там же. С. 134. 1185 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 1903. Стб. 1486. 1186 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 139, 140, 142. См. также: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 367. 1187 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 143. 1188 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 367. 1189 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 132. 1190 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 149, 150, 151. 1191 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 182–183; 2) Царство террора. С. 160. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 126–127. 1192 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 365. 1193 Там же. С. 368. 1194 Там же. 1195 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 467. 1196 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. 1197 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148. 1198 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 183. 1199 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1200 О том, что эти амбиции имели место, говорят конкретные факты. Так, в 1560/61 г. княгиня Ефросинья пожертвовала Троице-Сергиеву монастырю плащаницу, на правой стороне которой была выткана «надпись, гласившая, что «сии воздух» сделан «повелением благоверного государя князя Владимера Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича, правнука великого князя Василия Васильевича Темного» (Маясова H. А. Мастерская художественного шитья князей Старицких // Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 51). Мечты о высшей власти не оставляли Владимира Старицкого и после летних событий 1563 года. На другой плащанице, пожертвованной в Кирилло-Белозерский монастырь, значится надпись: «Повелением благоверного князя Владимира Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича» (Там же. С. 56). По поводу данных фактов А. А. Зимин пишет: «Напоминая таким образом о своем происхождении от великих князей Василия II и Ивана III, старицкий князь тем самым недвусмысленно заявлял свои права на наследование московского престола: он, так же как и Иван IV, был внуком Ивана III, а прецедент коронации внука великого князя существовал уже с 1498 г.». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 104. 1201 По словам А. А. Зимина, «наиболее преданные князю Владимиру бояре, дети боярские и дьяки переведены были в государев двор, а к старицкому князю приставлены царские бояре и дворовые люди». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. 1202 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 160. 1203 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. 1204 Там же. С. 109. 1205 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 79; 2) Царство террора. С.161; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 217. 1206 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1207 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 160. 1208 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 183. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 79; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 127. 1209 Ср.: Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 14. 1210 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 14. 1211 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. 1212 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148. Автор здесь допускает неточность: Ефросинью постригли не в Воскресенском девичьем монастыре на Белоозере, а «на Москве на Кириловском дворе». — См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1213 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л.,1966. С. 183–184. 1214 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 79. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 127. 1215 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. 1216 Там же. 1217 Там же. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 2). 1218 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 7). В другой своей работе эти «несколько месяцев» автор умещает в один-два: «Старицкие вышли из опаы не ранее сентября — октября 1563 г». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. 1219 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 185 (прим. 7); 2) Царство террора. С. 161. 1220 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. См также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 1). 1221 ААЭ. Т. I. СПб., 1836, № 289. С. 352; Государственный архив России XVI столетия. Подготовка текста и комментарии А. А. Зимина. Т. 1. М., 1978. С. 89–90. 1222 Там же. 1223 Возможно, установлению этого «обихода» была посвящена специальная грамота. 1224 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 306, 309. См. также: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. Стб. 808. 1225 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987.С. 60. 1226 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1227 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 2). 1228 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 79; М., 2002. С. 127. 1229 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 443. 1230 По словам Р. Г. Скрынникова, «вассалы Ефросиньи получили в окрестностях монастыря земли от 4500 до 6000 четвертей пашни в трех полях». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 162. 1231 Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV — начало XVI в. Л., 1971. С. 22. 1232 См.: Аграрная истории Северо-Запада России XVI века. Л., 1974. С. 10–15. 1233 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. 1234 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 299. 1235 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. 1236 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 348. Ради точности надо сказать, что 5 августа 1563 года состоялось пострижение старицкой княгини на подворье Кириллова монастыря в Москве. Свое согласие на уход Ефросиньи в монастырь Иван IV дал несколько раньше. 1237 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1238 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. 1239 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 184. 1240 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 348–349. 1241 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. 1242 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1243 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. 1244 Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции. Подготовка текста и комментарии А. А. Зимина. Т. III. М., 1978. С. 475. 1245 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. 1246 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148–149. 1247 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 349. 1248 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 143. 1249 Там же. С. 143–144. 1250 В. Б. Кобрин причину прощения старицких князей видит в ином, перенося проблему в плоскость общих явлений истории общественной жизни: «Князь и его мать повинились (в невиновных, признающихся в преступлениях, в годы террора никогда нет нехватки). Царь их милостиво простил: должно быть, раскаяние было условием прощения» (Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61). Мы все-таки считаем, что они повинились, поскольку были виноваты, что вина их была доказана в процессе розыска, а помилование получили не столько под условием раскаяния, сколько в результате «печалования» митрополита, владык и Освященного собора. 1251 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. 1252 Там же. 1253 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 135, 140. 1254 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 349. 1255 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184–185. 1256 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161, 162. 1257 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. 1258 См., напр.: Веселовский С. Б. 1) Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические записки. Т. 22. 1947; 2) Исследования по истории опричнины. С. 115; Садиков А. П. Очерки по истории опричнины. С. 14–15; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 104–106. 1259 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. 1260 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 184 (прим. 6); 2) Царство террора. С. 161. 1261 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVII вв. С. 459. 1262 Там же. С. 482. 1263 Там же. 1264 В преамбуле к описи сказано: «А у сех книг рука одного диака Ивана Болотникова, а Григорья Нечаева руки нет, потому что Григорей не переписав дел, послан на государеву службу в Астарахань». — Там же. С. 459. 1265 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 162. 1266 Веселовский С. Б. Последние уделы Северо-Восточной Руси. С. 108. 1267 Там же. 1268 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 15. 1269 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 106. 1270 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 362. 1271 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 370. 1272 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987. С. 199. 1273 Посетивший Россию в начале XVII века немецкий герцог Ганс видел в Старице царский дворец «со множеством шпицов и выступов». — Путешествие герцога Ганса Шлезвиг-Гольштинского в Россию в 1602 году// ЧОИДР. 1911. Кн. 3. С. 13. 1274 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 320. 1275 См.: Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 197. 1276 Там же. С. 321, 347. См. также: Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. С. 88, 92. 1277 «И государь царь и великий князь в то время был в Можайску в великом собрании для Литовского дела»; «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии для своего дела Литовского стоял на Можайску»; «пришел государь в Можаеск…, а с ним царь Александр Сафа-Киреевичь Казанской» (Там же. С. 342, 343, 347); «царь и великий князь как пошел на свое дело из Можайску к Лукам»; «царь и великий князь пойдет на свое дело на земское из Можайска к Великим Лукам». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 99, 115. См. также: Полосин И. И. Социально-политическая история России… С. 75; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 95. 1278 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. 342. См. также: Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 96. 1279 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М, 1962. С. 125. 1280 См.: Епифанов И. И. Крепости // Очерки русской культуры XVI века. 4. 1. М, 1977. С. 322. 1281 См.: Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 115. 1282 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 372. 1283 Ключевский В. О. Лекции по русской истории, читанные на Высших женских курсах в Москве в 1872–1875 гг. М., 1997. С. 365. 1284 Платонов С. Ф. Иван Грозный. (1530–1584). М., 1998. С. 83. 1285 Сборник Русского исторического общества. Т. 71.С. 108. 1286 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1988. С. 184–185. 1287 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 110. 1288 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. С. 158 1289 Воробьев В. М. Как и с чего служили на Руси в XVII в. (К истории русского дворянства) // Средневековая и новая Россия. Сб. статей. СПб., 1996. С. 460. 1290 «Слободка Николское Стучево на тверском рубеже на реце на Медведице на Захарьинской земле Овиново в Николском погосте, что была за князем за Осифом Дорогобужским, а после того была в поместье за Борисом за Федоровым сыном Волынцова, а ныне дана Митке Григорьеву сыну Волынцова, безпоместно» (НПК, VI, II, 159–161); «в Сорогошине ж в Защижье деревня Кирилловское Босоволкова да брата его Июдинская Клементьевых, а была в поместье за Нечаем да за Федком за Некрасовыми детми Нечаева за Федком за Соломенным, а ныне дана Пасюку Михайлову сыну Корнилову, безпоместному (Там же. 441); «в Слезкине ж в Ыльинском погосте великого князя деревня и пустошь, а были в поместье за Ондреем за Крюком за Парфеньевым сыном Баскакова да за его сыном за Якушем, а ныне та деревня и пустошь даны беспоместному Ондрюше Васильеву сыну Бирилева» (Там же. 537), и др. 1291 См.: Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 155, 156, 158. 1292 См.: Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. М., 1960. С. 295. Перед Иваном III, по выражению Б. Д. Грекова, стояла задача «ассимилировать вновь приобретенное большое государство». — Там же. С. 290. 1293 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля в XV веке. М.-Л., 1961. С.314, 315. 1294 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. I. Одесса, 1871. С. 32. В связи с секуляризацией рассматривают конфискации в Новгороде, осуществленные Иваном III в конце XV века, и некоторые современные исследователи. — См., напр.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л., 1958. С. 16. 1295 ПСРЛ. Т. XXV. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949. С. 318. См. также: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322; Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 20. 1296 Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. С. 284. Ср.: Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим». Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. С. 141. 1297 Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. С. 20. 1298 Аграрная история северо-запада России. Вторая половина XV — начало XVI в. Л., 1971. С. 333. 1299 Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 324. 1300 Андрияшев А. М. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонская пятина по писцовым книгам 1498–1576 гг. М., 1914. С. VIII. 1301 АИ. Т. 1. СПб., 1841, № 82. 1302 Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси. СПб., 2000. С. 175. 1303 Ср.: Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»… С. 141. Покушения на земельную собственность духовенства со стороны представителей светской власти, в том числе князей, имели место едва ли не со времени возникновения этой собственности. В одной древней жалованной грамоте новгородскому Пантелеймонову монастырю говорится: «А кто почьнеть въступатися въ тое землю, и въ воду, и въ пожни или князь или епискуп, или хто иметь силу деяти, и он въ второе пришьствие станеть тяжатися съ святым Пантелеймоном» (ГВНП. М.-Л., 1949, № 82. С. 141). Среди потенциальных нарушителей права собственности Пантелеймонова монастыря на пожалованные земли фигурирует, как видим, и князь. 1304 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 314–352. 1305 Андрияшев А. М. Материалы по исторической географии… С. LVI–LVII. 1306 ПСРЛ. Т. XII. СПб., 1901. С. 220. См. также: ПСРЛ. Т. XXIV. М., 2000. С. 237. Это событие летописцы объясняют тем, что приведенные в Москву новгородцы хотели якобы «убити Якова Захариича, наместника Новогородскаго». Однако трудно поверить в такое количество заговорщиков, тем более что «иных многих думцев Яков пересек и перевешал». Скорее всего, здесь мы имеем дело с волнениями «житиих людей», вызванных перспективой их вывода в Москву, сопровождавшегося, по В. Н. Бернадскому, «острой борьбой» (Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322). Впрочем, согласно версии, заключенной в Софийской второй летописи, Иван III повелел вывести из Новгорода житьих людей «обговору деля, что наместники и волостели их продавали, и кои на них продажи взыщут, и они боронятся тем, что их, рекши, думали убить: и князь великий москвичь и иных городов людей посла в Новгород на житье, а их вывел, а многих иссечи велел на Москве, что рекши, думали Якова Захарьича убити» (ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1853. С. 239). Думается, одно не исключает другого. 1307 ПСРЛ. Т. XII. С. 220. 1308 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 199. 1309 Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. С. 158 (прим. 69). 1310 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322. 1311 Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 54. 1312 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий… С. 199. 1313 Там же. 1314 Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 319–320. См. также: Казакова H. А. Очерки… С. 58. 1315 Я. С. Лурье относит установление связей между Ф. Курицыным и новгородскими еретиками ко времени не ранее лета 1479 года, когда Иван III уже побывал в Новгороде (Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. С. 101). Полагаем, что эти связи между братьями по еретическому цеху, очные или заочные, существовали ранее, быть может, с момента возникновения ереси в волховской столице. 1316 Там же. 1317 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.-Л., 1947. С. 285. 1318 Там же. 1319 ПСРЛ. Т. XII. С. 249. 1320 И. У. Будовниц полагает, что это произошло между 1491 и 1504 гг. — Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 69. 1321 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С.51. 1322 См.: Казакова H. А. Очерки… С. 58. 1323 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 3. 1324 См.: Седельников А. Д. К изучению «Слова кратка» и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС АН СССР. Т. XXX. 1325 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 1. 1326 Там же. 1327 Там же. С. 2. 1328 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 2. 1329 Там же. С. 22. 1330 Там же. С. 12. 1331 Там же. С. 18. 1332 Там же. С. 12 1333 Там же. С. 4–47. 1334 Там же. С. 26. 1335 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 40. 1336 Там же. 1337 Там же. С. 15. 1338 Там же. С. 57. 1339 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. I. С. 90. 1340 См.: Платонов С. Ф. 1) Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). СПб., 1910. С. 134–135; 2) Иван Грозный. С. 54; Веселовский С. Б. 1) Первый опыт преобразования центральной власти при Иване Грозном // Исторические записки. Т. 15. 1945. С. 57–59; 2) Феодальное землевладение… С. 315–321; 3) Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 77–80; Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. С. 407–422; Павлов А. И. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 86–95; Власть и реформы. От самодержавной к советской России. С. 64–65. — В исторической литературе высказывалось мнение, будто испомещение «тысячников» осталось нереализованным проектом (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 366–371. Ср.: Павлов А. И. Государев двор… С. 94–95). «Проект реформы, — говорил А. А. Зимин, — вероятно, остался неосуществленным потому, что у правительства не было необходимого фонда свободных земель под Москвой» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 371). Очень трудно поверить в то, что правительство, приступая к столь масштабному предприятию и даже издав соответствующий указ, не имело сведений о том, располагает ли оно для осуществления его необходимым фондом земель. 1341 См., напр.: Павлов А. С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. 1. Одесса, 1871. С. 37; Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. 4. 2. М., 1951. С. 31, 32; Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV — первой половины XVI в. М., 1967. С. 12, 14; Ивина А. И. 1) Судебные документы и борьба за землю в Русском государстве во второй половине XV — начале XVI в. // Исторические записки. 86. М., 1970. С. 335–336; 2) Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV — первой половины XVI в. Л., 1979. С. 105. 1342 См.: Алексеев Ю. Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV–XVI вв. Переяславский уезд. М.-Л., 1966. С. 95; Ивина А. И. Крупная вотчина… С. 126. 1343 См.: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV–XVI вв. М.; 1951. С. 86–87. 1344 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение… С. 90. 1345 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор // Памятники русского права. Вып. IV. 1956. С. 128. 1346 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.-Л., 1960. С. 49. См. также: Зимин А. А. Об участии Иосифа Волоцкого в соборе 1503 г. // Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л. 1959. С. 370. 1347 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. 4. 2. С. 313. См. также: Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 107. Ср.: Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 168. 1348 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 191. 1349 Подробнее о соборе 1503 года см: Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 197–211. 1350 Там же. С. 212. 1351 О разгроме еретиков подробнее см.: Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 194–220; Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий… С. 212–232. 1352 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С.243. 1353 Там же. С. 244. 1354 Там же. С. 246. 1355 Там же. С. 244, 245. 1356 Там же. С. 257. 1357 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 83. 1358 Собрание государственных грамот и договоров. 4.1. М., 1813. С. 412. 1359 Источники по истории еретических движений XIV — нач. XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 518. Ср.: Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 464. 1360 Зимин А. А. 1) Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 133; 2) Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977. С. 93–94. См. также: Павлов А. Исторический очерки секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 66. 1361 См.: Казакова H. А. Очерки… С. 106–107. 1362 См.: Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 93, 283; Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 468; Ивина Л. И. Крупная вотчина… С. 138. Н. А. Казакова полагает, что «Варлаам, не будучи сам нестяжателем, сочувствовал им». — Казакова H. А. Очерки… С. 107. 1363 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 417. 1364 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 282–283. 1365 Следовательно, пять лет ростовская епархия оставалась незанятой, что, по-видимому, свидетельствует о напряженной борьбе за место архиепископа в Ростове, в ходе которой одолели нестяжатели. 1366 Не исключено, что Протасий оставил Рязанское епископство не без давления и происков со стороны нестяжателей. 1367 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 283–284. 1368 Там же. С. 284. 1369 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 257. 1370 Ивина Л. И. Крупная вотчина… С. 138. 1371 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV — первая половина XVI века. СПб., 2000. С. 302. 1372 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. 1. С. 83 (прим. 1). 1373 Там же. С. 85. 1374 См.: Герберштейн С. Записки о московитских дела. СПб., 1908. С. 41. 1375 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 285. А. А. Зимин, уточняя Герберштейна, говорит, что Варлаам «съехал на Симонов, а позднее был сослан в Каменский монастырь» (Там же. С. 284). 1376 Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. Часть первая. М., 1996. С. 94. 1377 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 698. 1378 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 43. 1379 Там же. Т. IV. 4.1.С. 541. 1380 Там же. Т. VI. С. 264. 1381 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 285 1382 Там же. 1383 Там же. С. 285–286. 1384 Там же. С. 286. 1385 См.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени… С. 124–141. 1386 См.: Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 267–274. 1387 Казаков H. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С. 279. 1388 Там же. С. 326. 1389 Казаков H. А. Вассиан Патрикеев…. Ранее С. М. Каштанов развивал несколько иные взгляды: «Пожалование вотчин монастырям при Василий III и в период регентства Елены Глинской (1534–1538 гг.) приобрело характер исключений из общего правила…». — Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 128. 1390 См.: Веселовский С. Б. Феодальное землевладение… С. 90–91. 1391 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С. 102–103. 1392 Павлов А. Исторический очерк секуляризации. С. 102. 1393 Там же. С. 102, 103. 1394 ПСРЛ. Т. IV. 1. М., 2000. С. 574. 1395 См.: Конин Г. Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.-Л., 1937. С. 275. 1396 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 89. 1397 Павлов А. Исторический очерки секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 103. 1398 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 329. 1399 Там же. 1400 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 376. 1401 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 156–176. См. также: Каштанов С. М. 1) Историко-правовой обзор. С. 128, 166, 167; 2) К изучению опричнины Ивана Грозного // История СССР. 1963, № 2. С. 113; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 106; Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 141. Аналогичные суждения высказывал еще ранее П. А. Садиков. — См.: Садиков П. А. 1) Из истории опричнины царя Ивана Грозного // Дела и дни. 1921. Книга вторая. Пг., 1921. С. 20–29; 2) Из истории опричнины XVI в. // Исторический архив. III. М.-Л., 1940. С. 171–174. 1402 К этой мысли С. М. Каштанов пришел давно. Еще в 1956 году он замечал: «Непрочность положения боярских временщиков заставляла их искать союзников в среде крупнейших духовных феодалов». Отсюда земельные раздачи духовенству. — См.: Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 128. 1403 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 89. 1404 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 27, 76. 1405 Там же. С. 28, 76. 1406 См.: Тимофей, Дионисий. О Церкви, православном Царстве и последнем времени. М., 1998. С. 20–24. 1407 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 320. 1408 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 129; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 313. 1409 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. С. 346. 1410 См.: Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 98. 1411 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 129 1412 Там же. 1413 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 106–107. 1414 Там же. С. 107. 1415 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В трех томах. Т. 3. М., 1995. С. 67. 1416 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л., 1958. С. 56. 1417 РИБ. Т. IV. СПб., 1878. Стб. 1440. 1418 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155. 1419 Там же. С. 46–48, 64, 153–154. 1420 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 67. 1421 РИБ. Т. IV. Стб. 1440. 1422 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века // Исторические записки. Т. 15. 1945. С. 248. 1423 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… Т. 15. С. 248. 1424 Стратонов И. А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси. Казань, 1912. С. 23–30. 1425 Авалиани С. Л. «Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев» как исторический источник // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1909, март. Т. I. С. 381–383. 1426 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Апокрифический памятник XVI в. // Л3АК. Вып. X. 1889; Петров И. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев // Филологические записки. Вып. V–VI. Воронеж, 1905. С. 51–53; Бельченко Г. П. К вопросу о составе и об авторе «Беседы преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев». Одесса, 1914. С. 2–3; Седельников А. Д. Две заметки по эпохе Ивана Грозного // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. I. М., 1940. С. 142; Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 258–259; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 78, 84, 87; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 92 (прим.1). 1427 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 284. 1428 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 137 (прим.). 1429 Пресняков А. Е. Рецензия на Л3АК. Вып. X // ЖМНПросв. 1896, сентябрь. С. 161–162; Зимин А. А. 1) «Беседа Валаамских чудотворцев» как памятник позднего нестяжательства // ТОДРА. Т. XI. М.-Л., 1955. С. 198–208; 2) И. С. Пересветов и его современники… С. 431. 1430 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. I. С. 136. Некоторые историки полагали, что это был Вассиан Патрикеев. — См.: История российской иерархии, собранная… Амвросием. Ч. II. М., 1810. С. XXVI–XXVII; Бодянский О. М. Рассуждение инока-князя Вассиана о неприличии монастырям владеть отчинами // ЧОИДР. Т. III. 1859. С. VIII; Хрущов И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина. СПб., 1868; Невоструев К. И. Рассмотрение книги И. Хрущева // Отчет о XII присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1869. С. 64–65; Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881; Авалиани С. «Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев» как исторический источник. С. 381–383; Иконников В. С. Максим Грек и его время. Киев, 1910. 1431 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247, 251. 1432 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 275–276; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916. С. 306. 1433 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65–66. 1434 Рыбаков Б. А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. 1934. № 3. С. 26; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 103, 112, 114. См. также: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92 (прим. 1). 1435 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике. С. 257–259. 1436 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65–67. 1437 Там же. С. 67. 1438 Там же. 1439 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 50. 1440 См., напр.: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 136–137; Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 67; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. I. С. 142; Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 253; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 48–50, 74–77; Буланина Т. В. Валаамская беседа // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1955. С 104. 1441 Кузьмин А. Г. Публицистика и общественная мысль // Очерки русской культуры XVI века. Часть вторая. М. 1977. С. 123. 1442 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 177, 190. 1443 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С. XIII. 1444 Бельченко Г. П. К вопросу о составе и об авторе «Беседы преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев». С. 58. 1445 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 249–250. 1446 Там же. С. 251. 1447 Об этом см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 80–102. 1448 Буланин Д. М. Трудности изучения биографии древнерусских писателей // Русская литература. 1980, № 3. С. 140. 1449 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65. 1450 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 161. 1451 Там же. С. 178. 1452 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 162, 179. 1453 Там же. С. 164, 181. 1454 Там же. С. 165, 181. 1455 Там же. С. 168, 183. 1456 Там же. С. 168, 184. 1457 Там же. С. 170, 185. 1458 Там же. С. 174, 188. 1459 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 161, 178. 1460 Там же. С. 165, 181. 1461 Там же. С. 174, 188. 1462 Там же. С. 164, 180. 1463 Там же. С. 168, 183. 1464 Там же. 1465 Там же. С. 188. 1466 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 173–174. 1467 Там же. С. 188. 1468 Там же. С. 174, 188. 1469 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 172, 187. 1470 Там же. С. 167–168, 183. 1471 Там же. С. 169, 184. 1472 Там же. С. 167, 183. 1473 Г. Н. Моисеева обратила внимание на сходство аргументации в данном вопросе автора «Валаамской беседы» и еретика Матвея Башкина. — Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 110. 1474 Там же. С. 162, 168, 169, 173, 177, 179, 184, 187, 190. 1475 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 174–175, 188–189. 1476 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65. 1477 Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 347. 1478 См.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 108; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92–93. 1479 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 338. 1480 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 166–167, 182. 1481 Там же. С. 163, 179–180. 1482 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 165–166, 182. 1483 Там же. С, 166, 182. 1484 Там же. С. 174. Во Второй редакции «Беседы» термин улусы заменен словом угодия: «И давати им (монахам. — И.Ф.) … промышленные угодия». — Там же. С. 188. 1485 Там же. С. 162, 174, 175, 179, 188, 189. 1486 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 22. М., 2004. С. 230–231. 1487 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 167, 183. 1488 Там же. 1489 Там же. 1490 Там же. С. 185. 1491 См.: Будовиц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI веках (по «житиям святых»). М., 1966. С. 77–111. 1492 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 251. 1493 Там же. 1494 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 100. 1495 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92. 1496 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 162, 179. 1497 Там же. С. 163, 179. 1498 См.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 95. 1499 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 166, 182. 1500 Там же. С. 161–162, 178. 1501 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 21, 70. 1502 Там же. С. 16, 65. 1503 Там же. 1504 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 163, 179. 1505 Там же. Во Второй редакции данный текст читается несколько по-другому: «Государем царем уставлено царство и грады, с волостми держати, и власть имети — со князи и з боляры, и с протчими великородными и приближними своими мирскими людми, а не с иноки». — Там же. С. 180. 1506 Там же. С. 162. «Протчие миряны» заменены во Второй редакции «Беседы» «протчими великородными и праведными мирскими людми». — Там же. С. 179. 1507 Там же. С. 166, 182. 1508 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 94–95. 1509 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. 1510 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 176. 1511 Там же. С. 190. 1512 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. 1513 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 191. 1514 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 191. 1515 Там же. С. 191–192. 1516 Там же. С. 192. 1517 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С. XIII–XVII. При этом В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов замечали, что автору «Сказания» «очень хотелось, чтобы оно стало неотъемлемой прибавкой «Беседы». — Там же. С. XV. Об авторах «Беседы» и «Сказания» см. также: Бельченко Г. П. К вопросу о составе… С. 47. 1518 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 140–148 1519 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 94. 1520 См., напр.: Стратонов И. А. Заметки… С. 22–23. 1521 См., напр.: Зимин А. А. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 201–202. 1522 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 66. 1523 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 24. М., 1999. С. 163. 1524 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 260. Ср.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 141–142. 1525 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 284. 1526 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 248–249. Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 94–95. 1527 См.: Теплова В. А. Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия // Уния в документах. Минск, 1997. С. 34–36. 1528 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 33, 36. 1529 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. 1530 См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 283–284. 1531 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. 1532 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 192. 1533 См.: Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 299. 1534 Кунцевич Г. Челобитная иноков царю Ивану Васильевичу. СПб., 1912. С. 9, 11. 1535 Там же. С. 11. 1536 Там же. 1537 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 255. 1538 «Челобитная крылошан ко государю царю» — так называет наш памятник И. У. Будовниц (Там же. С. 254), следуя за его рукописным заглавием (Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12). Однако, по справедливому замечанию Г. Кунцевича, «из текста памятника не видно, чтобы Челобитная шла именно от крылошан». — Там же. С. 4 (прим. 1). 1539 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 255–256. 1540 Там же. С. 254. 1541 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12–13. 1542 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 17. 1543 Там же. 1544 Там же. С. 17–18. 1545 Там же. С. 15. 1546 Там же. С. 14. 1547 Там же. 1548 Там же. С. 13. 1549 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 13. 1550 Будовниц И. У. Монастыри на Руси… С. 92. 1551 Там же. С. 99. 1552 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 19. 1553 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 13. 1554 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. М. 1992. Стб. 806. 1555 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12. 1556 Там же. С. 10. 1557 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. М., 1988. С. 723–743. 1558 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 75 (прим. 83). См. также: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. Одесса, 1871. С. 109. 1559 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 195. 1560 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 75. 1561 Там же. 1562 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376. 1563 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 274. 1564 Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 122. А. М. Сахаров придерживался этой точки зрения и ранее. — См.: Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.). Критические очерки. М., 1967. С. 102. 1565 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 722. 1566 Там же. С. 717. 1567 Кистерев С. Н. Дело Аграфены Волынской и «Ответ» митрополита Макария // Археографический ежегодник за 1998 год. М., 1999. 1568 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 90. 1569 Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С. 141. 1570 См.: Зимин А. А. 1) Реформы Ивана Грозного… С. 376; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 274. 1571 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 88–91. 1572 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 109–111; Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 717. 1573 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 723–724. 1574 Там же. С. 724. 1575 Там же. С. 741. 1576 Там же. С. 728, 729, 735, 740, 742. 1577 Там же. С. 724, 728, 730. 1578 Там же. С. 726. 1579 Там же. С. 723, 725, 728, 729, 735, 743. 1580 Там же. С. 735. 1581 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 735. 1582 Казакова H. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С. 87. 1583 Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 153. 1584 Казакова H. А. Вассиан Патрикеев… С. 91. 1585 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. 1586 Ср.: Там же. 1587 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 740. 1588 Там же. С. 742. 1589 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 47, 86. Согласно A. C. Павлову, царь Иван укорял Сильвестра и его пособников в том, что они «злая советовали царю на Церковь Божию». — Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 108 (прим. 1). 1590 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 26, 74–75. 1591 Там же. С. 14–15, 64. 1592 Там же. С. 18. 1593 Там же. С. 46, 97. 1594 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13, 63. 1595 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 743 1596 См.: Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. 1597 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 111. 1598 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 91. 1599 Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С. 153. 1600 Романов Б. А. Комментарий // Судебники XV–XVI веков. С. 218. 1601 Там же. С. 219–220. 1602 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 116. 1603 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897. С. 140, прим. 1. 1604 Павлов-Сильванский Н. И. Государевы служилые люди. М., 2001. С. 114. 1605 Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного // Исторические записки. 29. М., 1949. С.211. 1606 Романов Б.А. Комментарий. С. 223. 1607 Там же. С. 226. 1608 Ad fontem / У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова. М., 2005. С. 98–99. 1609 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 352–354; Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 111–136. См. также: Ad fontem / У источника… С. 103. 1610 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. I. М.-Л., 1947. С. 126. 1611 Там же. С. 113. 1612 Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. 24. М., 1947. С. 264. 1613 Смирнов И. И. Очерки… С. 365, 366. 1614 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91. 1615 Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 289. Ср.: Смирнов И.И. Очерки… С. 366 (прим. 104). 1616 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 119. 1617 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 352–354. 1618 Там же. С. 352. 1619 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1.С. 126. 1620 Романов Б. А. Комментарий. С. 224. Ср.: Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91–92. 1621 См.: Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91. 1622 Носов Н.Е. Становление сословно-представительных… С. 115. 1623 Судебники XV–XVI веков. С. 174. 1624 Смирнов И. И. Очерки… С. 366. 1625 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 105. См. также: Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1. С. 113. 1626 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. II. Киев; СПб., 1887. С. 103 (прим. 95); Памятники русского права. Вып. IV. С. 336; Судебники XV–XVI веков. С. 326; Российское законодательство X–XX веков. В девяти томах. Т. 2. М., 1985. С. 168. 1627 Судебники XV–XVI веков. С. 27. 1628 Романов Б. А. Комментарий. С. 326. 1629 Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. II. С. 175 (прим. 230). 1630 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 517. 1631 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1901. С. 3. 1632 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. I. С. 114–115. 1633 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 356–357. 1634 Смирнов И.И. Очерки… С. 366–367. 1635 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 531 1636 Памятники русского права. Вып. IV. С. 336. 1637 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376. 1638 Памятники русского права. Вып. IV. С. 595. 1639 Вопрос этот, впрочем, спорный. Современные историки решают его по-разному. «К какому времени относится издание этого приговора, — замечал И. И. Смирнов, — точно установить нельзя. В тексте гл. 98 [Стоглава] есть лишь ссылка на то, что 15 сентября митрополит Макарий «говорил» по поводу этого приговора с царем. Можно полагать, что время издания этого приговора не отделено слишком большим промежутком времени от объяснения по поводу его между митрополитом и царем. Поэтому можно допустить, что издание приговора о новых слободах относится примерно к тому же времени, что и выработка статьи 91 Судебника, или во всяком случае стоит в связи с обсуждением вопросов о слободах правительством Ивана IV в период определения общего направления политики по важнейшим вопросам государственного устройства, т. е. относится к 1549–1550 гг.» (Смирнов И. И. Очерки… С. 367–368). Н. Е. Носов в этой связи писал: «Был ли оформлен указанный проект в виде особого приговора 15 сентября 1550 г., как полагает И. И. Смирнов, сказать трудно. Мы думаем, что нет. Окончательно вопрос был решен лишь на Стоглаве…» (Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 108). На наш взгляд, ближе к истине А. А. Зимин, который относил появление «приговора» к 15 сентября 1550 года (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376). Во всяком случае, как нам кажется, «приговор» был оформлен в сравнительно короткий срок между 15 сентября 1550 года и временем составления Стоглава. Заметим, кстати, что в издании «Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века», вышедшем под редакцией Н. Е. Носова, данный документ датирован 15 сентября 1550 года и назван «Соборным приговором о новых монастырских слободах». — Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986, № 3. С. 30. 1640 Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 408–409. 1641 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века… С. 30. 1642 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1.С. 118, 119. 1643 Там же. С. 119–120. 1644 Там же. С. 120. 1645 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба… С. 121. 1646 Смирнов И. И. Очерки… С. 371. 1647 Смирнов И. И. Очерки… С. 371–372. 1648 Романов Б. А. Комментарий. С. 331. 1649 Романов Б. А. Комментарий. С. 330, 331. 1650 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376–377. 1651 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 107–108. 1652 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375. 1653 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 75. 1654 Там же. С. 75 (прим. 82). 1655 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных… С. 75. 1656 Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 368; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 106. 1657 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 232. См. также: Смирнов И. И. Иван Грозный; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 324–325. 1658 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 74. 1659 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 386, 388. 1660 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 74. 1661 Зимин А. А. Реформы ИванаГрозного… С. 32 1662 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 158. 1663 Там же. С. 107. 1664 Смирнов И. И. Очерки… С. 371. 1665 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 346. 1666 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 107. 1667 Там же. 1668 Там же. 1669 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения… С. 3. 1670 Смирнов И. И. Очерки… С. 368. 1671 Там же. С. 369. 1672 Там же. С. 369–370. 1673 Там же. С. 370. 1674 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376 (прим. 3). 1675 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 106. 1676 Смирнов И.И. Очерки… С. 371; Зимин A.A. Реформы Ивана Грозного… С. 377. 1677 См.: Церковь в истории России (IX—1917 г.)… С. 98. 1678 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 92; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 378; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 298. 1679 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73. В досоветской исторической литературе высказывалась версия, согласно которой это назначение состоялось 17 мая 1551 года (Замков П. М. Старец Артемий, писатель XVI в. // ЖМНПросв. 1887, ноябрь. С. 50) или около 17 мая 1551 года (Вилинский С. Г. Послания старца Артемия. Одесса, 1906. С. 45). Разные варианты на сей счет предлагает А. А. Зимин. Согласно одному из них, Артемий стал троицким игуменом «после окончания заседаний Стоглава» (Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155), а соответственно другому варианту — «около мая 1551 г.» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 389). Наконец, по третьему варианту назначение Артемия на пост игумена Троице-Сергиева монастыря состоялось «во время Стоглавого собора». — Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 297. 1680 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155. 1681 Там же. 1682 Там же. 1683 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 71. 1684 ААЭ. Т. I. СПб., 1836, № 238. С. 246. 1685 Там же. 1686 Р. Г. Скрынников по этому поводу говорит совершенно определенно: «По настоянию Сильвестра известный нестяжатель старец Артемий был назначен игуменом крупнейшего в стране Троице-Сергиева монастыря». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. 1687 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 389. 1688 Там же. См. также: Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 177. 1689 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 145. 1690 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 97; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 382–383. Ср.: Лебедев Н. И. Стоглавый собор 1551 года. М., 1882. С. 43; Бочкарев В. А. «Стоглав» и история собора 1551 года. Юхнов, 1906. С. 20, 27, 32; Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. СПб., 1909. С. 60–61; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 67. 1691 См., напр.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 252; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 272–273; Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 99; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 386; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 182; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. 1692 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73. 1693 См.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 146 150. 1694 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 244. 1695 См., напр.: Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. СПб., 1904. С. 374; Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 252; Шмидт С. О. 1) Соборы середины XVI в. // История СССР. 1960, № 4. С. 81–83; 2) Становление российского самодержавства… С. 179; 3) У истоков российского абсолютизма… С. 202; Черепнин Л. В. 1) Земские соборы и утверждение абсолютизма в России // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 96; 2) Земские соборы русского государства… С. 80. 1696 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 80. Об участии Боярской Думы в работе Стоглавого собора писали и некоторые досоветские историки. — См., напр.: Латкин В. Н. Лекции по внешней истории русского права. СПб., 1888. С. 73–74. 1697 Р. Г. Скрынников считает, что «нестяжатели составляли на соборе ничтожное меньшинство». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 87. 1698 Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма в России. С. 96. 1699 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 252. 1700 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 207. 1701 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. 1702 Там же. С. 126. 1703 См.: Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 86. 1704 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 300. 1705 Ср.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 64. 1706 Стефанович Д. О Стоглаве… С. 81–95. 1707 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 72. 1708 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 79 (прим. 99). 1709 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. 1710 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 238 1711 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 409–410. 1712 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73 (прим. 78). 1713 Ср.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387, 388; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 301. 1714 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 301. 1715 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 100. 1716 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 301. 1717 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387. 1718 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. 1719 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 410. 1720 Там же. С. 409–410 1721 См.: Бочкарев В. А. «Стоглав» и история собора 1551 года. Историко-канонический очерк. С. 118–119. 1722 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387–388. 1723 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375, 378, 379 1724 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 301. 1725 Стефанович Д. О Стоглаве… С. 92–93. 1726 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 175. 1727 Скрынников Р.Г. 1) Государство и церковь на Руси… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. 1728 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387. 1729 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 64, 74. 1730 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387; Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.)… С. 102; Русское православие: вехи истории. С. 123. Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 175. 1731 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388. 1732 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100 (прим. 217); 2) Реформы Ивана Грозного… С. 388 (прим. 1). 1733 Вилинский С. Г. Послания старца Артемия. С. 69; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388. 1734 На то, что среди адресатов Стоглава были также «соборные старцы», обращал особое внимание и А. Н. Гробовский. Но он не сделал из этого факта должных выводов. — См.: Гробовский А. И. Иван Грозный и Сильвестр… С. 20. 1735 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 410. 1736 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 100. 1737 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 69. 1738 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 412 1739 Там же. С. 413. 1740 Там же. С. 412. 1741 Там же. 1742 Емненко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 374–375. 1743 Там же. С. 375. 1744 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 411. 1745 Там же. С. 413. 1746 См.: Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 200–207. Касаясь данной темы ответа Иоасафа, А. А. Зимин говорил: «Речь шла, конечно, о главе нестяжателей Ниле Сорском и Серапионе, архиепископе новгородском, т. е. о старинных противниках иосифлян». — Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388; 2) Крупная феодальная вотчина…С. 301. 1747 Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986, № 5. С. 31–32. 1748 Там же. С. 32. 1749 Законодательные акты русского государства… С. 32. 1750 Там же. С. 32–33. 1751 Там же. С. 33. 1752 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. II. М., 1954. С. 69. См. также: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С. 122. 1753 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 390. См. также: Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 81; Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 18. 1754 Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. С. 32. 1755 Там же. 1756 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 190. Ср.: Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 796, 798. 1757 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176, 190. 1758 См.: Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. Ч. I. М., 1996. С. 135. 1759 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 413. Р. Г. Скрынников допустил неточность, когда говорил, что «приговор был утвержден Боярской думой». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. 1760 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 238. По словам митрополита Макария (Булгакова), майский приговор не был внесен «в книгу Стоглав самим Собором», а помещался переписчиками в конце ее (Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. 4. 1. С. 135–136). Но это, на наш взгляд, не исключает мысли о соборном происхождении документа. 1761 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176. 1762 Там же. С. 190. 1763 В. В. Шапошник полагает, что Приговор «был составлен с участием Собора — об этом говорит его преамбула «и со всем собором»…» (Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176). Однако преамбула Приговора говорит о другом, а именно о том, что государь «приговорил» с митрополитом, архиепископами, епископами и «со всем собором». В преамбуле, таким образом, речь идет не о составлении Приговора, а об его утверждении «всем собором». 1764 Там же. С. 190. 1765 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 109. 1766 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 343, 350, 377. 1767 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 88; 2) Царство террора. С. 104–105; 3) Иван Грозный. М., 1975. С. 39–40; М., 2002. С. 62. 1768 Смирнов И. И. Очерки… С. 442. 1769 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 99, 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 386, 388. 1770 С. В. Бахрушин недооценил, как нам кажется, серьезность ситуации, когда писал: «Дело свелось к ничтожным ограничениям в области как землевладения, так и суда, да и те едва ли целиком вошли в жизнь». — Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 273. 1771 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 195. 1772 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения… С. 189–190. 1773 Ср.: Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 797. 1774 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 392. 1775 См.: ААЭ. Т. I. №. 238. С. 246. См. также: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 135. 1776 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 233. 1777 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. II. С. 70. 1778 Там же. С. 69. 1779 Романов Б. А. 1) К вопросу о земельной политике Избранной рады // Исторические записки. 38. 1951. С. 262; 2) Комментарий // Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С.311. 1780 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады. С. 265; 2) Комментарий. С. 315. 1781 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады. С. 263. 1782 Смирнов И.И. Очерки… С. 441–443. 1783 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 272. 1784 Там же. 1785 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 273. 1786 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 91. 1787 Там же. С. 92. 1788 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375. 1789 Там же. С. 378. 1790 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 298–299. 1791 Там же. С. 300. 1792 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 85. 1793 Там же. С. 86–87. 1794 См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 39–40. 1795 Там же. С. 39. 1796 Там же. С. 40. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 60–61. 1797 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 105. 1798 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 194–195. 1799 Там же. С. 195. 1800 По верному замечанию А. Л. Дворкина, «духовно-религиозный и идеологический аспекты» царствования Ивана Грозного «не получили должного освещения ни в русской, ни в зарубежной историографии» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. Нижний Новгород, 2005. С. 21). Редкими исключениями здесь являются книга А. Л. Юрганова и соответствующий раздел исследования В. В. Шапошника. — См.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 408–509. 1801 Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 125. 1802 См.: Флоровский Георгий. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 27. Зря только Флоровский, хотя и с оговоркой, объединил здесь митрополита Макария с Сильвестром: «Взаимное отношение «Избранной рады» и митрополита остается неясным — политически «Сильвестр и Макарий не были единомышленниками, но в культурном отношении они принадлежали, скорее, к одному кругу». — Там же. С. 27–28. 1803 Там же. С. 29. 1804 См., напр.: Платовнов С. Ф. Иван Грозный. С. 56; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 269; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века С. 233; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 33, 74; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 180; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 203; Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 83–84. — Ср.: Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 121. 1805 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176, 190. 1806 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 181; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. 1807 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 253. 1808 См.: Жданов И. Н. Материалы для истории Стоглавого собора // ЖМНПросв. 1876, июль — август. 1809 См., напр.: Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, № 4. С. 697–699; Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. С. 23, 55. 1810 См., напр.: Зимин А. А. 1) Историко-правовой обзор // Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 592; 2) К истории военных реформ 50-х годов XVI века // Исторические записки. Т. 55. 1956. С. 345–346; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 336–338, 349–350; Шмидт С. О. 1) Соборы середины XVI века // История СССР. 1960, № 4. С. 77–80; 2) Становление российского самодержавства… С. 166; 3) У истоков российского абсолютизма… С. 189; Носов Н. Е. 1) Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 31; 2) Собор «примирения» 1549 года и вопросы местного управления // Внутренняя политика царизма (середина XVI — начало XX в.). Л., 1967. С. 36. — Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 486–488. 1811 Памятники русского права. Вып. IV. С. 576. 1812 Там же. С. 576–580. 1813 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 338. 1814 Кононов Н. Разбор некоторых вопросов… 1815 Носов Н. Е. Собор «примирения» 1549 года… С. 36. 1816 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 169–170; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 192–193. 1817 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 170; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 192. 1818 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 337–338. 1819 См.: Лебедев Н. Стоглавый собор 1551 г. С. 45; Бочкарев В. Стоглав и история собора 1551 года. С. 78–79; Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. С. 175 (прим. 3); Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 179; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 202; 3) Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 54. 1820 См.: Жданов И. Н. Церковно-земский собор 1551 г. // Исторический вестник. 1880, февраль. 1821 Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. СПб., 1912. С. 454–455. 1822 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 56. 1823 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1907. С. 144. 1824 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 181; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. 1825 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 72. 1826 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 81. 1827 Латкин В. И. Лекции по внешней истории русского права. С. 73–74. См. также: Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, апрель. 1828 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России. С. 154. 1829 Там же. 1830 Российское законодательство X–XX веков. В девяти томах. Т. 2. М., 1985. С. 409. 1831 Каптерев И. Ф. Царь и церковные московские соборы XVI–XVII столетий // Богословский вестник. 1906, декабрь. С. 631. 1832 Беляев И. В. Об историческом значении деяний Московского собора 1351 г. // Русская беседа. 4. 4. М., 1858. С. 8. 1833 Шпаков А. Я. Стоглав (К вопросу об официальном и неофициальном происхождении этого памятника) // Сборник в честь профессора М. Ф. Владимирского-Буданова. Киев, 1904. С. 306. См. также: Писаревский И. Значение Стоглавого собора в истории русской церкви // Богословский вестник. 1895, июнь. 1834 См.: Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992; Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2002. 1835 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 47; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 388–389; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 301–302; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. 1836 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 40. 1837 Зимин А. А.1) Реформы Ивана Грозного… С. 382; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 302, 303, 307 (прим. 143). См. также: Корецкий В. И. Новые послания Зиновия Отенского // ТОДРА. Т. XXV. М.-Л., 1970. С. 120. 1838 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 40. 1839 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102–103. 1840 ААЭ. Т. 1, № 238. С. 246. См. также: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 172, 174; Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). С. 34. 1841 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. 1842 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102. 1843 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102. 1844 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 169–170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102; Назаров В. Д. К истории церковных соборов и идейно-политической борьбы в России первой половины XVI в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. С. 206; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 215. 1845 ААЭ. Т. I, № 239. С. 250–231. 1846 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 171. Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 215, 216. 1847 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 169. 1848 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 81. 1849 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. 1850 ААЭ. Т. I, № 238. С. 247. 1851 Смирнов И. И. Очерки… С. 232, 251. 1852 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 841–942. 1853 Голубинский Е. Е. История русской церкви. С. 842. 1854 Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. 4.1. М., 1996. С. 146. 1855 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 48. 1856 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 843–844. 1857 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1993. С. 514–515. 1858 Там же. С. 515. 1859 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 433. 1860 Там же. С. 434. 1861 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 125. 1862 См.: Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 250. 1863 История русского искусства. Т. 3. М., 1955. С. 554; Мнёва Н. Е. Монументальная и станковая живопись // Очерки русской культуры XVI века. Ч. II. М., 1977. С. 314. 1864 См.: Малинин В. А. Русь и Запад. Калуга, 2000. С. 343. 1865 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. Стб. 2179. 1866 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 844. 1867 Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. С. 514. 1868 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 250. 1869 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 304. 1870 Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. I. С. 515. 1871 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 842. 1872 Там же. 1873 Мнёва И. Е. Монументальная и станковая живопись. С. 315. 1874 ААЭ. Т. I, № 238. С. 247. 1875 Кобрин В. Б., Лурье Я. С. Комментарий // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 392. 1876 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 251. 1877 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 844. 1878 Там же. 1879 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861. Стб. 877–882. 1880 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 11. 1881 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. 1882 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. 1883 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 882. 1884 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины… С. 11–12. 1885 Там же. С. 11. 1886 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. 1887 Там же. 1888 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 877. 1889 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 878. 1890 Там же. Стб. 879. 1891 Там же. Стб. 880. 1892 Там же. Стб. 882. 1893 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7. 1894 Сказания князя Курбского. СПб., 1868. С. 8–9. 1895 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 109. 1896 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. 1897 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181. 1898 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. 1899 Там же. С. 396. 1900 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. 1901 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 207. 1902 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. Стб. 1901. 1903 См.: Соловьев С. М. Сочинения. В восемнадцати кн. Кн. III. М., 1989. С. 522; Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 105. 1904 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 136; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 111. См. также: Цветков С. Э. Иван Грозный. 1530–1584. М., 2005. С. 298. 1905 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. М., 2004. С. 73. 1906 Известно, что Андрей Курбский, находясь за границей, проявлял резкую враждебность к реформационным движениям и выступал защитником православной веры. — См.: Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 238–239. 1907 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13, 53, 62–63. 1908 Там же. С. 17, 59, 67. 1909 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 226. 1910 Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли древней Руси. С. 240. 1911 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 39, 55, 90. 1912 Там же. 1913 Там же. С. 7, 9. 1914 Лурье Я. С. 1) Вопросы внешней и внутренней политики в посланиях Ивана IV // Послания Ивана Грозного. СПб., 2005. С. 473; 2) Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси. С. 221. См. также.: Лихачев Д. С. Иван Пересветов и его литературная современность // Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 52. 1915 См.: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 159. 1916 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. 1917 См.: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. 1918 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 3. М., 1976. С. 19. 1919 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. 1920 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 228, 256. 1921 Там же. С. 226. 1922 Там же. С. 256. 1923 Там же. 1924 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 274. 1925 Послания Ивана Грозного. С. 243–244. 1926 Там же. С. 251–252. 1927 Там же. С. 261. 1928 Ср.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 273. 1929 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 132. 1930 Там же. С. 141–154. 1931 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 336. 1932 См.: Там же. С. 337. 1933 Послания Ивана Грозного. С. 243, 245, 251, 261. 1934 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. 1935 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. 1936 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 60, 97. 1937 То, что «Лаодикийское послание» непосредственно связано с именем Федора Курицына, едва ли подлежит сомнению. Показательно также отсутствие каких-либо иностранных оригиналов этого памятника. — См.: Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 173; Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 64; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 505–506. 1938 Источники по истории новгородско-московской ереси конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 265. — «Лаодикийское послание» приводим по наиболее древнему списку, относящемуся к первым годам XVI века и содержащему текст, почти современный авторскому. — Там же. С. 257. 1939 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 142. 1940 Там же. С. 145. Ср.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 258. 1941 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66. 1942 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 146. 1943 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 146. 1944 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 242. 1945 См.: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 333–350. 1946 Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV— начала XVI в. С. 173. 1947 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 243–256. См. также: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 65–69. 1948 См.: Сервицкий А. И. Опыт исследования ереси новгородских еретиков или «жидовствующих» // Православное обозрение. 1862. Июнь. С. 191; Панов И. Ересь жидовствующих // ЖМНПросв. 1877. Январь. С. 27; Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892. С. 386; Тихонравов И. С. Сочинения. Т. 1. М., 1898. С. 226; Дмитриев А. Инквизиция в России. М., 1937. С. 27; Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1985. С. 94; Лурье Я. С. 1) Новгородско-московская ересь… С. 174; 2) Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.-Л., 1960. С. 172–173; Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 246. 1949 Лурье Я. С., Григоренко А. Ю. Курицын Федор Васильевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4.1. Л., 1988. С. 506. См. также: Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь… С. 175. 1950 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 69. 1951 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 258. 1952 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 175. 1953 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 142–143. 1954 Источники по истории новгородско-московской ереси… С. 265. 1955 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 256. 1956 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66. 1957 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. М., 2004. С. 152. 1958 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 145. 1959 Источники по истории еретических движений XIV — начала XVI века. С. 265. 1960 Послания Ивана Грозного. С. 243, 251. 1961 Послания Ивана Грозного. С. 259. 1962 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7–8, 9–10. 1963 Там же. С. 12, 53, 62. 1964 Там же. С. 25, 73. 1965 Там же. С. 35–36, 55, 84. 1966 Там же. С. 39, 55, 90. 1967 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. 1968 Веселовский С. Б. Исследования… С. 103. 1969 Там же. С. 140. См. также: Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 90. 1970 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 400. 1971 Веселовский С. Б. Исследования… С. 103. Ср.: Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. 1972 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 396. 1973 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 398. 1974 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 15, 16, 20, 21, 31, 38. 1975 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1976 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11.С. 396. 1977 Там же. С. 400. 1978 Веселовский С. Б. Исследования… С. 104, 318. Впрочем, С. Б. Веселовский в другом месте своих исследований говорит: «Когда после смерти царицы Анастасии царь утратил душевное равновесие, и «воскурилось гонение великое», Макарий стал терять влияние на царя. На соборе 1560 г. он один решился поднять голос, и не столько за Сильвестра и Адашева, сколько за соблюдение обычаев «правого» суда и против заочного осуждения обвиняемых». — Там же. С. 115–116. 1979 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. См. также: Цветков С. Э. Иван Грозный. 1530–1584. М., 2005. С. 276. 1980 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 140–141. 1981 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136–137. 1982 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 244. 1983 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 222. 1984 Шапошник В. В. Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006. С. 203. 1985 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Т. IX. М., 1989. Стб. 7. 1986 См.: Веселовский С. Б. Исследования… С. 104–105, 115–116. См. также: Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209–210; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232–233. См. также: Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 203. 1987 Следует прислушаться к словам С. Б. Веселовского, который говорил, что на соборе 1560 года Макарий «решился поднять голос, и не столько за Сильвестра и Адашева, сколько за соблюдение обычаев «правого» суда и против заочного осуждения обвиняемых». — Веселовский С. Б. Исследования… С. 115–116. 1988 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1989 Веселовский С. Б. Исследования… С. 104. 1990 Ср.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. 1991 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232. 1992 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1993 Это сравнение касается конечных целей собора 1560 года и учреждения Опричнины. И собор, и введение Опричнины были одинаково направлены на восстановление поколебленных в годы правления Избранной Рады основ русского национального бытия — самодержавной власти, апостольской церкви и православной веры. Различие заключалось в способах достижения этой общей цели: в первом случае посредством мира и согласия, а во втором — насилия и крови. 1994 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 231. 1995 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. 1996 Там же. 1997 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 1998 Там же. 1999 См.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1987. С. 164. 2000 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232. 2001 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. 2002 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. 2003 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. Книга известного отечественного историка И. Я. Фроянова посвящена первому русскому царю и его политике. Иван Грозный и поныне — одна из самых спорных и загадочных фигур русской истории. Мнения о нем разных историков колеблются от самых положительных до резко отрицательных. Жестокий тиран, казнивший множество людей, — и мудрый просветитель, открывавший типографии и школы, развратник на троне — и выдающийся полководец, вдвое увеличивший территорию России, разоритель Великого Новгорода — и созидатель сотен новых городов, церквей, монастырей. Каков он был на самом деле? Об этом рассказывает известный ученый, наш современник, Игорь Яковлевич Фроянов. 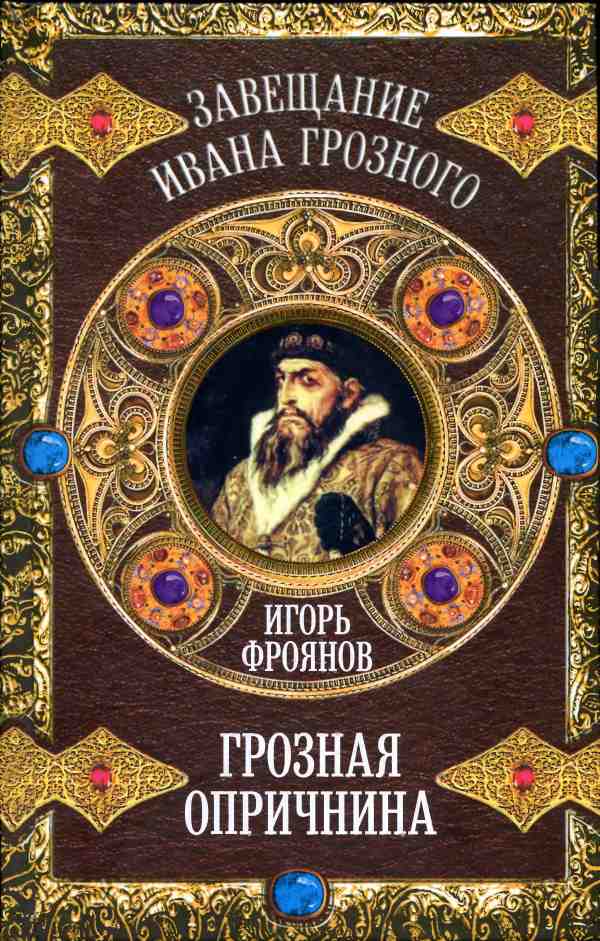 1.0 — создание файла И. Я. Фроянов Грозная опричнина >Проблема Избранной Рады в отечественной историографии была и остается дискуссионной. Что это за учреждение, когда оно в точности возникло, каково его место в системе органов власти Руси середины XVI века — вопросы, до сих пор не нашедшие удовлетворительного разрешения, несмотря на упорное желание многих поколений историков добраться до их сути. Некоторые исследователи пошли по пути отождествления Избранной Рады с уже существующими государственными институтами. Так, еще Н. П. Загоскин усматривал в ней «не что иное, как государеву думу, очищенную и обновленную в своем составе»{1}. По словам В. О. Ключевского, «трудно разобрать, что разумел кн. Курбский под «избранной радой». Но, вероятнее всего, он «имел в виду большую думу»{2}. Помимо старой, традиционной Боярской Думы («большой думы»), имеющей давнюю историю, письменные источники времени Ивана Грозного упоминают Ближнюю Думу. «С царствования Грозного, — говорит В. О. Ключевский, — ближняя дума не раз мелькает в своих и иностранных известиях о высшем московском управлении»{3}. Например, «в грамоте цесаревым послам 475 г. царь пишет о Н. Р. Юрьеве, кн. В. А. Сицком и дьяке ближнем А. Щелкалове, что посылал к ним, послам, для переговоров «бояр, ближнюю свою думу»; думные дворяне Зюзин и Черемисинов, бывшие в числе уполномоченных при заключении перемирия с Баторием в 1578 г., названы «ближние думы дворянами»{4}. Понятие ближняя дума неоднократно встречается в письменных и устных заявлениях митрополита Макария, относящихся к середине XVI века{5}. Неудивительно, что некоторые историки в Избранной Раде увидели Ближнюю Думу. Уже В. О. Ключевский, склонный рассматривать Избранную Раду как «большую думу», замечал при этом, что ее «название напоминает ближнюю думу»{6}. Однако другие ученые, в отличие от В. О. Ключевского, обнаружили в Избранной Раде полное соответствие Ближней Думе. С. В. Бахрушин спрашивал: «Не следует ли в «Избранной раде» видеть «ближнюю думу» официальных источников». Ответ у него был утвердительный{7}. Избранную Раду С. В. Бахрушин представлял в качестве «правительственного кружка», проводившего реформы 1550-х годов{8}. Вместе с тем историк видел в Раде «учреждение неофициальное»{9}. С догадкой С. В. Бахрушина согласился А. А. Зимин. Он писал: «В литературе уже ставился вопрос о так называемой Избранной раде, которая, по словам Курбского, в 50-е годы XVI в. осуществляла правительственные мероприятия. С. В. Бахрушин показал, что это название было переводом термина «Ближняя дума». С этим объяснением в целом следует согласиться. Выделение Ближней думы было одним из следствий расширения состава Боярской думы»{10}. А. А. Зимин, как и С. В. Бахрушин, усматривал в Избранной Раде «правительственный кружок, осуществлявший в 50-х годах XVI в. важнейшие реформы государственного аппарата»{11}. Этот кружок исследователь называет правительством Адашева, которое «выступило с развернутой программой, имевшей своей основной целью укрепление централизованного аппарата власти в интересах класса феодалов в целом». По Зимину, то «было правительство компромисса между отдельными группами феодалов, правительство консолидации сил господствующего класса вокруг растущей великокняжеской власти»{12}. В русле бахрушинских идей размышлял об Избранной Раде и В. М. Панеях, наблюдавший, как вокруг царя Ивана в период с 1547 по 1549 г. сложилась «немногочисленная группа советников», из которой образовался «правительственный кружок», названный князем Андреем Курбским Избранной Радой. В. М. Панеях не исключает того, что «Андрей Курбский заменил этим термином синонимические термины «Ближняя дума», «Тайная дума». Несомненно, Ближняя дума в еще меньшей мере, чем Боярская дума, может быть охарактеризована как институционализированный орган государственной власти или управления»{13}. Сходным образом рассуждали об Избранной Раде А. Г. Кузьмин и В. Д. Назаров. Первый из названных исследователей, наблюдая за расширением в конце 40-х годов XVI века состава Боярской Думы, увидел возникновение «внутри ее «Ближней думы», более известной в литературе под данным Курбским названием «Избранная рада». Никакими специальными установлениями эта структура не утверждалась, но фактически именно здесь решались все принципиальные вопросы государственного управления. И главной фигурой «Ближней думы» становится Алексей Адашев, не имея на первых порах боярского звания»{14}. По В. Д. Назарову, Избранная Рада и Ближняя Дума — различные наименования одного и того же учреждения. Историк говорил: «Для человека, знакомого с текстами документов 50-х годов XVI в., словосочетание «Избранная рада» звучит необычно. Термин, однако, давно прижился в научной, да и популярной литературе. Говорят нередко о правительстве «Избранной рады», хотя подобное сочетание суть тавтология. Князь Андрей Курбский, уже будучи в эмиграции, изобрел «Избранную раду» как привычное для шляхетского уха Великого княжества Литовского понятие. Если сделать его кальку на тогдашний русский язык, то получим ближнюю думу или ближний совет при царе»{15}. С сожалением надо признать: не отличал Избранную Раду от Ближней Думы и автор настоящих строк{16}. Мысль С. В. Бахрушина об Избранной Раде как Ближней Думе разделял в ранней своей работе Р. Г. Скрынников. «Высшим правительственным органом в середине XVI в., — говорил он, — была «ближняя дума», выделившаяся из Боярской думы. Ближняя дума 50-х гг. известна в исторической литературе под названием Избранной рады. Впервые она получила это наименование в сочинениях Курбского»{17}. Избранная Рада (Ближняя Дума), согласно Р. Г. Скрынникову, являлась новым правительством, выдвинувшим «в конце 40-х гг. широкую программу реформ»{18}. Избранную Раду исследователь считал возможным «рассматривать как правительство компромисса», хотя и «с существенными оговорками»{19}. Кроме правительства, т. е. Избранной Рады, Р. Г. Скрынников обнаруживает наличие кружков («группировок»), занимавшихся правительственной деятельностью и входивших полностью или частично в правительство. То были «кружок Адашева»{20} и «кружок Сильвестра»{21}. Наиболее значимым, по мнению историка, являлся «кружок Сильвестра»: «Правительство середины 50-х гг. называют обычно правительством Адашева и Сильвестра. Но доминирующее положение в нем занимал, бесспорно, кружок Сильвестра и князя Д. И. Курлятева, пользовавшийся поддержкой могущественной Боярской думы»{22}; «дворянский кружок Адашева занимал в правительстве Сильвестра подчиненное положение»{23}; «дворянский кружок А. Ф. Адашева занимал подчиненное положение в ближней думе»{24}. В скором времени взгляд на Избранную Раду и ее руководителей у Р. Г. Скрынникова изменился. И уже в книге об Иване Грозном он по-другому трактует реформаторскую роль Алексея Адашева, выставляя его впереди Сильвестра, и отказывается от концепции «кружков» Сильвестра и Адашева, заменяя ее теорией партии Адашева: «Возглавленная Адашевым партия реформ стала ядром правительства, получившего в литературе не вполне удачное наименование Избранной рады»{25}. Новый шаг в эволюции взглядов Р. Г. Скрынникова на Избранную Раду представлен в его книге «Царство террора», изданной в 1992 году. Отдельную ее главу, посвященную Избранной Раде, он начинает словами: «В своей «Истории о великом князе Московском» Андрей Курбский упомянул о том, что при Сильвестре и Адашеве делами государства управляла Избранная рада. Если верить письмам Грозного, Рада состояла сплошь из изменников-бояр. По Курбскому, в Избранную раду входили мудрые мужи. Несмотря на то, что «История» нисколько не уступала по тенденциозности письмам царя, предложенный Курбским термин «Избранная рада» получил признание в исторической литературе и лег в основу многих историографических оценок»{26}. Получается, следовательно, что пристрастный Курбский, тенденциозно рассказывавший об истории правления Ивана IV, ввел в заблуждение доверчивых историков, соблазнив их тем, чего в действительности не было, — мифической Избранной Радой. Правда, Р. Г. Скрынников не решается сказать об этом прямо и потому оставляет читателя с чувством неопределенности. Это чувство по прочтении главы еще больше обостряется, поскольку в ней нет ни определения Избранной Рады как института{27}, ни описания ее функциональной роли. Мы узнаем только, что Избранная Рада вроде бы существовала{28}, что она, кажется, не совпадала с Ближней Думой{29}. Впрочем, Р. Г. Скрынников высказал все же некоторые, так сказать, не акцентированные суждения об Избранной Раде, в частности, по социальному и персональному составу этого учреждения. Он разошелся с Д. Н. Альшицем, опровергавшим «представление о пробоярском составе и ориентации рады». Но вместе с ним отказался признать членство в Избранной Раде князя А. М. Курбского{30}, говорил о вхождении в Раду Алексея Адашева и боярина Д. И. Курлятева, которого назвал «одним из главных вождей» ее{31}. Как бы вскользь, но совершенно неожиданно Р. Г. Скрынников отождествляет Избранную Раду с «сигклитом» царя Ивана{32}, а этот «сигклит» — с Боярской Думой{33}. Но тут же вхождение Курлятева в Раду истолковывает как его приобщение к кругу ««избранных» друзей царя»{34}. Выходит, что Избранная Рада — это не Боярская Дума («сигклит»), а небольшая группа «избранных», находящихся в дружбе с государем. Словом, перед нами какая-то историческая окрошка, приготовленная Р. Г. Скрынниковым, возможно, под воздействием английского историка А. Гробовского, упорно отрицавшего историческую достоверность сведений, содержащихся в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского, особенно по части Избранной Рады, а также относительно деятельности Сильвестра{35}. О том, что здесь мы наблюдаем определенную идейную зависимость российского специалиста от английского, говорит переход Р. Г. Скрынникова на позиции А. Гробовского в вопросе о вымышленном характере Избранной Рады. Произошло это буквально в последние годы. Еще в 1997 году ученый говорит о том, что Избранная Рада образовалась во второй половине 1550-х годов, что «деятельность рады имела важные последствия: именно в середине 50-х гг. были проведены самые значительные и последовательные реформы»{36}. При этом он пользуется понятиями Избранная Рада и Ближняя Дума как взаимозаменяемыми{37}. Примерно так же Р. Г. Скрынников рассуждал и несколько позже: «Династическийкий кризис [1553 г.] привел к важным переменам. По словам Курбского, Адашеву и придворному священнику Сильвестру удалось с помощью бояр и митрополита Макария «отогнать» от царя бояр Захарьиных и составить из мудрых бояр новое правительство — Избранную раду. По словам Грозного, это сонмище (рада) состояло сплошь из изменников — бояр. Несмотря на то, что сочинение Курбского нисколько не уступало по тенденциозности писаниям царя, предложенный термин «Избранная рада» получил признание среди историков. Им стали обозначать правительство реформ. На самом деле реформы начали Захарьины, а закончила враждебная им рада во главе с князем Д. И. Курлятевым-Оболенским»{38}. Однако в недавнем новом издании книги РГ.Скрынникова об Иване Грозном читаем: «Историю рады невозможно связать ни с пожаром 1547 г., ни с удалением «ласкателей». Захарьины не только не лишились влияния после пожара, но, напротив, вошли в силу. Ни о какой замене «ласкателей» мудрыми мужами — радой — не было и речи. Приходится признать, что путаный рассказ Курбского может дать лишь превратное представление о правительстве реформ середины XVI в. В отличие от Избранной рады Ближняя дума была реальным учреждением, действовавшим на протяжении многих лет»{39}. Так историк перевел Избранную Раду в разряд нереальных учреждений. Все эти его идейные перепады могут говорить, на наш взгляд, лишь об одном: недостаточной продуманности исследователем показаний источников. В последнее время И. П. Ермолаев развивал мысль об Избранной Раде как «кружке приближенных» Ивана IV, который он вслед за другими историками называл правительством царя{40}. Отождествление Избранной Рады с Ближней Думой (тем более с большой Боярской Думой) было отвергнуто рядом историков. По словам С. Ф. Платонова, Избранная Рада формировалась постепенно за спиной Ивана Грозного, по молодости лет не занимавшегося государственными делами, «из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым». Историк вынужден признать, что «состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом думы «бояр всех», исконного государева совета, ни с ближней думою, интимным династическим советом. Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей». Приведенные высказывания С. Ф. Платонова взяты нами из его книги об Иване Грозном{41}. В лекциях по русской истории он говорил о Сильвестре, который «собрал около царя особый круг советников, называемый обыкновенно «избранною радою»… Это не была ни «ближнияя дума», ни дума вообще, а особая компания бояр, объединившихся в одной цели овладеть московскою политикою и направить ее по-своему… Нет сомнения, что «избранная рада» пыталась захватить правление в свои руки и укрепить свое влияние на дела рядом постановлений и обычаев, не удобных для московских самодержцев»{42}. С. Ф. Платонов полагал, что Избранная Рада «служила орудием не бюрократически-боярской, а удельно-княжеской политики», желая «ограничения царской власти не в пользу учреждения (думы), а в пользу известной общественной среды (княжат)»{43}. В рецензии А. Е. Преснякова на книгу С. Ф. Платонова «Иван Грозный» проводится прямое противопоставление Избранной Рады Ближней Думе{44}. М. К. Любавский в Избранной Раде видел совет, без которого царь не решал никаких дел. «На первый взгляд, — замечал он, — кажется, что эта избранная рада была все тот же интимный совет, ближняя дума или комнатная, с которой вершил всегда дела отец Ивана Грозного Василий Иванович. С формальной стороны избранная рада, конечно, была продолжением ближней думы. Но по действительному значению своему она была далеко не то, что прежняя ближняя дума: избранная рада стала не только помогать самодержавной царской власти, но и опекать ее, ограничивать ее»{45}. Избранная Рада представлялась Р. Ю. Випперу «тесным советом» при Иване Грозном. Отметив, что название Избранная Рада принадлежит кн. Курбскому, историк говорит: «Ни у кого другого этого названия не встречаем; а русский эмигрант, разумеется, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, «паны-рада»{46}. По мнению К. В. Базилевича, «инициаторами в образовании «Избранной рады» были близкие к великому князю священник Сильвестр и дворянин Алексей Адашев… После пожара и московского восстания 1547 г. они собрали вокруг себя из княжеской и боярской знати людей, образовавших неофициальный совет при московском государе. Его следует рассматривать как собрание людей, принадлежавших к дворцовой знати, одинаково смотревших на задачи внутренней и внешней политики. Позже князь Курбский назвал его «Избранной радой» (советом) лучших, избранных людей»{47}. К. В. Базилевич полагал, что Рада «не имела постоянного состава». Историк верно, на наш взгляд, угадал характер Избранной Рады, считая ее «неофициальным советом». Но с ним трудно согласиться, когда он говорит, что этот совет (Рада) не имел постоянного состава, Если бы это было так, то Избранная Рада была бы долговечнее, чем это произошло в действительности. Д. Н. Альшиц, обращаясь к Избранной Раде, подчеркивает, что царь Иван никогда не отождествлял ее «со своим официальным, лучше сказать традиционным «синклитом», т. е. Боярской думой или даже с Ближней думой»{48}. Довольно показательно, по Д. Н. Альшицу, то, что «оба полемиста — Иван Грозный и Курбский наделяют «совет», о котором у них идет речь, — Избранную раду функциями директории, фактического правительства. Поэтому точнее всего… Избранную раду правительством и называть. Это тем более верно, что в отличие от органа совещательного и законодательного — Боярской думы Избранная рада была органом, который осуществлял непосредственную исполнительную власть, формировал новый приказный аппарат и руководил этим аппаратом. Царь входил в правительство, фактически управлявшее страной в конце 40–50-х гг., и был удостоен в нем «честью председания» (по его утверждениям, лишь номинального). Он участвовал в его работе вместе со своими «друзьями и сотрудниками» Сильвестром и Адашевым. Это важнейшее обстоятельство придавало Избранной раде характер управляющей инстанции»{49}. Группа, правившая в 50-е годы XVI века, — так характеризовал Избранную Раду Я. С. Лурье{50}. Интересные соображения по вопросу о соотношении понятий Избранная Рада и Ближняя Дума привел В. Б. Кобрин. Имея в виду своих предшественников в деле изучения эпохи Ивана Грозного, он пишет: «Предполагали, что термином «Избранная рада» Курбский передал русский термин «Ближняя Дума», круг наиболее близких к царю бояр, с которыми он советуется постоянно. Однако источникам XVI века Ближняя дума еще не известна, она появляется только в XVII веке. Кроме того, Сильвестр, будучи священником, не мог входить ни в Боярскую думу, ни тем более в ее часть — Ближнюю. Отсюда порой делают вывод, что Сильвестр не входил в Избранную раду. Но ведь вопрос можно поставить и иначе: раз Сильвестр входил в Избранную раду, она не была Ближней думой. Ведь об участии Сильвестра в правительственной деятельности сохранилось немало известий, возникших самостоятельно, независимо друг от друга… Вполне вероятно, что этот правительственный кружок был неофициален и не имел твердого, прочного названия»{51}. Среди названных положений В. Б. Кобрина наибольшую ценность, по нашему мнению, представляет положение о неофициальном статусе Избранной Рада, т. е. о ее неформальном характере. Именно неформальный характер данного государственного института позволяет понять многое в его загадочной и во многом темной истории. Возражения историков против отождествления Избранной Рады с Ближней Думой не произвели серьезного впечатления на И. Гралю. И он убежденно заявил, что точка зрения С. В. Бахрушина «решающим образом повлияла на историографию», что вывод его «не был опровергнут», и «большинство исследователей признает существование Избранной рады», отождествляя ее с Ближней Думой{52}. Предшествующий историографический обзор показывает поспешность подобных заключений. Сам же И. Граля считает бесспорным «факт образования на рубеже 50-х при царе группы советников, тесно связанной с Ближней думой или даже идентичной ей»{53}. Следует упомянуть еще об одной концепции Избранной Рады, основанной на толковании слова избранный в значении выборный, избранный. Еще В. И. Сергеевич, отвечая на вопрос, из кого состояла Рада, замечал, что в нее «входили не все думные чины, а только некоторые из них, избранные»{54}. М. Н. Покровский, касаясь сюжета об управлении государством «в дни молодости Грозного», говорил, что во главе этого управления «стояла не вся дума, а небольшое совещание отчасти думных, а отчасти, может быть, и недумных людей, но члены этого совещания были избраны не царем, а кем-то другим. В пылу полемики Грозный даже утверждал потом, что туда нарочно подбирались люди для него неприятные, но из его же слов видно, что неприятны они были своей самостоятельностью по отношению к царской власти, и возможно, что именно этот признак и решал выбор. Если понимать слова Курбского буквально, то это совещание и называлось «советом выборных» — избранной радой, выборных, разумеется, от полного состава боярской думы, хотя и не всегда из этого состава. Повинуясь обстоятельствам, бояре должны были допустить сюда людей, не принадлежавших к их корпорации…»{55}. Представления М. Н. Покровского об Избранной Раде получили недавно развитие в исследовании В. В. Шапошника, который, как и его предшественник, полагает, будто Курбский слово избранная применяет в значении выбранная{56}. Правда, здесь же мы узнаем от автора, что «беглый боярин» хотя и пользуется данным словом в указанном значении, но подразумевает в нем и другой смысл — лучшая{57}. Хотелось бы, конечно, большей определенности в этом принципиальном вопросе. Разумеется, вряд ли кто-нибудь решится возражать В. В. Шапошнику в том самоочевидном вопросе, что лица, входящие в Раду, не избирались «прямым, равным и тайным голосованием»{58}. Сомнение в другом: избирались ли они вообще. Подобное сомнение тем более уместно, что к мысли об избрании «радников» историк приходит довольно оригинальным способом. Он утверждает, будто лица, входящие в Раду, пользовались поддержкой «определенных социальных групп», чьи интересы отражали, и потому были «более-менее самостоятельны по отношению к царской власти»{59}. Этой поддержке В. В. Шапошник придает особое значение, поскольку «в глазах беглого боярина (Курбского. — И.Ф.) именно поддержка определенных общественных сил делала членов «Рады» «избранными», т. е. выбранными{60}. Тогда при чем, спрашивается, здесь выборы? При том, оказывается, что царь по собственному усмотрению выбирал из различных общественных групп (сословий) своих советников и вводил их в Избранную Раду, полагая, что они «будут выражать интересы различных групп — бояр, дворян и духовенства»{61}. Но царский выбор есть, собственно, назначение. В результате получается так, будто Иван IV назначил представителей от разных сословий и собрал их вокруг себя в качестве советников, «зависимых не только и не столько» от него, сколько от этих сословий{62}. Неудивительно, что для В. В. Шапошника Избранная Рада стала воплощением «некой формы представительства», схожей с Земским собором{63}. И В. В. Шапошник говорит об этом вполне определенно: «Рада являлась представительным органом, своего рода моделью Земского собора…»{64}. Если названные выше исследователи, несмотря на расхождения во взглядах на Избранную Раду, все же признавали ее реальность, то в лице И. И. Смирнова, А. Гробовского и А. И. Филюшкина мы встречаемся с историками, подвергающими сомнению сам факт существования данного института. И. И. Смирнов, рассмотрев ряд исследований, затрагивающих проблему Избранной Рады, пишет: «Обзор литературы вопроса показывает, что независимо от имеющихся у тех или иных авторов различий во взглядах на «избранную раду», общей чертой всех исследователей этого вопроса является то, что все они берут за исходный момент своих исследований понятие «избранная рада» как нечто наперед данное и подлежащее лишь истолкованию и расшифровке. Иными словами, все исследователи молчаливо признают за некую аксиому то, что «избранная рада» — это реально существовавший факт, и дело исследователя — лишь правильно понять и объяснить существо этого факта. При этом странным образом забывается о том, что, прежде чем предлагать то или иное толкование «избранной рады», следует исследовать вопрос о происхождении этого понятия. Речь в данном случае идет, конечно, не о разъяснении этимологии термина «избранная рада», а о выяснении литературной истории этого термина, т. е. о выяснении того, что за источник, откуда мы узнаем об «избранной раде», и насколько можно доверять этому источнику»{65}. Изучив под этим углом зрения соответствующие исторические данные, И. И. Смирнов пришел к выводу о том, что «рассказ Курбского об «избранной раде», содержащийся в «Истории о великом князе Московском» и являющийся основным источником по вопросу об «избранной раде», представляет собою образец применения Курбским своих теоретических воззрений к освещению событий политической истории Русского государства и не может быть правильно оценен вне общей теории Курбского о принципах управления государством»{66}. Концепцию Избранной Рады надлежит, следовательно, рассматривать как отражение этой теории, а самое Раду — как некий идеальный тип государственного учреждения, существующий в теории, а не в жизни. Вот почему, «изображая «избранную раду» как продукт творчества Сильвестра и Адашева, Курбский коренным образом искажает ту реальную обстановку, в которой сложилось правительство Русского государства в 50-х годах XVI в.»{67}. Но это не значит, что Курбский летал в заоблачной выси фантазии, будучи совершенно оторванным от исторической действительности. Преподнося Избранную Раду в качестве правительства царя Ивана, он мог «опираться на реальную практику управления государственными делами в Русском государстве XVI в. Этой реальной основой рассказа Курбского об «избранной раде» являлась та роль, которую играла в Русском государстве XVI в. Боярская дума как в полном ее составе («все бояре»), так и особенно в форме «ближней думы», представляющей собой ядро наиболее приближенных к царю бояр, своего рода правящую верхушку Боярской думы»{68}. Отвечая на вопрос о происхождении термина «Избранная Рада», И. И. Смирнов говорит: «Можно считать весьма вероятным, что он был если не прямо взят Курбским из Степенной книги с дальнейшим полонизированием (вместо «думы» «рада»), то, во всяком случае, образован в стиле и манере макарьевской литературной школы. Таким образом, под «избранной радой» Курбский, несомненно, имел в виду «ближнюю думу»{69}. Идеи И. И. Смирнова были восприняты А. Н. Гробовским, который полностью отрицал существование Избранной Рады как некоего государственного органа, считая ее историографической легендой. «Избранная рада с ее обширным составом, программами и политикой, — писал он, — не что иное, как чистый вымысел»{70}. Пример А. Н. Гробовского увлек А. И. Филюшкина, который, рассмотрев переписку Ивана Грозного с Курбским, а также «Историю и великом князе Московском», написанную беглым князем, пришел к следующему выводу: «До известий ППГ (Первого послания Грозного. — И.Ф.) о «Раде» Курбский не знал о существовании такого правительства. Все его известия вторичны, представляют собой вывернутые наизнанку идеи Грозного»{71}. Использование Курбским термина «Рада» доказывает, по Филюшкину, лишь одно: «выдуманность этого правительства»{72}. Вместе с тем оно «указывает на памфлетный, пропагандистский характер ИВКМ (Истории о великом князе Московском), нацеленной целиком на читателя из Польши и Литвы»{73}. Не лучше обстоит дело и с информацией о Сильвестре и Адашеве, сообщаемой Иваном Грозным. Она скорее отражает «сформировавшиеся к 1564 г. представления Ивана IV об истории 1550-х гг., чем реальное положение вещей»{74}. Общий вывод А. И. Филюшкина состоит в том, что «история «Избранной Рады» — это политическая и историографическая легенда, сформировавшаяся на страницах переписки Грозного с Курбским. Эта легенда в большей степени отражает процессы полемики и политической борьба в общественной мысли в 1560–1570-е гг., чем реальную историю 1550-х гг.»{75}. Современные историки по-разному относятся к построениям А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина — положительно и отрицательно. А. П. Павлов, например, вслед за этими исследователями серьезно сомневается «в самом факте существования особого правительства реформаторов — так называемой «Избранной Рады». Скорее всего, под «Избранной Радой» у Курбского следует понимать собирательный, литературный образ «добрых», «избранных» советников, прежде всего Адашева и Сильвестра, в противовес «злым» советникам, которые подтолкнули царя Ивана к установлению единодержавного тиранического правления»{76}. Однако новации А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина встретили критику со стороны других известных историков русского Средневековья. По словам И. Грали, «труд Гробовского, хотя и вызывает интерес, имеет существенные недостатки, которые серьезно ослабляют убедительность выдвинутых аргументов»{77}. А. Л. Хорошкевич, оценивая наблюдения А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина в области изучения истории Избранной Рады, говорит: «Попытка современного английского историка А. Н. Гробовского пересмотреть вопрос о существовании Избранной рады и преуменьшить значение Алексея Адашева, поддержанная А. И. Филюшкиным, предпринявшим чисто формальное исследование политической элиты России середины XVI в., основана на полном недоразумении, игнорировании нарративных и некоторых делопроизводственных источников»{78}. Далее А. Л. Хорошкевич замечает: «Отрицая роль Сильвестра в государственной деятельности и его влияние на царя, А. Гробовский не использовал посольских дел. То же самое проделал и А. И. Филюшкин, формально, как и А. Н. Гробовский, рассматривающий кадровые передвижки в составе Боярской думы»{79}. Эти критические замечания И. Грали и А. Л. Хорошкевич, обращенные в адрес А. Н. Гробовского и А. И. Филюшкина, далеко не беспочвенны. Думается, что дальнейшее изучение Избранной Рады должно выйти за рамки сопоставления ее (а тем более отождествления) с формальными институтами — Боярской Думой, Ближней Думой, правительством, представительными учреждениями и т. п. На наш взгляд, Избранная Рада нуждается в рассмотрении как неформальная и в некотором роде негласная организация лиц, объединенных общей идеей и преследующих цель «обволакивания» самодержавной власти ради реализации собственных интересов. И здесь нет ничего сугубо специфичного, характерного лишь для середины XVI века. В данном случае перед нами известное продолжение политики, заявившей о себе в конце XV столетия, когда при дворе Ивана III возникла еретическая партия, атаковавшая православную веру и церковь, пользуясь попустительством и даже поддержкой московского великого князя. Большие надежды в осуществлении своих замыслов еретики, возглавляемые протопопом Алексеем, дьяком Федором Курицыным и великой княгиней Еленой Волошанкой, возлагали на сильную, неограниченную великокняжескую власть. Чтобы добиться управляемости властью великого князя и превратить ее в послушный инструмент своей политики, они выдвинули план передачи великокняжеского стола сыну Волошанки Дмитрию. Этот план не состоялся. На престол взошел Василий III. Еретики подверглись казням и преследованиям. Атака враждебных русской церкви сил была отбита. Но, оправившись от разгрома, партия еретиков, руководимая теперь Вассианом Патрикеевым, попыталась, хотя бы частично, сделать то, что не удалось совершить Федору Курицыну и его единомышленникам. Казалось, для этого сложилась благоприятная конъюнктура: Вассиан сблизился с Василием III, вошел к нему в доверие и стал «временным человеком», которого люди боялись больше, нежели великого князя. Однако снова суд, опалы и преследования. Вторая попытка наступления на русский церковно-монастырскии уклад и святоотеческую веру окончилась провалом. Рассыпались надежды и на самодержавную власть, связь которой с церковью становилась все более прочной, а самодержец все зримее выступал в роли Удерживающего, или Заступника святой апостольской церкви. Так перед врагами русского православия и церкви встала задача ограничения самодержавия, превращения его из власти «по Божьему изволению» во власть «по многомятежному человеческому хотению»{80}. Подобное превращение самодержавной власти являлось началом разрушения «Святорусского царства», только что возвестившего о себе всему тогдашнему миру. Названную задачу, не подлежащую, разумеется, разглашению, и предстояло решить Избранной Раде. Этим, по-видимому, объясняется негласный, в определенной степени скрытый характер Рады и, в частности, то обстоятельство, что до сих пор нам практически неизвестен ее персональный состав, тогда как по вполне ясным намекам источников это было достаточно многочисленное сообщество. В самом деле, когда исследователи говорят об Избранной Раде как учреждении, отличном от Ближней Думы (а таковой Рада и являлась), то обычно приводят считаные имена лиц, причастных к ней: Сильвестр, А. Ф. Адашев, Д. И. Курлятев, а также Макарий и А. М. Курбский, но оба — под сомнением{81}. Может показаться, что причиной затруднений ученых в данном вопросе послужило то, что Рада «не оставила никаких следов в официальных памятниках, и сведения о ней мы черпаем почти исключительно из публицистики XVI века»{82}. Пусть будет так. И все же главная причина, на наш взгляд, состоит не в этом, во всяком случае, — не только в этом. Весьма красноречив тот факт, что и Грозный и Курбский завели речь на тему о советниках, стеснявших самодержавную власть, уже после того, как с ними было покончено. Ранее об их действительной роли, судя по всему, мало кто знал, особенно за пределами дворца. Завуалированности их действий способствовало то обстоятельство, что они проводили свою политику не столько через официальные институты и учреждения, сколько посредством прямых контактов с государем{83}. Отсюда следуют, по меньшей мере, два вывода: 1) Избранная Рада, имея неформальный характер, представляла собой поставленное над существующими государственными органами негласное политическое объединение{84}, официальные сведения о котором не доводились до русского общества{85}; 2) В нераспространении этих сведений, хотя и по разным основаниям, были равно заинтересованы как царь Иван, так и Курбский вместе с другими своими сотоварищами: царь потому, что огласка политики Рады, обсевшей государя плотным кольцом, бросала тень на самодержца как суверена и вообще на русское «самодержавство», только что торжественно провозглашенное актом венчания Ивана IV на царство и объявленное божественным по происхождению; князь же Андрей со своими единомышленниками потому, что эта огласка обнажала предосудительные планы их организации. И только после разгрома Избранной Рады, когда ни одной, ни другой стороне скрывать было нечего, она стала предметом обсуждения в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским и в «Истории» последнего. О чем извещали современников и потомков царь Иван и бывший его боярин Андрей Курбский? Что они сообщали об Избранной Раде? * * *Высказывания Грозного, которые можно связать с Избранной Радой, сосредоточены главным образом в первом царском послании Курбскому (Москва, 5 июля 1564 г.). Долго, стало быть, молчал Иван Васильевич и наконец заговорил, побуждаемый к тому «бесосоставной грамотой» князя-изменника. Надо заметить, однако, что в лексике государя термин «Избранная Рада» отсутствует. Зато он нередко пользуется словами: сигклит (синклит){86}, синклитство{87}, советники{88}, согласники{89}, единомысленники{90}. Слово «сигклит» («синклит») означало в устах Ивана, по всей видимости, Боярскую Думу{91}. «Аще благ еси и прав, — писал он Курбскому, — почто имея в сигклите пламени паляще, не погасил еси, но паче разжегл еси?»{92}. Я. С. Лурье и О. В. Творогов предлагают следующий перевод этого текста. «Если же ты добр и праведен, то почему, видя, как в царском совете разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее разжег?»{93}. «Царский совет» есть, по-видимому, Боярская Дума. К этому добавим: Грозный винил Сильвестра и Адашева за то, что они «единомысленника своего, князя Дмитрия Курлятева к нам в синклит припустили»{94}. Царь в данном случае имел в виду, скорее всего, Боярскую Думу{95}. Важно отметить, что Сильвестр и Адашев «припустили» Курлятева в Думу после московского восстания 1547 года{96} (где-то в самом конце 40-х годов{97}), когда они вошли во власть. Грозный вспоминал также случай с князем Семеном Ростовским, который, как выразился самодержец, «по нашей милости, а не по своему достоинству, сподобен быти от нас синклитства»{98}, т. е. введен в Боярскую Думу{99}. Несколько сложнее обстояло дело с употреблением Иваном Грозным слова «советник» («советники»). Выявляются, по крайней мере, два смысловых значения, вкладываемых царем Иваном в данное слово. Грозный, во-первых, разумеет в нем государевых советников, роль которых издавна присвоили себе бояре, с которыми князья обязаны были думу думать и совет держать{100}. Подобная практика сохранялась очень долго, видоизменяясь по ходу времени и приспосабливаясь к новым историческим условиям. В модифицированном виде мы ее встречаем и в XVI веке. Известное ее отражение находим в преамбуле первого Послания Ивана Грозного к Андрею Курбскому. «Сего православного истиннаго християнского самодержавства, многими владычествы владеющаго, повеления, наш же християнский смиренный ответ бывшему прежде православнаго истиннаго христианства и нашего самодержания боярину и советнику и воеводе, ныне же крестопреступнику честнаго и животворящаго креста Господня…»{101}. Здесь царь называет придворные чины и звания, упоминая среди них боярскую должность советника, сочетающую одновременно право и обязанность боярина подавать государю советы по обсуждаемым в Боярской и Ближней Думах вопросам государственной жизни и текущей политики. Наряду с этим значением термина «советник» как придворной должности, Грозный пользуется словом «советники», придавая ему иной смысл: союзники, сообщники, единомышленники, т. е. учинившие сговор «согласники», группирующиеся вокруг Сильвестра и Алексея Адашева. Отношение к ним у государя весьма негативное. Он дает им резко отрицательную оценку, именуя их «сатанинскими слугами»{102}, «бесовскими служителями»{103}, «злобесовскими советниками»{104}, «злобесными единомысленниками»{105}, «злыми советниками»{106}, «злодейственными изменными человеки»{107}. Чем заслужили советники Сильвестра и Адашева столь нелестные аттестации? Иван Грозный, обращаясь к Андрею Курбскому, так отвечает на этот вопрос: «Понеже бо есть вина и главизна всем делом вашего злобеснаго умышления, понеже с попом положисте совет, дабы аз словом был государь, а вы б с попом делом (владели)»{108}. Аналогичная мысль звучит и во втором Послании Грозного Курбскому: «Или вы растленны, что не токмо похотесте повинными мне быти и послушными, но и мною владеете, и всю власть с меня сияете, и сами государилися, как хотели, а с меня есте государство сняли: словом яз был государь, а делом ничево не владел»{109}. Так Курбский и его «единомышленники» отторгли под свою власть державу, данную Ивану Богом и полученную им от прародителей{110}. Главными виновниками покушения на власть были, по словам Грозного, поп Сильвестр и Алексей Адашев, которые «сдружились и начаша советовати отаи нас, мневше нас неразсудных суще; и тако, вместо духовных, мирская нача советовати, и тако помалу всех вас бояр в самовольство нача приводите нашу же власть с вас снимающе, и в супротисловие вас приводяще, и честию вас мало не с нами равняющее, молотчих же детей боярских с вами честью уподобляюще»{111}. Особенно раздражал Ивана поп Сильвестр, забывший о своем священническом сане ради мирской власти: «Или мниши сие светлость благочестива, еже обладатися царьству от попа невежи и от злодейственных изменных человек, и царю повелеваемому быти?»; «или убо сие свет, яко попу и прегордым лукавым рабом владети, царю же токмо председанием и царскою честию почтенну быти, властию же ничим же лучше быти раба?»{112}. Заслуживает пристального внимания свидетельство Ивана Грозного о политике Сильвестра и Адашева, приводящей в «самовольство» и «супротисловие» бояр царю, производящей «поравнение» в чести бояр с государем, а бояр — с детьми боярскими. Если оно соответствовало действительности, то придется признать, что реформаторы, возглавляемые Сильвестром и Адашевым, склонялись к переустройству русского служилого сословия на манер литовско-польского шляхетства, воспринимавшего своего короля как первого среди равных (и потому — выборного), но отнюдь не как Богом данного государя (и поэтому — наследственного). Речь, в конечном счете, шла об изменении политического строя Руси, причем о таком изменении, какое в исторических условиях той поры, характеризуемых смертельной угрозой извне, было бы, несомненно, гибельным для страны. Но, чтобы добиться успеха, реформаторы должны были заставить самодержца поделиться с ними властью. И, казалось, они здесь преуспели. Во всяком случае, Иван Грозный писал Андрею Курбскому, напоминая ему о Сильвестре, Адашеве и Курлятеве, которые «от прародителей наших данную нам власть от нас отъяша, еже вам бояром нашим по нашему жалованию честию и преседанием почтенным быти; сия убо вся по своей власти, а не в нашей положиша, яко же вам годе, и яко же кто как восхощет; потом же утвердися дружбами, и всю власть во всей своей воли имый, ничто же от нас пытая, аки несть нас, вся строения и утвержения по своей воле и своих советников хотения творяще»{113}. Само собой разумеется, что без кадровой опоры осуществить все это узурпаторам было бы невозможно. И они, по свидетельству царя, «ни единыя власти оставиша, идеже своя угодники не поставиша, и тако во всем свое хотение улучиша»{114}. Сейчас не время рассуждать о том, насколько справедливы жалобы Ивана Васильевича{115}. Достаточно в данный момент подчеркнуть, что Сильвестр и Адашев вместе со своими «советниками», как утверждал Иван Грозный, не только противились самодержавной власти, но добились еще и фактического ее ограничения. Однако этим не исчерпывались, по Грозному, «злобесные» дела Курбского, его «друзей и назирателей». Иван говорит, что они, помимо «истиннаго християнского самодержавства», нападали также на православную Веру и апостольскую Церковь. Это и понятно, поскольку Самодержавие и Церковь составляли, согласно воззрениям тех времен, единое целое, что превосходно выражено в грамоте (1393) константинопольского патриарха Антония великому московскому князю Василию Дмитриевичу, где читаем: «Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собою, и невозможно отделить их друг от друга»{116}. Поэтому всякое выступление против русского самодержавия означало, в конечном счете, выступление против существующей в России православной церкви, и наоборот. Понятно также, что любое противоцерковное действие являлось по существу антиправославным деянием. В исторической науке обвинениям религиозного свойства, вмененным Курбскому царем Иваном, не уделялось должного внимания{117}, что приводило историков, сосредоточенных исключительно на политической борьбе вокруг самодержавия, к одностороннему освещению деятельности Избранной Рады. Это тем более досадно, что Грозный ясно и определенно, притом неоднократно, заявляет о попрании Курбским и другими представителями Рады «православнаго истиннаго христианства». Он пишет ответ свой князю Андрею Михайловичу Курбскому — «крестопреступнику честнаго и животворящаго креста Господня, и губителю хрестиянскому, и ко врагом християнским слагателю, отступшему божественнаго иконнаго поклонения и поправшему вся священная повеления, и святые храмы разорившему, осквернившему и поправшему священныя сосуды и образы, яко же Исавр, Гноетезный, Армении…»{118}. В. Б. Кобрин и Я. С. Лурье, комментируя цитированный текст, говорят: ««Врагами христианства» царь называет польско-литовских правителей и военачальников, которых русские источники того времени неоднократно обвиняли в разграблении православных церквей; с этим связано и сравнение их с тремя византийскими императорами-иконоборцами — Львом III Исавром (717–741 гг.), Константином V Копронимом (т. е. «Навозоименным», по-древнерусски «Гноетезным», 741–775 гг.) и Львом V Армянином (813–820 гг.)»{119}. Ради точности надо заметить, что Грозный в данном случае сравнивает с тремя византийскими императорами-иконоборцами не польско-литовских правителей и военачальников, а князя Курбского, отвергшего «иконное поклонение». Следовательно, данное сравнение между Курбским и названными басилевсами проводилось царем Иваном, прежде всего, по линии отказа от почитания икон. Оно должно было подчеркнуть всю серьезность обвинения, высказанного Иваном Грозным в адрес Андрея Курбского, поскольку упомянутые византийские монархи принадлежали к числу наиболее активных иконоборцев. Лев III, например, законодательным путем отменил культ икон, собрав заседание «синклита» («селенций»), на котором «предложил высшей знати подписаться под эдиктом, запрещающим иконопочитание»{120}. Другой иконоборец, Константин V, пытался укрепить иконоборчество «решениями вселенского собора. С 10 февраля по 27 августа 754 г. заседал собор в одном из предместий Константинополя. 338 представителей церкви единогласно приняли положения о том, что иконопочитание возникло вследствие козней сатаны. Писать иконы Христа, Богоматери и святых — значит оскорблять их «презренным эллинским искусством». Запрещалось иметь иконы в храмах и частных домах… Все «древопоклонники и костепоклонники» (т. е. почитавшие мощи святых) предавались анафеме и особо Иоанн Дамаскин и Герман (патриарх Константинопольский. — И.Ф.)»{121}. Важно напомнить, что отвержение почитания икон было присуще ересям тех времен — несторианской, монофиситской, монофелитской, павликианской и пр{122}. Поэтому императоры-иконоборцы благосклонно относились к еретикам. В частности, Лев III и Константин известны терпимостью к павликианам, которых они причисляли к своим союзникам в борьбе против иконопоклонников{123}. Такого рода отношение верховной власти к еретикам способствовало оживлению и некоторому подъему еретических движений в Византии. По степени активности этих движений можно судить о том, насколько терпимым и, быть может, сочувственным являлось отношение к ересям наверху в тот или иной период византийской истории. Данный принцип универсален. Он применим и к истории Руси. Мы ведь видели, как покровительственное отношение Ивана III к еретикам послужило мощным стимулом развития «ереси жидовствующих» в Русском государстве конца XV — начала XVI века. Забегая несколько вперед, скажем: названный принцип позволяет многое понять и в исторической ситуации, сложившейся на Руси в середине XVI века. Детальнее об этом потолкуем позже, а сейчас вернемся к Андрею Курбскому и его товарищам, обвиняемым Иваном Грозным в религиозных преступлениях. Грозный изображает Курбского в компании злобных врагов православия («к ним же ты любительне совокупился еси»{124}), которые, отвергнув иконы и таинства, отпали от Бога («не токмо тебе сему ответ дати, но и противу поправших святые иконы, и всю христианскую божественную тайну отвергшим, и Бога отступльшим»{125}). «Христианская Божественная Тайна» есть, надо думать, установленные Иисусом Христом таинства, такие, например, как Крещение, сообщающее благодать Св. Духа, очищающее от грехов и перерождающее, как Причащение, соединяющее со Христом, делающее причастником жизни вечной, и Покаяние, дарующее прощение грехов{126}. Царь Иван вполне обоснованно трактует отвержение таинств как отступничество от Господа Бога Иисуса Христа, обвиняя в этом отступничестве князя Курбского и его друзей. Отступив, по версии Грозного, от Христа, Курбский не мог не отпасть от православной Церкви. Иван Грозный говорит: «Ваша злобесная на церковь восстания разсыплет сам Христос»{127}. При этом он не поясняет, в чем заключалось «злобесное на церковь восстание» Курбского с единомышленниками. Правда, Иван уподобляет поведение князя поступкам библейского царя Иероваама I. Грозный писал Курбскому: «Смотри же и древняго отступника Еровоама, сына Наващща, како отступи з десятью коленми израилевыми, и сотвори царьство в Самарии и отступи от Бога жива и поклонися тельцу, и како убо смятеся царьство Самаринское неудержанием и вскоре погибе…»{128}. Из Ветхого Завета узнаем о разделении Израиля на два царства, произошедшем при Ровоаме, сыне Соломона и Наамы: «И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам» (3 Царств, 12). Отделившиеся десять колен Израиля послали за вернувшимся из Египта Иеровоамом, сыном Навата, и «воцарили» его. И вот «обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем; оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому. И посоветовавшись царь сделал двух золотых тельцов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, [и оставил храм Господень]. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, который он произвольно назначил; и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение» (Там же). Можно думать, что сравнение Курбского с Ровоамом, отступившим «от Бога жива» и воскурившим фимиам «тельцу», понадобилось Грозному для того, чтобы усилить впечатление от возлагаемых на Курбского «со товарищи» обвинений в измене православию и русской церкви. Для нас, однако, важен сам факт обвинения Курбского в предательстве веры и церкви, в злоумышлении по отношению к ним, идущем от происков сатаны: «Антихристаже вемы: ему же вы подобная творите злая советующе на церковь Божию»{129}. О «восстании на церковь» кн. Курбского с «единомысленники» Иван Грозный говорит на протяжении своего послания неоднократно. Вот еще один характерный пример: «На церковь восстаете и не престающе нас всякими озлоблении гонити, и иноплеменных язык на нас совокупляюще всякими виды, гонения ради и разорения на християнство, яко же выше рех, на человека возъярився, на Бога вооружилися есте и на церковное разорение. К гонению — яко же рече божественный апостол Павел: «Аз же, братие, аще обрезание еденаче проповедую, что и еще гоним есмь; убо упразнися соблазн креста. Но да и содрогнутся развещевающии сия!» И аще убо, яко же вместо креста обрезание тогда потребна быша, тако же убо и вам, вместо государского владения, потребно самовольство. Ино ныне свободно есть: почто и еще не престаете гонити?»{130}. В. Б. Кобрин и Я. С. Лурье следующим образом комментируют данный текст: «Иван сравнивает «избранную раду» с гонителями христианства — сторонниками ортодоксального иудейства…»{131}. Имел ли Грозный хоть какие-нибудь основания для столь смелых сравнений? Не сочинял ли он? Если исходить из сведений, содержащихся в его послании Курбскому, придется признать, что некоторые основания для такого рода сравнений царь имел. Согласно намекам государя, Андрей Курбский был любителем Ветхого Завета: «Аще ветхословие любиши, к сему тя и приложим»{132}. Это — многозначительный намек, косвенно уличающий Курбского в склонности к «ереси жидовствующих», возникшей на Руси в конце XV века и в различных модификациях дошедшей до времен Ивана Грозного. Приверженцы этой ереси, как известно, отдавали предпочтение Ветхому Завету перед Новым Заветом. По-видимому, Курбский испытал некоторое их влияние. Следы подобного влияния видны в некоторых местах писем Курбского Грозному. В третьем Послании князя Курбского царю Ивану встречаем, как нам кажется, довольно примечательный в данном отношении текст: «Очютися и воспряни! Некогда поздно, понеже самовластие наше и воля, аже до распоряжения души от тела ко покаянию данна я и вложенная в нас от Бога, не отъемлетца исправления ради нашего на лутчее»{133}. Самовластие и воля — понятия, связанные с поднятыми в еретической литературе конца XV — середины XVI века проблемами самовластия человека и его души, свободы воли и выбора. Вспомним «Лаодикийское послание» Федора Курицына, открывающееся загадочными словами: «Душа самовластна, заграда ей вера»{134}. Как справедливо замечает Я. С. Лурье, «начало «Лаодикийского послания» представляет несомненный интерес для характеристики мировоззрения вождя московских еретиков»{135}. По мнению исследователя, Федор Курицын, начиная свое сочинение с утверждения о самовластии души, «выступает в качестве решительного сторонника теории свободы воли»{136}. Это означает, что он был противником учения о божественной предопределенности всего сущего, включая судьбу человека, что было тогда не чем иным, как проявлением религиозного вольномыслия. По наблюдениям А. И. Клибанова, «мотивы Лаодикийского послания навеяны Ветхим Заветом и подобраны тенденциозно в духе реформационных идей. К их числу, конечно, прежде всего относится идея самовластия души, первоисточники которой действительно прослеживаются во Второзаконии…»{137}. Если это так, то любитель «ветхословия» Курбский тем более был расположен к идее самовластия души и воли. Иван Грозный нисколько не сомневался насчет еретической сути учения о самовластии человека. Он затрагивает это учение, реагируя на слова Курбского, относящиеся, казалось бы, к несколько иной материи, нежели людское самовластие. Факт довольно показательный, свидетельствующий о том, что идея самовластия человека являлась предметом неумолкающих споров среди русских интеллектуалов той поры. Андрей Курбский писал царю: «Али ты безсмертен, царю, мнишися, и в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судне, надежде христьянской, богоначяльному Иисусу, хотящему судити вселенней в правду…»{138}. Обширным рассуждением ответил царь на эту реплику Курбского{139}. Он, в частности, писал: «А еже писал еси, аки не хотящу ми предстати неумытному судищу, — ты же убо на человека ересь покладываеш, сам подобно манихейстей злобесной ереси пиша. Яко же они блядословят, еже небом обладати Христу, на земле же самовластным быти человеком, преисподними же дьяволу…»{140}. Самовластие (самовольство) Иван Грозный воспринимает как непокорство Богу и, стало быть, отпадение от Него. Клеймя Курбского за бегство к польскому королю Сигизмунду II Августу, он говорит: «А еже от него надеешися много пожалован быти — се убо подобно есть, понеже не хотесте под Божиею десницею власти быти и от Бога нам данным и повинным быти нашего повеления, но в самовольстве самовластия жити…»{141}. Было ошибочно возлагать обвинения Грозного в отступничестве от православной веры и церкви на одного лишь Курбского. Эти обвинения царь обращал не только к своему корреспонденту, но также к Сильвестру, Алексею Адашеву и ко всем их «советникам». Именно поэтому Иван Васильевич связывал положительные перемены в жизни русской церкви с разгромом сильвестро-адашевской придворной группировки: «Праги же церковные, — елико наша сила и разум осязает, яко же подовластные наши к нам службу свою являют, сице украшенми всякими, церкви Божия светится, всякими благостинями, елико после вашея бесовския державы сотворихом, не токмо Праги и помост, и предверия, елико всем видима есть и иноплеменным украшения»{142}. Грозный, следовательно, хочет сказать, что Курбский и его «согласники» противодействовали украшению церквей драгоценностями — дорогими иконами, предметами культа и пр. Они не одобряли также одаривание церквей «всякими благостинями». Но такую политику могли проводить люди, разделявшие еретические убеждения о недопустимости церковных богатств. Самодержец хорошо понимал это и потому характеризовал их власть как бесовскую, вкладывая в этот термин вполне определенный антицерковный смысл. По версии царя Ивана, Сильвестр, Адашев и другие, не довольствуясь религиозным вольномыслием, покушались, кроме того, на церковную власть, стремясь овладеть и царством и священством. Историки на это мало обращают внимание (если вообще обращают), сосредоточившись на борьбе Избранной Рады с самодержавием Ивана IV. Между тем, Грозный говорит: «Паче убо вы гордитеся дмящеся, понеже раби суще, святительский сан и царский восхищаете, учаще, и запрещающе и повелевающе»{143}. Таким образом, по свидетельству Ивана IV, в середине XVI века при царском дворе образовалась группа царских советников во главе с Адашевым и Сильвестром, которая, пользуясь полным доверием государя, пыталась захватить светскую и духовную власть в стране с целью изменения ее церковно-государственного строя и религиозной направленности. И тут Иван в некоторых моментах сходится с Андреем Курбским, сообщавшим также о всесильных «советниках» государя, собранных Сильвестром и Адашевым. Расходится Курбский с Иваном IV лишь в оценочных взглядах относительно деятельности «советников», всячески восхваляя их. В «Истории о великом князе московском» Курбский рассказывает, как Сильвестр и Адашев собирают вокруг царя Ивана «советников, мужей разумных и совершенных, во старосте мастите сущих, благочестием и страхом Божиим украшенных, других же, аще и во среднем веку, тако же предобрых и храбрых, и тех и онех в военных и земских вещах по всему искусных. И сице ему их в приязнь и в дружбу усвояют, яко без их совету ничесоже устроити или мыслити… И нарицалися тогда оные советницы у него избранная рада. Воистину, по делом и наречение имели, понеже все избранное и нарочитое советы своими производили, сиречь суд праведный, нелицеприятен яко богатому, так и убогому, еже бывает в царствие наилепшее, и ктому воевод искусных и храбрых мужей сопротив врагов избирают и стратилацкие чины устрояют, яко над езными, так и над пешими. И аще кто явитца мужественным в битвах и окровил руку во крови вражий, сего даровании почитано, яко движными вещи, так и недвижными. Некоторые же от них, искуснейшие, того ради и на высшние степени возводились. А парозитов, или тунеядцев, сиречь подобедов или товарищей трапезам, яже блазенством или шутками питаются и кормы хают, не токмо тогда не дарованно, но и отгоняемо, вкупе с скомрахи и со иными прелукавыми и презлыми таковыми роды. Но токмо на мужество человеков подвизаемо и на храбрость всякими роды даров или мздовоздаянми, каждому по достоянию»{144}. Курбский очень высоко, в отличие от Грозного, ставил Сильвестра и Алексея Адашева, называя первого «блаженным презвитером», а второго — «благородным юношей»{145}. Разумея Русию, он вопрошает: «Что же сие мужие два творят полезное земле оной, опустошеной уже воистинну и зело бедне сокрушеной?» Курбский отвечает на свой вопрос, призывая читателя выслушать себя внимательно: «Приклони же уже уши и слушай со прилежанием! Сие творят, сие делают — главную доброту начинают: утверждают царя! И якого царя? Юнаго, и во злострастиях и в самоволствии без отца воспитанного, и преизлище прелютого, и крови уже напившися всякие, не токмо всех животных, но и человеческия! Паче же и согласных его на зло прежде бывших, овых отделяют от него (яж быша зело люты), овых же уздают и воздержат страхом Бога живаго. И что же еще по сем придают? Наказуют опасне благочестию — молитвам же прилежным ко Богу и постом, и воздержанию внимати со прележанием. Завещеваетоной презвитер и отгоняет от него оных предреченных прелютейших зверей (сиречь ласкателей и человекоугодников, над нихъже ничтоже может быти поветреннейшаго во царстве) и отсылает и отделяет от него всяку нечистоту и скверну, прежде ему приключшуюся от Сатаны. И подвижет на то и присовокупляет себе в помощь архиерея оного великого града, и ктому всех предобрых и преподобных мужей, презвитерством почтенных. И возбуждают царя к покаянию, и нечистив сосуд его внутренний, яко подобает, ко Богу приводят и святых непорочных Христа нашего тайн сподобляют, и в сицевую высоту онаго, прежде бывшаго окаянного, возводят, яко и многих окрестным языком дивитися обращение его к благочестию»{146}. Сопоставление упомянутых сочинений Грозного и Курбского обнаруживает в них, с одной стороны, согласие, а с другой — разноречивость. Согласие обоих авторов наблюдается преимущественно в сфере изложения фактов, тогда как разноречивость выявляется прежде всего в области истолкования и оценки этих фактов. В самом деле, и царь Иван и князь Андрей согласно говорят о появлении возле трона Сильвестра и Адашева в окружении советников, о приобретении ими огромного влияния на самодержца. Они оба рассказывают о том, как царские любимцы вместе со своими советниками лишили самостоятельности государя, так что без их совета (указания) он не мог ничего предпринять. Вместе с тем Курбский утверждает такое, во что очень трудно поверить. Например, он говорит, будто Сильвестр и Адашев «утверждают царя». Если под этим утверждением подразумевалось венчание на царство Ивана IV, то надо признать, что Курбский, случалось, перевирал факты. И все же многие из его сообщений находят подтверждение со стороны Ивана Грозного. Однако Грозный и Курбский решительно расходятся, когда надо охарактеризовать личности Сильвестра и Адашева или когда необходимо оценить их деятельность. Так, по Андрею Курбскому, Сильвестр — «блаженный презвитер», а по Ивану Грозному — «поп-невежа», Адашев, по Курбскому, — «благородный юноша», а по Грозному, — «собака». Радикальным образом расходятся наши информаторы в оценке деятельности Сильвестра и Адашева с «единомышленниками»: у царя она резко отрицательная, а у князя-изменника сугубо положительная. Кто из них прав? Как соотносятся их свидетельства с известиями других источников? Являлась ли Избранная Рада исторической реальностью или она есть фикция, изобретенная Андреем Курбским, как считают некоторые историки?{147} Пришло время ответить на эти вопросы. Однако сперва о термине «Избранная Рада» и его значении. * * *Этот термин, как известно, фигурирует в «Истории о великом князе Московском», принадлежащей Андрею Курбскому. Но не следует думать, будто Курбский изобрел названный термин, не имея перед собой каких бы то ни было современных лексических аналогий и, возможно, даже — прецедентов. Нельзя, во всяком случае, полностью игнорировать сообщение Курбского о том, что Избранной Радой называл советников, собранных Сильвестром и Адашевым, не кто иной, как Иван Грозный («И нарицались тогда оные советницы у него избранная рада». Следует далее сказать, что слово «рада» являлось вполне употребительным со стороны русских при их общении с людьми из Литвы и Польши. Еще В. О. Ключевский отмечал, что московские дипломаты, встречаясь с польско-литовскими послами, называли Боярскую Думу радой государя и своей господою{148}. Причем данное обстоятельство он связал с соответствующим терминологическим творчеством Курбского: ««Избранною радой» и кн. Курбский называет думу, составившуюся при царе Иване под влиянием Сильвестра и Адашева»{149}. В. О. Ключевский прекрасно понимал всю условность подобного словопроизводства. Историк писал: «Московские бояре хорошо знали литовскую раду и в переписке с ней даже себя звали «радой» своего государя. Но московская боярская дума мало похожа была на эту раду по своему политическому значению, как и по должностному составу»{150}. Развивая мысли знаменитого историка, можно сказать, что Избранная Рада по своему должностному составу была мало похожа на Боярскую Думу. Что же представляла собою Избранная Рада? В чем смысл терминов, составивших данное понятие? Со словом рада нет особых проблем. Это — совет, советники. Отсюда Избранная Рада есть избранный совет, избранные (лучшие) советники царя Ивана{151}, рекомендованные ему Сильвестром и Алексеем Адашевым. Необходимо, однако, заметить, что вопрос о советниках этим не исчерпывается, поскольку Грозный, как мы знаем, неоднократно говорит о «злых», «злобесовских» советниках, группирующихся вокруг Сильвестра и Адашева. Надо полагать, что между советниками государя и советниками его любимцев не было непреодолимой грани, и многие из советников Сильвестра и Адашева выступали также в роли советников Ивана. К ним и прилагалось определение избранные, т. е. лучшие, особенно ценимые{152}, что послужило основанием для их вхождения в число советников Ивана IV. Именно так изображает дело Курбский, характеризуя царских советников как «мужей разумных и совершенных», «благочестием и страхом Божьим украшенных», «предобрых и храбрых», «в военных и земских вещах по всему искусных»{153}. Не зря, полагает князь, их называли Избранной Радой, ибо «все избранное и нарочитое (лучшее и значительное, выдающееся{154}) советы своими производили»{155}. Перед нами похвала людям, так сказать, высшего сорта, в чем и состоит их избранность. Но тут, конечно, выражено личное отношение Курбского к членам Избранной Рады, и мы не знаем, насколько его столь высокие аттестации соответствовали действительным свойствам «радных» мужей. Не следует всех советников, составивших Избранную Раду, относить лишь к одной княжеско-боярской знати{156}. Принадлежность к Раде Сильвестра и Адашева{157}, людей вовсе неродовитых, характеризует ее в качестве надсословной организации (в рамках привилегированных сословий), представители которой присутствовали в различных правительственных учреждениях — Ближней Думе, Боярской Думе, приказах и пр. Эта организация не приобрела формальный статус государственного учреждения, являясь неформальным образованием, действующим приватно, еели не скрытно, то без широкой огласки. По нашему убеждению, остается до сих пор отчасти актуальным определение, данное Избранной Раде С. Ф. Платоновым. «Это был, — говорил ученый, — частный кружок, созданный временщиками для своих целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей»{158}. Весьма ценной является мысль С. Ф. Платонова о том, что Избранная Рада существовала не в виде государственного учреждения, а в виде частного кружка-собрания, поставленного Сильвестром и Адашевым рядом с царем Иваном. Надо только понять, что Сильвестр и Адашев прежде, чем стать временщиками, сами были сведены с юным царем придворными политиканами, плетущими интригу против русского самодержавства, что Избранная Рада есть видимая, как у айсберга, вершина достаточно многочисленной и довольно разветвленной организации, заявившей о себе еще в конце XV века и дожившей до середины XVI века, приспосабливаясь к меняющимся историческим условиям. И, конечно же, «советников», обступивших вместе с Адашевым и Сильвестром царский престол, нельзя рассматривать как доброхотствующих царю искренних друзей. То были замаскированные недруги русского царства и, следовательно, Ивана Грозного. Негативное их отношение к самодержавной власти отразилось, по нашему мнению, в самом названии Избранная Рада, приводимом Андреем Курбским. Правда, некоторые историки объясняют использование Курбским термина избранная рада тем, что беглый боярин писал свою Историю, рассчитывая якобы на польских и литовских читателей, и поэтому стремился обставить ее привычными и понятными для заграничной читательской аудитории словами{159}. Отсюда у него и этот полонизм. Однако более основательной представляется точка зрения Р. Ю. Виппера, обратившего внимание на то, что «Курбский очень характерно называет тесную думу, в которой он и сам участвовал, «избранной радой». Ни у кого другого этого названия не встречаем; а русский эмигрант, разумеется, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, «паны-рада». Представитель старинного княжеского рода, родня литовских и польских панов, естественно увлекается примером олигархии у западного соседа. Называя именем этой верхней палаты аристократической республики тесную думу при московском царе, Курбский только подтверждает правильность жалоб Ивана IV на то, что советники отстранили его от дел, «снимали его власть», приводили «в противословие» бояр, раздавали самовольно чины и земли и т. п.»{160}. Значит, не для удобства заграничных читателей князь Курбский прибегал к понятию избранная рада с целью подчеркнуть особую роль Избранной Рады, ограничивающей русское самодержавие и тем существенно отличающейся от традиционных политических институтов Руси, призванных укреплять самодержавную власть, а не сковывать ее действие. Вот почему Избранную Раду необходимо рассматривать как новое явление в политической системе Русского государства, ранее не известное и занесенное в Московское царство со стороны, с Запада. Это, собственно, и объясняет, почему А. М. Курбский воспользовался для его обозначения «иноземным» термином «Рада», позволяющим более точно (сравнительно с любым русским термином) определить функциональное предназначение Избранной Рады{161}. Не исключено, однако, что словосочетание Избранная Рада было в придворном политическом обиходе середины XVI века. Возможно также то, что оно звучало и в устах царя Ивана{162}, очарованного Сильвестром и Адашевым с их советниками. Степень этого очарования оказалась столь сильной, что царь Иван долго не мог понять, куда ведет путь, намечаемый Избранной Радой. Поэтому он длительное время не вступал с нею в конфликт. К тому же политика Избранной Рады была двойственной, что мешало царю до конца разобраться в замыслах Сильвестра и Адашева. С одной стороны, они выступали инициаторами реформ, в которых нуждалась страна, а с другой — вели скрытый подкоп под фундаментальные основы Святой Руси, а именно под самодержавие, православную веру и церковь. То была выработанная веками изощренная тактика тайных организаций, применяемая ими по сей день. Обманутый ею молодой государь находился в полном согласии с Избранной Радой. А. А. Зимин в этой связи писал: «В конце 40-х — начале 50-х годов XVI в. представления Ивана IV о путях преобразования государственного аппарата совпадали с предложениями Адашева и Сильвестра. Избранная рада не противостояла царю, а проводила единую с ним политическую линию. В какой мере при этом Иван IV находился под влиянием временщиков, установить гораздо труднее, но вопрос этот имеет значение скорее для изучения характера царя Ивана, чем для исследования самой сущности реформ середины XVI в.»{163} Думается, едва ли можно говорить о стихийном совпадении представлений царя насчет реформирования России с предложениями Адашева и Сильвестра. Временщики умели не только предложить Ивану IV ту или иную реформу, но и убедить его в обоснованности своих предложений или, во всяком случае, получить у него согласие на осуществление задуманных мер. В этом, помимо прочего, выражалось их влияние на государя, и оно, если судить по интенсивности реформаторской деятельности правительства середины XVI века, было весьма и весьма значительным, что подтверждают соответствующие свидетельства Грозного и Курбского. Влияние на Ивана Избранной Рады, ее руководителей Сильвестра и Адашева представляет интерес для исследователя не только со стороны изучения личного характера царя, но и с точки зрения сущности реформ конца 40-х — 50-х годов. Эти реформы, как уже отмечалось, не были едины в плане конечных целей. Некоторые из них (военная реформа, преобразования в области местного управления и др.) имели созидательный характер. Но они служили своего рода завесой реформам, разрушительным по своей направленности, бьющим по московскому «самодержавству», православной вере и церкви. * * *Важной вехой на пути к этим гибельным для Святой Руси реформам явился 1547 год. То был год венчания Ивана IV на царство и «великого пожара» в Москве, вызвавшего восстание черного люда, едва не завершившееся убийством молодого царя. Пытаясь понять душевное состояние Ивана, подчинившегося Сильвестру и Адашеву, а также другим деятелям Избранной Рады, историки нередко придавали особое значение впечатлениям, которые он вынес из столичных пожаров и народного бунта. По мнению В. О. Ключевского, например, царь сам отдался в руки своих советников, «испуганный событиями 1547 года»{164}. Другой исследователь русской старины, М. К. Любавский, говорил: «Страшный пожар и народный мятеж произвели сильное впечатление на молодого царя. Напоенный библейскими представлениями о царской власти, Иван пришел к заключению, что Бог покарал народ за его, царя, грехи, и сильно был удручен этим сознанием… Этим настроением, как мы знаем от Курбского, и воспользовалось духовенство и благомыслящая часть боярства. Нравственную поддержку удрученному царю оказал сначала придворный священник Сильвестр, а затем митрополит Макарий и другие мужи, «пресвитерством почтенные». К ним присоединился царский постельничий Алексей Адашев, а за ним и некоторые бояре…»{165}. На наш взгляд, и В. О. Ключевский и М. К. Любавский чересчур преувеличивают воздействие на психику царя Ивана событий, связанных с пожаром и восстанием москвичей лета 1547 года. Не отрицая их существенное значение во внутренних переживаниях государя, мы все-таки должны сказать, что не с этих событий начался его душевный переворот, сопровождаемый осознанием своего божественного предназначения как истинно православного царя. Венчание Ивана на царство в январе 1547 года, предпринятое им по собственному желанию и при активном содействии митрополита Макария, показывает, что это осознание уже пришло к нему. Поэтому летние события 1547 года, способствуя, безусловно, углублению самосознания самодержца, послужили преимущественно толчком к переходу его от умозрительных воззрений к практическому строительству русского православного царства. И в этом великом строительстве ему, конечно же, нужны были помощники. Душой Иван был открыт к сотрудничеству с ними. Этим состоянием царя и воспользовались умело Сильвестр с Адашевым, а также те, кто помогал им. Предварительно они убрали с политической сцены Глинских, спровоцировав против них мятеж московских черных людей. Молодой и неопытный государь приблизил к себе Адашева и Сильвестра, наделил этих людей огромной властью. Об этом, как мы знаем, сохранились свидетельства Ивана Грозного и Андрея Курбского. Но среди некоторых историков эти свидетельства слывут как тенденциозные, субъективные и недостоверные. Так, для А. А. Зимина тенденциозный характер высказываний царя Ивана о Сильвестре и Адашеве очевиден: «Иван IV хотел задним числом обосновать свою опалу на когда-то всесильных временщиков»{166}. Но и Курбский, по словам А. А. Зимина, «не менее субъективен, чем Грозный»{167}. Твердых оснований для подобного рода заключений, разумеется, нет. Есть лишь догадки, порожденные личными ощущениями историка, его интуицией. Во имя справедливости, однако, надо сказать, что А. А. Зимину хватило объективности, чтобы оценить данные свидетельства Ивана Грозного и Андрея Курбского как одинаково неудовлетворительные. Другие же исследователи, явно нерасположенные к Ивану IV, всю свою источниковедческую критику адресуют только ему, оставляя вне ее царского оппонента. С. Б. Веселовский, к примеру, находит у Курбского «чрезвычайно важные и достоверные сведения», тогда как высказывания Грозного, будучи полемическими, малозначимы и тенденциозны{168}. В аналогичном ключе рассуждает Д. Н. Альшиц. Он говорит: «Характеристика, данная Курбским правительству конца 40–50-х гг., в основном соответствует действительности. У Курбского нет причин искажать в данном пункте прошлое. Этого нельзя сказать об Иване Грозном, имевшем веские причины, для того чтобы вымарать дегтем своих бывших соратников. Царю нужно было оправдать тот крутой поворот, который он совершил в начале 60-х гг. от политики Избранной рады к политике опричнины{169}. Отсюда следует, что для выработки объективного взгляда на деятельность правительства конца 40–50-х гг. необходимо освободить изучение Избранной рады от влияния ее первого историка — царя Ивана Грозного»{170}. Логика, посредством которой Д. Н. Альшиц так эффектно «пригвоздил» царя Ивана, применима и к Андрею Курбскому, правда, с противоположным смыслом. В самом деле, если Грозному понадобилось очернить «своих бывших соратников», чтобы оправдать поворот к Опричнине, то Курбскому надо было возвысить сподвижников Ивана, чтобы осудить этот поворот. Как видим, и у того и у другого имелись веские причины исказить «в данном пункте прошлое». При таком логическом раскладе отдавать предпочтение Ивану Грозному или Андрею Курбскому — значит проявить предвзятость. Д. Н. Альшиц несколько поспешил, когда призвал «освободить изучение Избранной рады от влияния ее первого историка — царя Ивана Грозного». С тем же основанием можно взывать о необходимости освободить изучение Избранной Рады от влияния князя Курбского. Счет здесь, как говорится, по нулям. Куда важнее иное: совпадение фактов, приводимых Грозным и Курбским, что вызывает у отдельных историков некоторое замешательство. «Как это ни парадоксально, — замечал А. А. Зимин, — идейный противник Ивана IV — князь Андрей Курбский дает сходную с ним характеристику роли царя в проведении реформ середины XVI в.: царь выступает лишь как простое орудие предначертаний Сильвестра и Адашева, которые окружили его советниками…»{171}. По нашему мнению, тут нет ничего парадоксального, поскольку и царь Иван и князь Курбский описывали реально существовавший факт всевластия Сильвестра и Адашева. Их согласие в изложении фактов повышает доверие к тому, о чем они повествовали в своих сочинениях. Кроме того, существуют другие источники, подтверждающие правдивость Ивана Грозного и Андрея Курбского в передаче фактической стороны дела, касающейся властных полномочий Сильвестра и Адашева. * * *В Пискаревском летописце (первая половина XVII века) говорится об Адашеве следующее: «А как он был во времяни, и в те поры Руская земля была в великой тишине и во благоденстве и управе. А кому откажет, тот вдругорядь не бей челом: а кой боярин челобитной волочит, и тому боярину не пробудет без кручины от государя; а кому молвит хомутовкою, тот больши того не бей челом, то бысть в тюрьме или сослану. Да в ту же пору был поп Селивестр и правил Рускую землю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат»{172}. О. А. Яковлева, нашедшая и опубликовавшая в середине 50-х годов прошлого столетия этот летописный памятник{173}, говоря о предполагаемом авторе его, замечала: «В царствование Грозного человек этот был ребенком или подростком, так как описал это царствование в основном по рассказам людей более старшего, чем он, возраста и лишь в небольшой степени по своим собственным воспоминаниям… Сведения, сообщаемые москвичом-современником, его суждения и оценки, вошедшие в «Пискаревский летописец», имеют большую историческую ценность»{174}. Эти предположения О. А. Яковлевой вызвали сомнение у М. Н. Тихомирова, который писал: «Прежде всего вызывает сомнение само определение записей Пискаревского летописца как «воспоминаний» москвича, так как невозможно приписать одному и тому же автору разнородные по стилю и политической направленности летописные записи нашего источника. Перед нами текст, явно написанный разными людьми в разное время»{175}. И все же, что касается рассказа Пискаревского летописца об Алексее Адашеве, то перед нами, по словам М. Н. Тихомирова, «действительно, «воспоминание» москвича, записанное, однако, не по личным наблюдениям, а по рассказам»{176}. Но «это очень интересное припоминание, хорошо характеризующее Адашева как всесильного временщика, который «правил Русскую землю», заслонив собою царя»{177}. Иную позицию занимает А. И. Филюшкин, отрицающий доброкачественный характер известий Пискаревского летописца о политической деятельности А. Ф. Адашева. Рассмотрев сообщения Пискаревского летописца об этой деятельности, автор приходит к следующим выводам: «ПЛ — позднее по происхождению произведение компилятивного характера; его рассказ о деятельности правительства Адашева — Сильвестра содержит ряд фактических неточностей; он написан в соответствии с историографическими воззрениями, сходные (сходными?) с концепцией «Избранной Рады» Курбского, которая, возможно, в трансформированном виде (в качестве слуха, пересказа) была источником данной статьи ПЛ; вследствие этого известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра не может считаться безусловным свидетельством существования «Избранной Рады» и нуждается в подтверждении другими, независимыми источниками»{178}. Что можно сказать по поводу этих выводов А. И. Филюшкина? О том, что Пискаревский летописец является компилятивным произведением, что заключенный в летописце рассказ об Адашеве записан много лет позже описываемых в этом рассказе событий, известно давно, чуть ли не с момента издания памятника{179}. Однако названные особенности Летописца не помешали М. Н. Тихомирову отнести содержащиеся в нем известия о государственной деятельности Адашева к разряду чрезвычайно интересных и соответствующих исторической реальности{180}. Они также не стали помехой другим историкам, изучавшим служебную биографию Алексея Адашева, пользоваться сведениями этого источника{181}. Высокую оценку Пискаревскому летописцу как источнику, освещающему начальный период придворной жизни Адашева и Сильвестра, дал А. А. Зимин. «В изданном О. А. Яковлевой Пискаревском летописце начала XVII в. содержится новая характеристика деятельности Адашева и Сильвестра, раскрывающая обстановку начального этапа в истории «Избранной рады»{182}. Больше того, Пискаревский летописец, основанный, как показал Р. Г. Скрынников, на разнообразных источниках и вобравший в себя немало достоверных и наиболее полных сведений, имеет важное значение для изучения эпохи Ивана Грозного в целом{183}. При этом он содержит и отдельные фактические неточности, что, однако, не умаляет его ценность. Сходным образом аналогичные неточности рассказа об Адашеве, отмеченные А. И. Филюшкиным{184}, не должны, на наш взгляд, подрывать доверие ко всему рассказу. Тем более что факты, приводимые в Летописце, не однородны, ибо есть факт-событие и факт-явление. Легко на основе припоминаний ошибиться в передаче факта-события, перепутав, например, время поездки Адашева в Турцию или год его смерти и место упокоения. Но значительно труднее позабыть политическую роль, в которой открылся обществу тот или иной деятель, в частности А. Ф. Адашев. Эту трудность не обойти простой ссылкой на то, что рассказ Пискаревского летописца об Адашеве написан в соответствии с концепцией Избранной Рады Курбского, которая послужила якобы его источником, тем более что Адашев и Сильвестр изображены в Летописце очень похожими на Адашева и Сильвестра, вышедших из-под пера Ивана Грозного. Сходство иногда наблюдается даже в формулировках: «Тако убо и вы мнесте под ногами быти у вас всю Рускую землю…»{185}. Это очень напоминает выражение Пискаревского летописца «правил (правили) Рускую землю». Следовательно, при желании можно говорить о зависимости упомянутого рассказа Пискаревского летописца от сочинений Ивана IV, пусть даже через концепцию Избранной Рады князя Курбского. Но не слишком ли длинная получается цепь предполагаемых заимствований? И, вообще, зачем мудрить? Не проще ли и плодотворнее было бы признать, что сходство в изображении Адашева и Сильвестра царем Иваном, Курбским и автором соответствующей статьи Пискаревского летописца проистекает из того, что все они обращались к одним и тем же известным им фактам и явлениям политической истории Руси середины XVI века. Неуместным, по нашему мнению, является последний вывод А. И. Филюшкина о том, что «известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра не может считаться безусловным свидетельством существования «Избранной Рады». Неизвестно, откуда у А. И. Филюшкина взялось «известие ПЛ о правительстве Адашева — Сильвестра». Ведь в Летописце о таком правительстве не сказано ни слово. Там говорится о Сильвестре, который «заодин» с Адашевым «правил Рускую землю». Иными словами, речь в Пискаревском летописце идет об индивидуальных властных полномочиях Адашева и Сильвестра, которые автору летописного повествования кажутся настолько значительными, что сопоставимы с властью правителей{186}. Что же касается непосредственно Алексея Адашева, то в Летописце он представлен всесильным временщиком, грозой нерадивых бояр, которых он волен был заточить в тюрьму либо сослать, куда захочет. В руках Адашева мощный рычаг власти — прием и разбор челобитных с докладом государю, склонному безоговорочно поддержать своего любимца («а кой боярин челобитной волочит, и тому боярину не пробудет без кручины от государя»). Алексей такой же «всемогий», как и Сильвестр. В этом отношении автор летописного рассказа об Адашеве подтверждает высказывания о нем Ивана Грозного и Андрея Курбского. Другой независимый, по нашему убеждению, источник, рисующий А. Ф. Адашева в роли правителя Московского государства, связан с представлениями о нем за пределами Руси. В отчете московского посла к цесарю Луки Новосильцева сообщается о том, как он, Лука, обедал по пути в Вену (1585) у гнезненского архиепископа Станислава Карнковского, который был «в Польше другой король». Во время обеда зашел разговор о Борисе Годунове, а затем — об Алексее Адашеве. Архиепископ говорил послу: «Сказывали нам вязни наши: есть на Москве шурин государской Борис Федорович Годунов, правитель земли и милостивец великой и нашим вязнем милость казал, и на отпуске их у себя кормил и поил, и пожаловал всех сукны и деньгами, и как были в тюрьмах, и он им великие милости присылал; и нам то добре за честь, что у такого великого государя таков ближней человек разумен и милостив; а прежь сего был у прежнего государя Алексей Адашев, и он Государство Московское таково же правил, а ныне на Москве Бог вам дал такого же человека присужего»{187}. Новосильцеву не понравилось такое сравнение Годунова с Адашевым, и он заметил собеседнику: «Олексей был разумен, а то не Олексеева верста: то великий человек, Боярин и Конюшей, а Государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник»{188}. Историки по-разному воспринимают рассказ Ауки Новосильцева. Так, С. О. Шмидту этот рассказ послужил свидетельством, что за границей знали о «большом влиянии Адашева на правительственную деятельность». Поэтому «не случайно через 25 лет после смерти Адашева его сравнивали в Польше с царским шурином Борисом Годуновым»{189}. С. О. Шмидт, исходя из отчета русского посла, замечал, что «в представлении иностранцев А. Ф. Адашев был «правителем земли» и «ближним человеком» государя»{190}. Однако А. И. Филюшкин решительно выступил против такого рода интерпретаций. Имея в виду слова Станислава Карнковского, сказанные Ауке Новосильцеву, он пишет: «Данная речь часто используется исследователями в качестве «неопровержимого доказательства» обладания А. Ф. Адашевым реальной властью и статусом временщика, равным Борису Годунову. Но они не обращали внимания на ответ А. Новосильцева на слова С. Карнковского (например, С. О. Шмидт просто опустил его в своей публикации данного отрывка из посольских книг). А реакция русского посланника весьма примечательна. Дело в том, что он… категорически опроверг заявление С. Карнковского! Л. Новосильцев прокомментировал его следующим образом: «Олексей был разумен, а то не Олексеева верста, то великий человек, боярин и конюший… а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». Таким образом, с точки зрения русского дипломата, статус Адашева оказывается гораздо ниже статуса Годунова («не Олексеева верста»), то есть он не являлся временщиком. Он не был ни политически весомым («великим») человеком, ни «печальником о земле». Видеть же в словах «Олексей был разумен» что-либо, кроме признания незаурядных талантов государственного деятеля (коими, как мы знаем, Адашев, несомненно, обладал), будет некорректным. Фигура Адашева была хорошо известна в Литве из-за его дипломатической деятельности в 1559–1560 гг. и поэтому нет ничего удивительного, что о нем слышал гнезненский епископ. Источником же его трактовки роли Адашева как временщика, с нашей точки зрения, могла стать имевшая хождение в Литве и Польше ИВКМ»{191}. Мы намеренно привели столь пространную выдержку из книги А.И.Филюшкина, чтобы нагляднее продемонстрировать исследовательские приемы автора. Начнем с последнего утверждения его о том, что источником трактовки Станиславом Карнковским роли Алексея Адашева в качестве временщика могла стать известная в Литве и Польше «История о великом князе Московском» (ИВКМ) Андрея Курбского. Это допущение было бы уместным в том случае, если бы Карнковский не сказал, откуда он почерпнул сведения об Адашеве. Но он прямо указал на источник своей информации, упомянув в данной связи «вязней» (пленников), побывавших в плену у русских. Это они, «вязни», воротясь домой из плена, рассказывали своим соотечественникам об увиденном и услышанном в Москве, где еще хранили память об Адашеве, находя общее между ним и Годуновым. От этих бывших пленников Станислав Карнковский узнал о добродетелях Бориса Годунова и его сходстве в качестве правителя с Алексеем Адашевым, о чем гнезненский архиепископ поведал сам московскому послу Л. Новосильцеву. Вот почему иные предположения, на наш взгляд, здесь совершенно излишни. Однако важно отметить, что независимо от сочинения Курбского (ИВКМ) в Москве после смерти Ивана IV курсировали сведения об Алексее Адашеве, в которых он как правитель Руси уподоблялся Борису Годунову. Перед нами, следовательно, еще один, хотя и своеобразный, по-видимому, устный, но самостоятельный источник, подтверждающий правдивость характеристики правительственной роли Алексея Адашева, данной Иваном Грозным и Андреем Курбским. А. И. Филюшкин упрекает С. О. Шмидта, который якобы опустил невыгодный ему текст посольской книги, содержащий ответ посла Новосильцева архиепископу Карнковскому, попытавшемуся сравнить Адашева с Годуновым. Русский посол, оказывается, «категорически опроверг заявление С. Карнковского», указав ему на то, что «статус Адашева» «гораздо ниже статуса Годунова», что Адашев «не являлся временщиком» и не был «политически весомым («великим») человеком». Справедливы ли эти утверждения? Прежде всего, хотелось бы заметить, что А. И. Филюшкин, предъявив претензии С. О. Шмидту по части использования источника, сам, казалось, должен быть здесь, как говорится, на высоте. Но этого, к сожалению, не случилось. Он также «урезает» источник, причем в очень важном месте, содержащем ключ к пониманию смысловой направленности ответа Л. Новосильцева. У Филюшкина посол говорит, что Годунов — «не Олексеева верста»: «то великий человек, боярин и конюший… а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». В источнике, между тем, фигурирует еще одно высказывание Новосильцева о Годунове, опущенное А. И. Филюшкиным: «То великий человек, Боярин и Конюшей, а Государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил всем, и о земле великой печальник». Фраза «а Государыне нашей брат родной» особенно наглядно показывает, в чем решительно, с точки зрения Луки Новосильцева и современников, уступал Алексей Адашев Борису Годунову. Он уступал ему породой и чином. В самом деле, Годунов был боярином и конюшим (высший придворный чин), тогда как Адашев — всего лишь окольничим. Годунов являлся родным братом царицы Ирины, тогда как Адашев — дальним родственником Захарьиных. Первый был родовитым, а второй — худородным. Именно по всему этому Борис Годунов «не Олексеева верста», но отнюдь не потому, что Годунов правил Московским государством, а Адашев не правил. Добавим к этому, что термины «в версту» и «не в версту» суть технические термины, применявшиеся при местнических счетах. Говоря о том, что Годунов «не Олексеева верста», царский посол стремился подчеркнуть очевидную для него мысль: «великий человек» Борис Годунов не ровня Алексею Адашеву и упоминание их имен рядом «невместно», несмотря на то, что оба они (Адашев в прошлом, а Годунов в настоящем) правили Московским государством. Надо полагать, Лука Новосельцев поправил Станислава Карнковского не только ради одной истины. Будучи официальным представителем московского правительства, он не мог допустить в своем присутствии порухи чести руководителя этого правительства, зная, какие неприятные последствия навлечет тем на себя по возвращении в Москву. Однако все это не дает оснований утверждать, будто Новосильцев оспорил Карнковского, — представившего Адашева «ближним человеком» Ивана IV, т. е. временщиком. Смысл возражений посланника иной: нельзя сравнивать Бориса Годунова с Алексеем Адашевым, поскольку с точки зрения знатности и чина это — несопоставимые политические фигуры. Таким образом, из отчета посла Луки Новосильцева следует, что в Москве середины 80-х годов XVI века, а также в Речи Посполитой того времени велись разговоры об Адашеве — правителе Московского государства времени Ивана IV. Перед нами еще один источник, свидетельствующий об огромной власти, которой обладал Алексей Адашев благодаря особому к себе отношению царя Ивана. О могуществе Адашева можно судить по некоторым обстоятельствам, всплывшим в ходе местнического спора князя А. Д. Хилкова с Ф. М. Ласкиревым. Последний в своей челобитной писал: «По недружбе Алексей Одашев отца моего послал в Казань в городничие, сковав»{192}. Отсюда С. О. Шмидт верно заключил: «А. Ф. Адашев был настолько всемогущ, что имел возможность неугодного ему служилого человека («по недружбе») назначить на низкую в местническом отношении должность и послать его туда силой («сковав»)»{193}. Не считаясь с местническими правилами, Алексей Адашев, пользуясь своим положением и властью, вносит в середине 50-х годов XVI века род Адашевых, доселе мало выдающийся, в «Государев Родословец», запечатлевший, можно сказать, цвет русской знати, к которой теперь «примазался» и адашевский род. С. О. Шмидт вполне правомерно усмотрел в этом, помимо прочего, подтверждение словам Ивана Грозного «об А. Ф. Адашеве и его советниках, что они «сами государилися, как хотели»{194}. Следует, наконец, сказать о непосредственном участии Алексея Адашева в распределении по службе служилых людей «государева двора», отраженном в Дворовой тетради 50-х годов XVI века{195}. Это давало возможность Адашеву с единомышленниками обзавестись сторонниками в придворной служилой среде и тем самым укрепить свое положение и власть. Итак, есть основания говорить о том, что Иван Грозный и Андрей Курбский, характеризуя Алексея Адашева как всесильного временщика, рисовали его реальный, а не вымышленный образ. И. И. Смирнов, изучавдшй политическую биографию А. Ф. Адашева, обратил внимание на два типа временщиков, властвовавших по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств. В деятельности временщика «мог преобладать или элемент исполнителя воли самодержавного государя, или, напротив, временщик-правитель мог фактически узурпировать права государя и, действуя формально от его имени, по существу сам выступать в роли носителя самодержавной власти централизованного государства»{196}. По мнению историка, «ярким представителем последнего типа временщика-правителя может служить Борис Годунов, не только правивший именем Федора Ивановича, но и фактически заменивший во главе государства слабоумного царя. Напротив, в отношении Адашева вряд ли можно его «правительство» рассматривать как некую личную диктатуру молодого костромского дворянина. И гораздо правильнее объяснить размеры власти Адашева и характер его влияния тем, что в своей деятельности Адашев выступал именно как доверенное лицо Ивана IV, как проводник той политики укрепления централизованного государства, идеологом и вдохновителем которой был сам Иван IV»{197}. Эти суждения И. И. Смирнова не являются, на наш взгляд, безупречными. В самом деле, если А. Ф. Адашев, как считает исследователь, был доверенным лицом царя и проводником его политики, то чем вызваны неоднократные обвинения в узурпации власти, обращенные Иваном к своему прежнему любимцу и его «согласникам»? Правда, ответ здесь у многих историков готов заранее: Иван Грозный несправедлив по отношению к Адашеву; он тенденциозен и субъективен в оценке деятельности Адашева. Эту заезженную пластинку историки старательно крутят не одно десятилетие. Но позволительно спросить, кто такой по сравнению с богоизбранным царем Иваном князь Курбский, чтобы государь в своем послании к нему юлил, изворачивался и лгал, т. е. внутренне унижался? Надо обладать безбрежной фантазией, чтобы вообразить подобную сцену между господином и холопом, каковым по отношению к Грозному и являлся Курбский. Разумеется, А. Ф. Адашев не сразу покусился на власть. Приближенный и обласканный царем, он какое-то время действительно выступал в качестве доверенного лица Ивана IV и проводника его политики. Вскоре, однако, Адашев вместе с Сильвестром и другими деятелями Избранной Рады, пользуясь расположением молодого и неопытного государя, перетянули высшую власть на себя, оставив за Иваном роль номинального или титульного правителя. В результате была установлена своеобразная групповая диктатура во главе с Адашевым и Сильвестром, ограничившая власть царя посредством сосредоточения ее в руках царских советников, о чем говорил в своих посланиях князю Курбскому Иван Грозный, а Курбский — в своей «Истории о великом князе московском». Слова Грозного об Алексее Адашеве подтверждаются другими источниками. Сложнее с попом Сильвестром, изучение политической деятельности которого связано с трудностями, состоящими в том, что источники сохранили очень мало данных, «относящихся к деятельности Сильвестра-политика и могущих лечь в основу решения вопроса о том, какова же в действительности была роль Сильвестра в правительстве Русского государства в 50-х годах XVI в.»{198}. * * *Скудость исторических сведений о Сильвестре-политике объясняется двумя, по крайней мере, обстоятельствами. Во-первых, Сильвестр являлся священником, которому по сану не положено было вторгаться в мирскую жизнь. Поэтому он предпочитал не афишировать свои занятия политикой. Во-вторых, благовещенский поп, будучи неформальным лидером группы, именуемой Избранной Радой, и влиятельной придворной персоной, имевшей прямой выход на государя, старался держаться в тени, чтобы не обнаружить свои подлинные замыслы относительно реформирования религиозно-политического строя Руси. Да и сам царь вряд ли был заинтересован в огласке столь необычного влияния, которое оказывал на него рядовой придворный священник. Вот почему, надо полагать, о Сильвестре сохранилось так мало данных. Но кое-что все же до нас дошло. Отзывы Ивана Грозного о политических устремлениях Сильвестра мы уже слышали. Государь решительно осуждал его за претензии на мирскую власть и узурпацию ее вместе с Адашевым. Пискаревский летописец, как мы знаем, также рассказывает о Сильвестре, который правил Русской землей вместе с Адашевым, сидя «в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат»{199}. Исследователи по-разному оценивают это сообщение летописца. А. Н. Гробовский и А. И. Филюшкин отказывают ему в независимости, полагая, что здесь Пискаревский летописец воссоздает образы Сильвестра и Адашева, сошедшие со страниц переписки Грозного с Курбским и других публицистических произведений{200}. Знаток же русского летописания М. Н. Тихомиров находил в этом сообщении вполне реальные черты и даже высказал предположение насчет времени, когда образовалось «полое место межу полат», т. е. пустое место, «где стояла изба у Благовещенского собора, в которой сидели Алексей Адашев и поп Сильвестр». Оно возникло в результате летнего пожара 1571 года{201}, вызванного нападением на Москву крымского хана, запалившего русскую столицу, вследствие чего Кремль выгорел так, что в нем «не осталось ни единые храмины». Известия Пискаревского летописца С. О. Шмидт воспринимал как свидетельство о существовании особой Челобитной избы, которой ведали Адашев и Сильвестр{202}. Историк, следовательно, придавал этим известиям реальное значение. К признанию обоснованности догадки С. О. Шмидта склонялся А. А. Зимин{203}, тогда как И. И. Смирнов возражал ему{204}. Но это не значит, что И. И. Смирнов скептически относился к самому рассказу Пискаревского летописца о совместном правлении Русской землей Адашевым и Сильвестром. Согласно исследователю, «характеристика Сильвестра в Пискаревском летописце представляет большой интерес… Сообщаемая Пискаревским летописцем деталь — то, что Адашев и Сильвестр «сидели вместе в избе у Благовещения», — позволяет более конкретно представить себе, как осуществляли Адашев и Сильвестр свое «правительство», и не исключено, что, например, обсуждение дела Башкина Иваном IV с участием Адашева, Сильвестра и благовещенского протопопа Андрея происходило как раз в «избе у Благовещения» (равно как и то, что приходивший к Сильвестру для «проверки» перед поставлением в Троицкие игумены старец Артемий встречался с попом Сильвестром именно здесь)»{205}. Доверял Пискаревскому летописцу и такой осторожный в обращении с источниками ученый, как В. Б. Кобрин. Он писал: «Есть сообщения так называемого «Пискаревского летописца», не официального, а частного происхождения, в котором собраны разнообразные придворные слухи. В этом источнике говорится, что Сильвестр «правил Русскую землю» с Адашевым «заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения, где ныне полое место межу полат». Таким образом, соправительство Сильвестра совершенно неоспоримо»{206}. По мнению Р. Г. Скрынникова, политической фигурой благовещенский поп сделался не сразу: «Лишь сближение с главным деятелем реформ А. Адашевым открыло перед Сильвестром более широкое поле деятельности. Об их сближении упоминается не только в Переписке Грозного с Курбским, но и в Пискаревском летописце. Вопреки мнению А. Гробовского, нет доказательств того, что автор названного летописца черпал сведения из писем Грозного или «Истории» Курбского. Летописец знал такие подробности о жизни названных лиц (например, о поездке Адашевых в Турцию), которые отсутствуют в сочинениях царя и Курбского. Пискаревский летописец подтверждает сведения о дружбе двух царских советников: «В ту пору был поп Сельвестр и правил Рускую землю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе у Благовещения». Воспоминания, записанные летописцем, не отличались точностью. Сильвестр служил, как и положено попу, в Благовещенском соборе, а Адашев судил в приказной избе, стоявшей напротив названного собора. Однако основной факт — тесное их сотрудничество — летописец, по-видимому, уловил верно»{207}. Надо заметить, что не все приведенные суждения Р. Г. Скрынникова одинаково равноценны. Важным является признание исследователем возможности использования Пискаревского летописца в качестве независимого источника, запечатлевшего реальные моменты политической истории Руси середины XVI века. Но сказать о том, что Пискаревский летописец подтверждает сведения о дружбе и тесном сотрудничестве двух царских советников (Адашева и Сильвестра), — значит, задержаться на полуслове. Ибо главное, о чем сообщает летописец, заключается в совместном правлении Адашева и Сильвестра Русским государством{208}. Таким образом, Пискаревский летописец наделяет Сильвестра ролью одного из двух правителей Русской земли{209}. И у нас нет веских оснований, чтобы подвергать сомнению этот рассказ летописца. Если Пискаревский летописец рисует обобщенный образ Сильвестра-правителя, то так называемая Царственная книга, близко отстоящая от описываемых ею событий{210}, детализирует этот образ: «Бысть же сей священник Селиверст у государя в великом жаловании и в совете духовном и в думном, и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никтоже смеяше ни в чемъже противитися ему ради царского жалования: указываше бо и митрополиту и владыкам и архимандритом и игуменом и чрънцом и попом и бояром и дияком и приказным людям и воеводам и детем боярским и всяким людем; и, спроста рещи, всякия дела и власти святителския и цръския правяше, и никтоже смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владяше обема властми, и святителскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имеяше святительского и царьского, но поповское имеяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем с своими съветники»{211}. Приведенный летописный текст, являясь фрагментом приписок к Царственной книге, написанных несколько позже трактуемых ими событий{212}, долгие годы не вызывал у историков (как, впрочем, и приписки в целом) сомнений относительно своей подлинности и достоверности. Ситуация существенно переменилась, когда С. Б. Веселовский, по каким-то причинам явно не симпатизирующий Ивану Грозному, опубликовал в 1947 году статью «Последние уделы в Северо-Восточной Руси», где автор утверждал, что «все поправки, приписки и интерполяции Царственной книги, сделанные одним почерком и одним лицом, позднего происхождения; они сделаны лет восемнадцать-двадцать спустя после болезни царя в 1553 г. при непосредственном близком участии самого царя и с определенной тенденцией — оправдать царя в казни старицких князей в 1569 г.»{213}. С. Б. Веселовский подготовил также работу «Интерполяции так называемой Царственной книги о болезни царя Ивана 1553 г.», увидевшую свет лишь в 1963 году. В летописном рассказе о болезни царя историк нашел «злобную карикатуру на попа Сильвестра»{214}, принадлежащую автору приписок к Царственной книге — царю Ивану. И еще: «Самую решительную тенденциозность интерполятор проявил относительно попа Сильвестра и старицких князей… Сильвестр, насколько известно, появился в Москве не ранее 1547 г. Между тем, интерполятор без смущения говорит неправду, будто старицкие князья были освобождены и получили удел потому, что о них «промышлял» Сильвестр. В связи с этой ложью интерполятор дает гиперболическую характеристику всемогущества Сильвестра, которую историки принимали на веру»{215}. Но если благовещенский поп, рассуждает С. Б. Веселовский, «был так всемогущ у царя, то почему он не принимал никакого участия в суматохе о присяге? Далее, если Сильвестр скомпрометировал себя в глазах царя своей близостью к старицким князьям, то непонятно, почему царь продолжал держать его у себя в приближении еще шесть лет после выздоровления»{216}. Трудно уяснить, почему С.Б.Веселовский говорит о «злобной карикатуре на попа Сильвестра». В Царственной книге Сильвестр изображен как «всемогий» (всемогущий) и находящийся в близких отношениях с князьями старицкими — Владимиром и его матерью Ефросиньей. Но разве это карикатурное изображение да еще к тому же злобное? Едва ли. Так кто же злобствовал: царь Иван или историк Степан? Вопрос, пожалуй, риторический… «Сильвестр, насколько известно, появился в Москве не ранее 1547 г.», — безапелляционно заявляет С. Б. Веселовский. Позволительно спросить, кому это известно? Похоже, прежде всего, самому С. Б. Веселовскому, поскольку вопрос о времени появлении Сильвестра в Москве дискуссионный. Исследователи предлагали различные его решения, о чем, несомненно, знал С. Б. Веселовский, но почему-то сделал вид, будто не знает. Между тем, есть основания относить приезд Сильвестра в Москву к концу 30-х годов XVI века. Если это так, то становятся надуманными и несправедливыми упреки во лжи, обращенные Веселовским к Ивану Грозному, который будто бы соврал, говоря, что «промышлением» Сильвестра князь Владимир и княгиня Ефросинья Старицкие вышли из-под стражи на свободу. Как показывает анализ соответствующих данных, именно по инициативе Сильвестра был поднят вопрос об освобождении старицких князей. А это означает, что, вопреки утверждению С. Б. Веселовского, Иван-интерполятор дал «характеристику всемогущества Сильвестра» вне связи с какой бы то ни было ложью. Другое дело, являлась ли царская характеристика попа Сильвестра, как выразился С. Б. Веселовский, «гиперболической» и насколько. Здесь есть еще какой-то предмет для обсуждений, хотя и сомнительный, на наш взгляд{217}. Не согласуется с рассказом Царственной книги и другое утверждение С. Б. Веселовского о том, что Сильвестр якобы «не принимал никакого участия в суматохе о присяге» наследнику престола младенцу Дмитрию. На самом деле это было не так, хотя действительно мы не видим Сильвестра среди тех, кто должен был целовать крест Дмитрию, что, впрочем, естественно, поскольку Сильвестр, будучи священником, не имел думного чина и потому формально не входил ни в Ближнюю Думу, ни в большую Боярскую Думу, а значит, не мог участвовать в присяге. Но он активно содействовал старицкому князю Владимиру в его стремлении сесть на московский трон, дойдя до открытого столкновения с теми боярами, которые оставались верными Ивану и Дмитрию, и вынудил их объясняться с собой. Чтобы решиться на такое, благовещенскому попу надо было обладать немалым влиянием и реальной властью{218}. Иначе не понять, что позволило ему консолидировать вокруг себя группу советников, т. е. бояр, подобно своему лидеру настроенных в пользу старицкого князя. С. Б. Веселовский не в силах понять, как могло такое случиться, что взявшего сторону Владимира Старицкого и тем скомпрометированного Сильвестра царь Иван продолжал держать у себя не один год в приближении. С точки зрения рациональной это объяснить, конечно, трудно. Но если вспомнить о душевном состоянии Ивана IV, глубоко религиозного человека, охваченного чувством всепрощения и объятого желанием «свести всех в любовь», то невольно возникает вопрос: не простил ли государь провинившегося Сильвестра? Митрополит Иоанн имел основания утвердительно ответить на этот вопрос: «Царь всех простил! Царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха»{219}. Так выявляются некоторые чисто субъективные мотивы событий царствования Ивана Грозного. В этой связи необходимо заметить, что получившие широкое распространение в исторической науке представления о тенденциозности сочинений царя Ивана, об отступлении их автора от правды в угоду собственным, далеко не всегда верным взглядам, а также ради оправдания совершенных им жестокостей и просчетов, нуждаются в комментарии. Современные историки никак не могут хотя бы чуть-чуть проникнуться мироощущением наших предков и забывают главное: Иван IV — Богоизбранный, Богоданный и Боговенчанный Царь, разумеющий Царское предназначение, состоящее в служении Богу и ответственности его перед Богом не только за себя, но и за своих подданных: «Аз убо верую, о всех своих согрешениях вольных и невольных суд прияти ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подовластных дати ми ответ, аще что моим несмотрением погрешится»{220}. Царь Иван верил, что единственный ему судия — это Бог, который все видит, все знает. Так стал бы он оправдываться перед своими подданными, за которых он сам ответствен, или изворачиваться и лгать, выгораживая себя? Вряд ли. Такое могли придумать лишь позднейшие историки, не вникающие в психологию людей прошлого и модернизирующие ее. Кроме С. Б. Веселовского и независимо от него проблему интерполяций Царственной книги вообще и применительно к событиям 1553 года в частности изучал Д. Н. Альшиц{221}. Его работы прочно вошли в обиход исторической науки и были положительно оценены известными специалистами. Среди них был, естественно, С. Б. Веселовский{222}. Одобрительно отозвался об исследованиях Д. Н. Альшица и другой знаток истории Руси XVI века, А. А. Зимин, который говорил: «Одним из основных источников для изучения политической истории 40–50-х годов XVI в. являются вставки в Лицевой летописный свод, содержащий красочный рассказ о мятеже 1553 г., восстании 1547 г., выступлении пищальников 1546 г. и некоторые другие интересные сведения. Д. Н. Альшиц благодаря тонкому источниковедческому анализу выяснил, что составителя всех этих приписок следует искать в канцелярии Ивана Грозного. Он также убедительно показал, что приписки имеют тенденциозную направленность, связанную с событиями 60–70 годов XVI в.»{223}. К чести Д. Н. Альшица нужно сказать, что он, доказывая авторство приписок Ивана Грозного к Лицевому своду (в том числе касающихся событий 1553 г.), не стал на путь полного отрицания их как важного исторического источника, несмотря на то, что в своих приписках царь, по словам исследователя, «нередко сбивается с летописной манеры изложения, и рассказы его приобретают характер острых памфлетов», в которых нарушается действительная связь и последовательность событий. Ибо «при всем том объективная правота Грозного в его борьбе обеспечила общую правильность его оценок событий и деятелей. К тому же… было бы неправильно делать вывод, что все приписки Грозного неверно передают исторические факты, которым они посвящены. Приписок — много десятков, но лишь некоторые могут быть признаны искажающими действительность. Большинство приписок Грозного является результатом его работы с документами и отражает своим содержанием подлинные документы того времени. Даже множество мелких поправок к тексту летописи свидетельствует о том, что главное направление его редакторской деятельности вело к восстановлению правильности изложения, к уточнению истины»{224}. Д. Н. Альшиц специально отмечает, что в своем исследовании останавливается лишь на приписках Грозного, искажающих действительность, «а не на тех, которые верно передают факты»{225}. Это замечание имеет для нас существенное значение, поскольку, надо полагать, проясняет отношение автора к тексту приписки, где Сильвестр охарактеризован как «всемогий». Д. Н. Альшиц не останавливается на данном тексте. Не следует ли это понимать так, что исследователь признает правильной такую характеристику? Не отвергал ее и Смирнов, полагавший, что содержащаяся в Царственной книге характеристика Сильвестра «находит свое подтверждение в объективных данных источников. Так, важнейшее заявление Царственной книги о том, что Сильвестр был у государя «в совете духовном и думном», вполне отвечает тем наблюдениям, которые вытекают из рассмотрения послания Сильвестра кн. Горбатому-Шуйскому (которое очень ясно говорит об отношении Сильвестра к «думному совету») и материалов о Башкине (сохранивших картину государева «совета» с участием Сильвестра). То же можно сказать и о словах Царственной книги о том, что Сильвестр «всякие дела и власти святителския и царския правяше». Мы видели, что диапазон деятельности Сильвестра был весьма широк — от обсуждения вопросов казанской политики до переговоров с Иоасафом по делам Стоглавого собора; от дел, связанных с судьбой опальных бояр, до руководства работами по восстановлению икон и росписей кремлевских соборов и дворцов; от инструкций по проведению в жизнь решений Стоглавого собора (в письме Горбатому-Шуйскому) до весьма тесных связей с таможенными делами и финансовыми операциями (в которых Анфим Сильвестров выступает вряд ли самостоятельно или независимо от своего отца). Источники сохранили определенный материал, позволяющий комментировать и слова Царственной книги о том, что Сильвестр «указываше» митрополиту, владыкам, игуменам, попам, боярам, дьякам, воеводам, детям боярским «и всяким людям». Мы видели, что среди лиц, о сношениях с которыми Сильвестра имеются данные источников, есть и митрополит (правда, бывший) Иоасаф, и будущий новгородский архиепископ Серапион Курцов (вместе с которым — тогда еще игуменом Троице-Сергиева монастыря — Сильвестр ездил к Иоасафу), и кандидат в троицкие игумены Артемий, и поп Симеон (авторитарный характер отношений к которому со стороны Сильвестра очень ярко отражен в «жалобнице» Симеона). Не менее выразителен и перечень светских лиц, к которым можно отнести слова Царственной книги о том, как «указывал» Сильвестр, включающий в себя и кн. Горбатого-Шуйского, и не названного по имени опального боярина (из письма к нему Сильвестра), и такого приказного деятеля, как дьяк Висковатый…, и казначей Хозяин Тютин, и даже «сын боярский» Матвей Башкин. Наконец, в источниках сохранились данные и о «советниках» Сильвестра, в том числе и об Алексее Адашеве (в «совете» с которыми Сильвестр участвовал в обсуждении дела о ереси Башкина)»{226}. После столь тщательно рассмотрения И. И. Смирновым элементов, из которых составлена характеристика Сильвестра, имеющая, как справедливо утверждает автор, реальную основу, он вдруг дает ход назад, заявляя: «Однако взятая в целом, эта характеристика, напротив, никак не может быть призвана отвечающей той действительной роли, которую Сильвестр играл в политической жизни Русского государства 40–50-х годов, ибо элементы реального, имеющиеся в характеристике Царственной книги, содержатся в ней в столь гиперболизированной форме, что это привело к полному нарушению пропорций и перспективы, в результате чего и получился образ Сильвестра — всемогущего, держащего в своих руках всю власть в государстве, и «святительскую», и «царскую», и «владеяше всем». В этом искажении реальных пропорций и отношений с сознательной целью чрезмерного преувеличения размеров власти и степени влияния Сильвестра и заключается основная, враждебная Сильвестру тенденциозность рассказа Царственной книги»{227}. И. И. Смирнов полагает, будто «образ «всемогущего» Сильвестра, нарисованный Царственной книгой, опровергается прямыми показаниями источников, позволяющими определить степень влияния Сильвестра и составить себе представление о реальных масштабах его власти»{228}. В качестве доказательства историк ссылается на поездку Сильвестра к бывшему митрополиту Иоасафу, организованную во время работы Стоглавого собора, а также на испытание старца Артемия перед назначением его игуменом Троице-Сергиева монастыря. Эти факты, по Смирнову, «скорее рисуют Сильвестра как доверенного исполнителя, чем как руководителя и вдохновителя правительства»{229}. Следует, однако, не забывать, что названные поручения особого свойства. В них очень был заинтересован не кто иной, как Сильвестр. Это лишь по форме царские поручения, а по сути — предприятия самого Сильвестра. К Иоасафу он ездил, чтобы заручиться авторитетной поддержкой инициируемого реформаторами нестяжательского проекта, застопорившегося на Стоглавом соборе. Сильвестр имел основания надеяться на успешный исход своего свидания с экс-митрополитом, поскольку Иоасаф разделял взгляды нестяжателей{230}. К тому же между Иоасафом и Сильвестром давно установились добрые отношения, о чем можно судить по истории освобождения из-под стражи Владимира и Ефросиньи Старицких. Участие Сильвестра в судьбе старца Артемия тоже говорит о многом. Известно, что Артемий принадлежал к радикальному направлению нестяжателей{231}. Это он, Артемий, обращался к Стоглавому собору с призывом «села отнимати у манастырей»{232}. Кроме того, Артемий, как установил церковный собор 1553–1554 гг., сочувствовал еретикам и даже сам был заражен ересью{233}. Во всяком случае, его богословские взгляды «давали возможность для критики официальной церкви»{234}. Все это в Артемии привлекало Сильвестра, и он, присмотревшись к старцу, рекомендовал его на пост игумена Троице-Сергиева монастыря{235}. Как видим, Сильвестру давались поручения, в которых он был непосредственно заинтересован и, надо думать, по собственной инициативе взялся их исполнить, хотя внешне это выглядело как задание царя и собора. Следовательно, «реальные масштабы власти» и влияния Сильвестра являлись таковыми, что позволяли ему брать в свои руки любое дело, если того требовали интересы Избранной Рады. Еще один момент, опровергающий, согласно И. И. Смирнову, идею всевластия благовещенского попа, — «это общая незначительность количества сведений о Сильвестре. Слишком уж мало для «всемогущего» правителя государства отложилось в источниках следов его деятельности»{236}. Однако Сильвестр, по нашему убеждению, действовал в рамках неформальной власти, приводя в движение других людей, посредством которых добивался поставленных целей. Вынашивая планы, не подлежащие оглашению, Сильвестр старался держаться в тени, предпочитая скрытность открытости, тайное явному. Поэтому источники так скупы на сведения о нем. Данное объяснение применимо к некоторым частным фактам, привлекаемым И. И. Смирновым для опровержения характеристики, данной Сильвестру Царственной книгой. Речь идет о факте «отсутствия Сильвестра в списке лиц, получивших пасхальные подарки от новгородского архиепископа в 1548 г.». И. И. Смирнов полагает, что «неофициальный характер этого списка, превращавший его… в своего рода барометр, чутко реагирующий на изменения в политической обстановке в стране после ликвидации боярского правления, казалось бы, делал само собою разумеющимся включение Сильвестра в подарочный список. И тем не менее Сильвестр подарков от новгородского архиепископа не получил, хотя в подарочном списке значатся не только представители высшей церковной иерархии, вроде тверского епископа Акакия, но и такие лица, как симоновский архимандрит Трифон, духовник Ивана IV протопоп Яков и даже келейник митрополита Макария Селиван»{237}. Отсутствие Сильвестра в подарочном списке новгородского архиепископа Феодосия было истолковано И. И. Смирновым (кстати сказать, и другими учеными) как указание на ограниченное политическое влияние Сильвестра, его достаточно скромную роль в придворной жизни{238}. Но эту версию историка нельзя считать единственно возможной. Можно также предположить, что Сильвестр не попал в число лиц, получивших пасхальные подношения, по причине сравнительной незначительности своего духовного чина. Являясь по должности церковным попом, он с точки зрения служебного положения уступал и симоновскому архимандриту Трифону, и духовнику царя Ивана протопопу Якову, и даже келейнику митрополита Трифону. Не исключено здесь, впрочем, и другое: неразглашение усиливающегося влияния Сильвестра на молодого государя, вследствие чего новгородский архиепископ не знал пока ничего о подлинной роли благовещенского священника и потому не включил его в список одариваемых. Но ближе к истине, на наш взгляд, третье, к чему почти подошел Е. Е. Голубинский, который отсутствие имени Сильвестра в списке Феодосия понял так, что в 1547 году Сильвестр «еще не был приближенным к государю»{239}. Точка зрения Е. Е. Голубинского нуждается, по нашему мнению, в некотором коррективе. Ведь, например, келейник митрополита Трифон тоже «не был приближенным к государю». Но в список новгородского владыки он все-таки попал. Значит, вопрос не в том, был ли на момент составления списка Сильвестр «приближенным к государю» или нет. Вопрос скорее в том, обладал ли Сильвестр властью, пользовался ли влиянием на царя к этому моменту и каковы масштабы того и другого. Судя по всему, Сильвестр вошел в круг приближенных Ивана IV после событий, связанных с «великим пожаром» в Москве в июне 1547 года. Но «всемогим» он стал не сразу, а по мере того, как входил в доверие к государю и подчинял его своему влиянию. Перед нами процесс становления Сильвестра в роли всевластного временщика. К пасхальному празднику 1548 года Сильвестр только начинал свое восхождение на вершину власти. Тогда благовещенский поп был еще малозаметной придворной фигурой. Видимо, поэтому в списке Феодосия нет его имени. Но в начале 50-х годов XVI века Сильвестр превращается во всесильного правителя, властвовавшего вместе со своим собратом по Избранной Раде Алексеем Адашевым. Иное мнение у И. И. Смирнова, который пишет: «Если от 1548 г. продвинуться несколько вперед, к началу 50-х годов — к тому отрезку времени, в котором можно видеть период наибольшей политической активности Сильвестра, то и здесь источники дают основание говорить в гораздо более ограничительной форме о степени и размерах политического влияния Сильвестра, чем это сделано в Царственной книге»{240}. И. И. Смирнов вспоминает историю с дьяком И. М. Висковатым, на протяжении трех лет публично («вопил и возмущал народ») обвинявшим Сильвестра в ереси. Эта история укрепила сомнения исследователя насчет «всемогущества» Сильвестра. И. И. Смирнов говорит: «Казалось бы, — если стоять на позициях формулы Царственной книги о «всемогущем» Сильвестре, — Сильвестру не предстояло никакого труда пресечь действия дьяка-возмутителя и расправиться с ним. Однако «поношение» Сильвестра Висковатым никак не отразилось на политической карьере Висковатого, который именно в 1551–1554 гг. играет особенно крупную роль и в дипломатической деятельности, и в делах общегосударственного характера. Больше того, в борьбе Висковатого с Сильвестром роль нападающей стороны принадлежала не попу, а дьяку, и Сильвестру пришлось даже давать специальные объяснения собору 1554 г., отводя от себя обвинения со стороны Висковатого»{241}. Есть, однако, другая сторона вопроса, оставляемая И. И. Смирновым без внимания: степень эффективности обвинений Висковатого. Иными словами, возымели ли действие громогласные разоблачения Сильвестра в ереси, упорно повторяемые Висковатым. Казалось бы, столь тяжкие обвинения должны были очень навредить Сильвестру. Но этого не произошло. Сильвестр не только не пострадал, но, напротив, достиг своего политического зенита, что могло состояться лишь при наличии у него мощных рычагов власти. И только тогда, когда пик власти им был пройден{242}, а ересь приобрела угрожающий для Руси характер, у Сильвестра потребовали объяснений, в результате чего наказанию подвергся не он, а Висковатый, хотя обвинения последнего не являлись, как мы знаем, беспочвенными. Подобный ход событий свидетельствует, на наш взгляд, о том, что Сильвестр обладал такой властью и влиянием, о которые разбились все попытки Висковатого убрать его с политической сцены. Наскоки И. М. Висковатого на Сильвестра, незыблемость позиций последнего, несмотря на эти наскоки, отражают, по-видимому, напряженную придворную борьбу, сопровождавшую деятельность Избранной Рады, у которой среди придворных имелось, несомненно, немало противников, стоявших за сохранение и упрочение русского самодержавия, чистоту православной веры и нерушимость святой апостольской церкви. В ряду этих противников Избранной Рады Висковатый выделялся незаурядными способностями, волевым характером и решительностью, почему представлял для Сильвестра «со товарищи» серьезную опасность. И они поступили разумно, перетянув Висковатого на свою сторону, о чем можно судить по совместной дипломатической работе посольского дьяка с Алексеем Адашевым в период Ливонской войны, дающей примеры предательства государственных и национальных интересов России. И. И. Смирнов полагает, что источником власти Сильвестра являлось благоволение к нему Ивана IV. «Степень веса и влияния Сильвестра как политика, — говорит он, — должна быть поставлена в прямую связь и зависимость с тем, что в своих действиях Сильвестр опирался на авторитет царской власти, действуя от имени этой власти»{243}. Это верно, но отчасти, поскольку И. И. Смирнов, как нам кажется, фиксирует лишь один из моментов превращения Сильвестра во всемогущего временщика. Необходимо понять, что Сильвестр и Адашев всесильными стали не сразу, а пройдя несколько этапов на пути к своему могуществу. Сначала надо было ближе познакомиться с царем, попасть в его окружение, вызвать у него расположение к себе и стать царским любимцем. Затем наступало время, когда государь поручал избранникам исполнение от своего имени тех или иных дел. На этом этапе поручения исполнялись в строгом соответствии с инструкциями и указаниями самодержца. И только потом исполнитель, выступая формально от лица царя и якобы по его велению, вносил элемент самостоятельности в осуществление власти, концентрируя ее в собственных руках, что превосходно выражено в известной формуле Ивана Грозного: «Посем же… от прародителей наших данную нам власть себе отъяша». Следовательно, перед нами не одноактное действие, а целый процесс постепенного освоения высшей власти Сильвестром и Адашевым. В источниках данный процесс запечатлен по-разному: в одном случае фрагментарно, т. е. в виде отдельных этапов, а в другом — целостно, с описанием всех ступеней отторжения власти от царя. Так, Хрущевская Степенная книга рассказывает о двух начальных этапах проникновения во власть Адашева — о приближении его к себе царем Иваном{244} и поручении ему, которое открывало перед царским избранником огромные властные перспективы{245}. Царственная же книга, минуя предшествующие этапы продвижения Сильвестра к власти, характеризует благовещенского священника как уже состоявшегося всесильного правителя, пребывающего у государя «в великом жаловании» и вершащего государевым именем все дела, «святительские и царские», правителя, повелевающего всеми людьми, церковными и светскими. Есть, однако, источники, где завладение властью Сильвестром и Адашевым представлено в полной последовательности. В первую очередь здесь надо назвать переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским, где царь напоминает беглому князю, как приблизил к себе Адашева и Сильвестра, «чая» от первого «прямые службы», а от второго — «совета духовного». Вынашивая далеко идущие планы, они служили государю, но притворно («не истинно, а лукавым советом»). Затем, войдя в тайный сговор («и начаша советовати отаи нас»), Адашев и Сильвестр со своими советниками посягнули на самодержавную власть, низвели Ивана до роли председателя в Боярской Думе, удостоив чести царя по названию, государя на словах, а не на деле. Так представитель «священства» (Сильвестр) и представитель «рядничества» (Адашев) стали «государиться», лишив царя Ивана полноты власти. Аналогичную картину трехступенчатого восхождения Адашева на вершину власти рисует и Пискаревский летописец, повествуя о том, как царь Иван приблизил к себе Алексея Адашева после возвращения его из поездки в Турцию, как государь поручил ему рассмотрение челобитных и контроль за своевременным ответом властей на жалобы подданных, как Адашев, в конце концов, выступил в роли властителя, правившего вместе с Сильвестром Русской землей. Пора, однако, вернуться к Царственной книге в части ее характеристики Сильвестра. Под влиянием исследования И. И. Смирнова и особенно работ С. Б. Веселовского в современной исторической науке сложилось нечто вроде стереотипа в оценке политической характеристики Сильвестра, данной Царственной книгой. «Исследователи справедливо отмечают, что эта характеристика полна тенденциозных преувеличений», — говорит новейший автор труда об Иване Грозном{246}. Полагаем, однако, что высказанные нами соображения позволяют признать исторически достоверным образ Сильвестра, запечатленный Царственной книгой. Быть может, в ней кое-что и преувеличено. Но главное, а именно то, что Сильвестр обладал властью, стесняющей власть самодержца и ограничивающей ее, Царственная книга уловила верно{247}. Важно отметить, что Сильвестр, по рассказу летописца, «владеяше всем» не единолично, а в компании со «своими советники», т. е. вместе с группой лиц, именуемых Избранной Радой. Если Пискаревский летописец и Царственная книга недвусмысленно и прямо свидетельствуют о могуществе Сильвестра, то некоторые другие источники содержат косвенные указания на сей счет. К ним относится послание Сильвестра казанскому наместнику князю А. Б. Горбатому-Шуйскому, отправленное адресату где-то в конце 1552 года или в начале (январь — февраль) 1553 года, скорее всего до марта 1553 года, т. е. до болезни царя Ивана{248}. Это послание кремлевского попа являлось ответом на письмо к нему Горбатого-Шуйского, в котором наместник просил Сильвестра сообщить ему, как оценивает царь его службу в Казани, о которой он извещал Ивана IV в специальном послании-отчете. В ответ Сильвестр писал: «А еже убо издалека зрех и овогда слышах благоразумное твое и премудрое писание к Царю и к ближним твоим, насладихся сего и порадовахся, и всячески удивихся многим твоим трудом и великим подвигом, иже строеши и утвержаеши град и живущих в нем, по Царскому наказу, и по своему, Богом дарованному, разуму. Велми о сем Государь и вси ближний благодарят твоего разума делу о всем. И о воинстве також устраяеши»{249}. Отсюда следует, что Сильвестр был в курсе вопросов, связанных с управлением страной. Он имел даже доступ к служебной переписке, в частности к посланиям, приходящим на царское имя. Однако Сильвестр старался не выпячивать эти необычные для священника (пусть даже священника домового храма Благовещения в Кремле) возможности. Видимо, поэтому он говорит Горбатому, что его «премудрое писание к царю» не читал, а иногда только слышал о нем и «зрех издалека». Той же цели камуфляжа подлинной роли Сильвестра при царе Иване служит уничижительная риторика, присутствующая в его послании Горбатому-Шуйскому: «благовещенский поп», «последняя нищета», «грешный», «неключимый», «непотребный раб Сильвестришко» и пр{250}. Обращает внимание знакомство «раба Сильвестришки» с письмами казанского наместника своим родичам («ближним»). Это можно понять лишь в том смысле, что родственникам А. Б. Горбатого Сильвестр казался человеком, обладавшим большой властью и влиянием да к тому же расположенным к членам их семейства и конкретно, в частности, к «ближнему», несущему службу в Казани{251}. Следует сказать, Сильвестр выставляет главными героями взятия Казани воевод, в особенности А. Б. Горбатого-Шуйского: «Еже соверши граду сему Казанскому царским повелением, а вашим храбрьством и мужеством, наипаче твоим крепким воеводством и сподручными ти»; «царь и великий князь Иван Васильевич… град Казань разори своим благородием и вашим храбрьством… купно же и вашим подвигом мужествене пособствующу ему…»{252}. По И. У. Будовницу, здесь «царь уже не выступает единоличным вершителем судьбы, действующим как божий посланец. Наоборот, тут всячески подчеркивается подвиг воевод, без которых царь бессилен»{253}. Сильвестр, полагает Р. Г. Скрынников, в послании «без обиняков заявлял, что Горбатому принадлежит главная заслуга в покорении Орды»{254}. А. А. Зимин услышал в приведенных словах Сильвестра «новые нотки» в отношении к царской власти{255}. Историк заметил, что, согласно Сильвестру, сподвижники царя дополняют власть монарха{256}, образуя полномочный совет при нем{257}, т. е. ограничивают власть государя, лишая ее самодержавных начал. Оценивая послание в целом, И. У. Будовниц замечает, что в нем «Сильвестр, правда в несколько завуалированном виде, развивает мысль об ограниченности царской власти»{258}. Скажем больше: Сильвестр решается даже на откровенный выпад против царя, заявляя, что «добродетель есть лутчы всякого сана Царскаго»{259}. Во всем этом благовещенский поп выступает как проводник идей Избранной Рады, нацеленной на изменение самодержавного строя Руси. Сильвестр в своем письме к Горбатому вторгается в «широкий круг вопросов, связанных с положением в Казани и Казанском крае, а также с деятельностью казанского наместника и других представителей властей»{260}, высказывая при этом нечто вроде предписаний по управлению покоренной земли. Подобные вещи имел, наверное, в виду Грозный, когда говорил о Сильвестре: «И тако вместо духовных, мирская нача советовати». И конечно же, Сильвестр в своих внушениях казанскому наместнику предстает перед нами весьма важной персоной в московских правящих кругах середины XVI века. Это подтверждает и тот факт, что послание Сильвестра носило далеко не частный характер. Не случайно Сильвестр рекомендует Горбатому-Шуйскому прочесть его «прочим Государьским Воеводам, советным ти о Государеве деле, и священному чину, и Христоимянитому стаду»{261}. Следовательно, в компетенцию Сильвестра-правителя входили все российские подданные, находящиеся в Казани. Наставления и рекомендации, адресованные Сильвестром князю Горбатому-Шуйскому, касались не только светских, но и духовных дел. По этому поводу И. И. Смирнов писал: «Особо выделен в послании вопрос о деятельности церкви, причем, указывая Горбатому-Шуйскому на то, что на нем как наместнике лежит обязанность наблюдения и руководства деятельностью церковных властей в крае, Сильвестр, можно сказать, прямо инструктирует Горбатого-Шуйского, указывая, что он должен действовать в церковных вопросах «по Соборному Уложению, а та книжка соборная [Стоглав] есть списана в новом городе в Свияжском у протопопа»{262}. Сильвестр, стало быть, считает себя вправе вмешиваться в церковное управление Казанским краем. Ему даже известна такая деталь, как наличие у свияжского протопопа копии Стоглава. Сильвестр, следовательно, был осведомлен насчет обеспечения епархий этим новым соборным документом, по которому надлежало строить жизнь церкви на местах. Важным элементом религиозной политики Москвы являлось отношение к населяющим Казанский край нехристианским народам. Сильвестр затронул и этот весьма щекотливый вопрос, призвав своего адресата к насильственной христианизации жителей Поволжья, хотя и под внешне благовидным предлогом: «Зело бо хощет сего Бог, дабы вся вселенная наполнилася православиа»{263}. Характерно и то, что инструментом принудительного обращения неверных в православную веру Сильвестр считает царскую власть, а не мирную проповедь миссионеров, убеждающих иноверцев в истинности православия. «Ни что же бо тако пользует православных Царей, яко же се, еже неверных в веру обращати, аще и не восхотят…», — писал он, выбрасывая явно провокационный лозунг{264}. Чтобы понять меру его провокационности, надлежит вспомнить мятежную обстановку в Поволжье после взятия Казани»{265} и политику Ивана IV в отношении народов Поволжья, подчинявшихся ранее татарам. Царь, как известно, «разослал по всем улусам черным ясачным людям жалованные грамоты, писал, чтоб шли к нему без страха, он их пожалует, а они платили ему ясак, как и прежним казанским царям»{266}. Государь здесь придерживался старой, оправданной жизнью практики русских князей, оставлявших внутренний уклад жизни (в том числе и верования) подвластных племен нетронутым и довольствовавшихся исправной выплатой дани{267}, в отличие от западных завоевателей, которые утверждали католическую веру в покоренных землях жестокой силой. Что касается обращения в православную веру поволжских людей, то Иван уповал на волю «милосердного Бога», моля его, чтобы он «в граде казанском» утвердил «благоверие, истинный закон христианьской, и неверных бы обратил ко истинному христианьскому закону»{268}. Наставления же Сильвестра по части насильственного обращения в православие населения бывшего Казанского ханства шли, как видим, вразрез с политикой царя Ивана, «лаской» привлекавшего поволжских инородцев под «высокую государеву руку», и больше соответствовали западным, нежели отечественным приемам распространения христианства. Эти наставления были особенно опасны в обстановке мятежных настроений местных племен, то и дело поднимавших войну против русских. Своими призывами к насильственной христианизации Казанского края Сильвестр мог лишь усилить мятежный дух народов Поволжья и тем самым осложнить процесс освоения присоединенных к Руси земель. Осознавал ли Сильвестр вредоносность для Русского государства предлагаемых им принудительных мер при осуществлении религиозной политики в Поволжье — вот в чем вопрос. На наш взгляд, благовещенский поп не был столь простодушен, чтобы не понимать этого. Политический вес и значение Сильвестра вполне определенно проецируются в самом факте обращения к нему А. Б. Горбатого-Шуйского. В историографии на это уже обращалось внимание. Так, И. И. Смирнов замечал, что «для характеристики положения, занимавшегося Сильвестром, чрезвычайно показателен самый факт обращения к нему Горбатого-Шуйского. То, что кн. Горбатый-Шуйский, занимавший по своему весу и значению одно из первых мест среди боярства, действует именно через Сильвестра, стремясь, таким образом, обеспечить себе поддержку при обсуждении царем и его ближними людьми деятельности казанского наместника, свидетельствует, конечно, об очень большом политическом весе попа Сильвестра»{269}. И. И. Смирнов тут, конечно, прав. Затронул данный сюжет и Б. Н. Флоря, который говорил, что «деятельность Сильвестра далеко выходила за рамки того, что мог позволить себе рядовой священник, даже если бы он и являлся царским духовником. В этом плане весьма показательно, что один из наиболее знатных представителей московской аристократии (его род уступал по своему значению только близким родственникам царя по отцу — князьям Бельским и Мстиславским), князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, первый наместник покоренной Казани, счел нужным обратиться к Сильвестру с просьбой о совете, как управлять покоренным краем, и Сильвестр написал ему подробные рекомендации по разным вопросам. Само послание Сильвестра заканчивалось предложением прочесть его текст «прочим государьским воеводам… и священному чину и христоименитому стаду». Все это дает основание говорить о Сильвестре как о человеке, пользующемся особым доверием царя (иначе казанский наместник не стал бы обращаться к простому священнику) и погруженном в обсуждение разных проблем конкретной политики»{270}. Не отрицая «особого доверия», которым Сильвестр пользовался со стороны царя Ивана, необходимо все-таки заметить: благовещенский поп на определенном этапе своей придворной карьеры выступал в качестве самодостаточного государственного деятеля, ведущего собственную политическую игру, что явствует из содержания его послания Горбатому, где встречаем высказывания, противоречащие, как мы уже убедились, установкам государя. Послание попа Сильвестра кн. А. Б. Горбатому-Шуйскому позволяет говорить о его авторе как о человеке, обладавшем большой властью, которая простиралась на широкий круг государевых подданных, включая как светских лиц, так и людей духовного звания. Оно, стало быть, согласуется с рассказом Ивана Грозного о том, что поп Сильвестр сосредоточил в руках своих мирскую и духовную власть. В этой связи необходимо отметить, что в концовке письма Сильвестра к Горбатому-Шуйскому есть одна очень существенная деталь, не привлекшая должного внимания исследователей. В состоянии непомерного самомнения автор послания называет свое сочинение «божественным писанием» и даже — «святым»{271}, считает его богоугодным, для мирян и «священного чина» душеполезным, душеспасительным и учительным: «нескрый сего святаго писания… да со вниманием прочетше на пользу душам своим, и начнут вся сия творити и учити, яже есть писано, Господу поспешествующу и слово утвержающю, и велию благодать обрящете от Бога вкупе, и многим душам спасение получите, во оставление грехов и жизнь вечную»{272}. Говорить такие слова мог позволить себе человек, претендующий на духовную власть, если не превосходящую, то равную святительской власти. Данные слова, принадлежа самому Сильвестру (в чем их огромная ценность), подтверждают правдивость сообщения Ивана Грозного о «восхищении» благовещенским попом «святительского сана». Эти слова, обращенные не только к Горбатому, но ко всему «христоимянитому стаду» в Казани, согласуются также с Царственной книгой, извещающей о том, что Сильвестр «указываше бо и митрополиту и владыкам и архимаритом и игуменом и черньцем и попом и бояром и дияком и приказным людем и воеводам и детем боярским и всяким людем…». Слухи относительно властных возможностяй Сильвестра, его влиянии при дворе московского царя доходили до русского общества того времени. На это указывает послание Максима Грека Сильвестру. Уже одно подобострастное обращение к адресату, открывающее письмо «Святогорца», говорит о многом: «Честнейшему во Иереях Вышнего, и всякими цветы добродетельными преукрашенному, и во искустве и разуме Богодухновенных Писании изящному разсудителю, Господину Селивестру и благодетелю моему, неключимый чернец он сице, смея и не смея много челом бью до земли»{273}. Максим пишет Сильвестру, что о его милосердии и содействии «требующим помощи» слышал «от всех»{274}. И вот теперь и он, Максим, просит Сильвестра похлопотать перед государем о вдове и детях одного умершего князя, оказавшихся в бедственном положении: «Сего ради и аз с добрым упованием смею и бью челом твоему благоутробию, дабы еси пожаловал поминал благоверному Царю и Самодержцу всея Русии о детях покойника Никиты Борисовича, чтобы Государь умилосердился и показал милость к ним, в великой скудости и нужде живущим. Се долг мног, се три сестры, да нечим отдати их. Умилосердися Бога ради, простри руку помощи, по твоему обычному Богоугодному милосердию. Ей, молю тя, честнейший Иерей! помози многоскорбной вдове и сиротам ея, угаси росою благоутробия твоего горькия слезы безпрестани изливаеми. Буди вдовам предстатель и сиротам отец, по оному праведному многострадальцу»{275}. Данная просьба Максима Грека не оставляет сомнений в том, что Сильвестр пользовался в общественных кругах репутацией придворного, в высшей степени влиятельного во власти, имеющего прямой выход на государя («дерзновение к державному») и способного своим заступничеством облегчить судьбу любого человека, даже провинившегося перед царем. В письме Максима отражен именно такой случай, поскольку был связан с Никитой Борисовичем, которого архимандрит Леонид отождествил с князем Ростовским-Приимковым{276}, причастным к государственной измене своего родственника князя Семена Ростовского. Летописец сообщает, что в июле 1554 года побежал в Литву князь Никита Ростовский, но на пути туда в пограничном Торопце был схвачен детьми боярскими и приведен к царю Ивану, который велел спросить беглеца, «отчего побежал». Князь Никита ответил, что «его отпустил в Литву боярин князь Семен Ростовской к королю сказати про себя, что он к королю идеть, а с ним братия его и племянники…»{277}. Государь приказал «поймать князя Семена и выпросить его», т. е. допросить. Наряду с прочим Семен Ростовский показал, что «с ним ехати хотели… Ростовские князи, Лобановы и Приимковы, и иные клятвопреступники»{278}. В числе князей Приимковых, изготовившихся к бегству в Литву, был, по всей видимости, и Никита Борисович, сурово за то поплатившийся{279}. За его вдову и детей хлопочет, как видим, Максим Грек, взявшись за дело довольно щекотливое, поскольку речь шла о семье государственного изменника. Но Грек, судя по всему, знал, к кому обращался. Он знал, по-видимому, не только о всесилии Сильвестра, но также о его расположении к Семену Ростовскому и родственникам князя, о чем с негодованием говорил Иван Грозный впоследствии Курбскому: «Поп Селивестр и с вами, своими злыми советники, того собаку (Семена Ростовского. — И.Ф.) учал в велице брежение держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, но и всему его роду»{280}. Примечательно то, что Максим Грек, не опасаясь за свои слова, называет Никиту Борисовича «праведным многострадальней» (значит, невинным), становясь, следовательно, как бы в оппозицию царской власти и надеясь, вероятно, что найдет понимание у Сильвестра… Итак, рассказы Ивана Грозного и Андрея Курбского о Сильвестре и Алексее Адашеве как о всевластных советниках, ограничивающих вместе с другими членами Избранной Рады русское «самодержавство» середины XVI века, находят убедительное подтверждение в некоторых независимых источниках, рассмотренных нами выше. Практическая деятельность Сильвестра и Адашева является ярким свидетельством их доминирующей роли в политической жизни Руси обозначенного времени. * * *Сильвестр и Адашев вряд ли достигли бы столь значительной власти, не осуществи они «кадровой перетряски», преследующей цель внедрения своих агентов в правительственные сферы. Едва войдя в доверие к царю Ивану, эти деятели кардинальным образом изменили состав Боярской Думы. Большой интерес в этой связи представляют наблюдения А. А. Зимина, который пишет: «Состав Думы резко увеличился: вместо 12 человек бояр, входивших в нее в 30-х годах XVI в., в Думе к концу 1549 г. насчитывалось 32 боярина, причем характерно, что десять бояр получили свои звания уже после февраля 1549 г., в их числе был ряд сподвижников главы правительства Алексея Адашева. О князе Дмитрии Ивановиче Курлятеве как о «единомысленнике» князя Курбского и его «приятелей» говорит сам Иван Грозный. Близок к Адашеву был и Иван Васильевич Шереметьев, постриженный позднее в цитадели нестяжательства — Кирилло-Белозерском монастыре, который поддерживал Сильвестра. Входил в Избранную раду Михаил Яковлевич Морозов. Всего боярами стали после московского восстания 1547 г. 18 человек, т. е. больше половины состава бояр Думы в конце 1549 г. получило свои звания после восстания… Сходная картина наблюдается и при изучении состава окольничих. Из девяти человек шестеро получили свои звания в 1549 г., двое в 1547 г. (в годы боярского правления было всего 2–3 окольничих)»{281}. Перед нами настоящая, так сказать, кадровая революция, произведенная теми, кто спровоцировал народные волнения в Москве летом 1547 года, кто воспользовался в своих интересах душевным состоянием Ивана IV, возжелавшего править подданными во имя правды, любви и согласия. А. А. Зимин полагает, что «увеличение в три раза численности состава Думы свидетельствовало о стремлении правительства ослабить политическое влияние нескольких аристократических фамилий, монопольно распоряжавшихся Думой в малолетство Ивана Грозного»{282}. Быть может, А. А. Зимин прав, но лишь отчасти. Основной смысл столь решительных перемен в количественном составе Боярской Думы заключался, на наш взгляд, в стремлении создать Сильвестру и Адашеву опору большинства в этом высшем государственном учреждении страны. Цель здесь ясна: усиление власти Сильвестра и Адашева, необходимое для успешного проведения намеченных Избранной Радой реформ. Следует согласиться с А. И. Филюшкиным, что в данном случае надо вести речь о приходе в правительство будущих реформаторов{283}. Их значительный приток в Боярскую Думу расширил фактические прерогативы и степень участия этого правящего органа в государственных делах{284}. Прав, таким образом, и А. Г. Кузьмин, верно уловивший «тактический характер расширения состава Думы»{285}. Однако не следует забывать, что за этим в придворной игре тактическим ходом скрывалась политика, затрагивающая основы Русского государства в его прошлом, настоящем и будущем. Поэтому следует согласиться с И. И. Смирновым, который говорил, что изменения в составе Боярской Думы после 1547 года «носят отчетливо выраженный политический характер»{286}. В этой общей постановке вопроса И И. Смирнов, безусловно, прав. Но с ним нельзя солидаризоваться в определении конкретных политических причин, вызвавших радикальные изменения в составе Боярской Думы. Исследователь уверен, будто все эти изменения «стоят в прямой связи с общим характером политики правительства Ивана IV — политики, обращенной своим острием против «великих родов» княжеской знати, и вместе с тем свидетельствуют о выдвижении на первый план политической сцены представителей тех кругов, которые поддерживали эту политику»{287}. Не следует преувеличивать степень борьбы правительства царя Ивана против «великих родов», хотя нельзя не признать того, что она велась, стимулируемая дурными воспоминаниями государя о времени боярского правления. И все же борьба против родовитого боярства, призванная подорвать политическое могущество отдельных аристократических фамилий, не могла быть сокрушающей, поскольку наталкивалась на местничество, имеющее глубокие и прочные корни в московской жизни той поры. А. А. Зимин, говоря о резком увеличении в конце 40-х — начале 50-х гг. численного состава Боярской Думы как меры по ослаблению политического влияния «нескольких аристократических фамилий», замечал, что «в силу существования системы местничества это мероприятие было половинчатым: в Думу попадали новые лица, но все же из знатнейших боярских и княжеских фамилий»{288}. Трудно поверить, что Сильвестр и Адашев, склонившие Ивана к обновлению и увеличению состава Боярской Думы, не понимали слабой в условиях существования местничества эффективности этих перемен в борьбе против «великих родов» русского боярства. Значит, дело было не столько в аристократических родах, сколько в конкретных лицах, которым доверяли и на которых полагали опираться Сильвестр и Адашев. Отсюда следует, что поп Сильвестр с Алексеем Адашевым могли убеждать Ивана IV произвести решительные перемены в составе Боярской Думы, играя на негативном со времен боярского правления отношении царя к «великим родам» княжеской знати, тогда как на самом деле думали о том, как расширить Думу за счет своих реальных и потенциальных сторонников, чтобы таким образом укрепить собственное политическое положение. И они сумели добиться желаемого, перехитрив молодого, а потому неопытного и доверчивого царя. А. Л. Хорошкевич делит обновленную Думу на две группы — сторонников царя и приверженцев прежнего, боярского правления{289}. Но боярское правление — явление исключительное, возможное при чрезвычайных обстоятельствах: пустующем троне или малолетстве государя. В середине XVI века не было ни того, ни другого, и вопрос о боярском правлении не стоял. Правда, он, было, обозначился во время тяжелой болезни царя в марте 1553 года, но очень скоро по выздоровлении государя потерял реальный смысл. Поэтому правильнее, на наш взгляд, предполагать наличие в измененном составе Думы групп сторонников Ивана IV и приверженцев («советников») политического тандема Сильвестр — Адашев. Доброхоты временщиков, как показали дальнейшие события, господствовали в Боярской Думе. Кстати, нелишне было бы напомнить о том, что схожую картину рисовал также Иван Грозный, рассказывая о том, как Сильвестр и Адашев верховодили в Думе, «припустив» в нее своих людей. Следовательно, царь в данном случае, как и во множестве других, воспроизводил не вымышленные, а действительные факты. Кадровые перемены коснулись не только Боярской Думы, но и других правительственных учреждений. Произошли, в частности, изменения и в персональном составе дворцовых учреждений{290} и приказов{291}. Можно думать, что так было повсюду, во всех властных структурах. Не зря Иван Грозный потом скажет, что Сильвестр и Адашев с «единомысленниками» своими «ни единыя власти оставиша, идеже своя угодники не поставиша»{292}. Одних людей они привлекали на свою сторону членством в Боярской Думе{293} и разными должностями, а других — всякого рода пожалованиями, в том числе земельными («почали причитати к вотчинам и ко градом и к селом; еже деда нашего великого государя уложение, которые вотчины у вас взимати и которым вотчинам еже несть потреба от нас даятися, и те вотчины, ветру подобно раздаяли неподобно, и то деда нашего уложение разрушили, и тем многих людей к себе примирили»){294}. При этом Сильвестр и Адашев старались привлечь к себе «молотчих детей боярских», надеясь на их поддержку{295}. Но это не значит, что временщики отдавали безусловное предпочтение дворянам перед боярами. Стремление Сильвестра и Адашева обновить кадры во всех звеньях государственного управления свидетельствует, на наш взгляд, о том, что для них борьба с боярской аристократией являлась если не вовсе незначимой, то, во всяком случае, второстепенной. Главную задачу они видели в том, чтобы подчинить своему влиянию властные структуры Русского государства. Но разрешить эту задачу можно было лишь при содействии представителей «великих родов». Сильвестр и Адашев, конечно же, пользовались услугами высшей знати, имея в ее рядах немало сторонников. Р. Г. Скрынникову кажется, что перемены в составе правящих верхов, происшедшие после Московского восстания и падения Глинских в июне 1547 года, не имели принципиального значения{296}. «Сколь бы существенными ни были перемены в составе придворных группировок, не они определяли ход и направление преобразований», — утверждает историк{297}. По нашему мнению, это — ложный взгляд, уводящий в сторону от действительного развития событий. Растянувшиеся на некоторое время радикальные изменения в кадровом составе правящей верхушки необходимо рассматривать как некое подобие ползучей революции, направленной на ликвидацию сложившегося в России к середине XVI века церковно-политического строя. Эта направленность обнаруживается в практической деятельности новой власти. * * *В 1549 году истекал срок перемирия между Русью и Польско-Литовским королевством, заключенный семью годами раньше. Князь Д. Ф. Бельский и другие бояре напомнили об этом царю Ивану и просили («били челом») снестись с королевскими панами, чтобы начать переговоры о продлении перемирия. И вот в Москву в январе 1549 года прибыло посольство панов радных в составе витебского воеводы Станислава Кишки, маршалка Яна Камаевского и писаря Глеба Есмана (Есмановича). С русской стороны для ведения переговоров были определены дьяк Бакака Карачаров и подьячий Иван Висковатый — доверенное лицо государя{298}. Переговорный процесс оказался на грани срыва из-за несогласия иноземных послов включить в договорные документы царский титул Ивана IV и упорства русских дипломатов, настаивавших на этом включении. И тут обнаружилось, что у государя нет достаточной власти, чтобы разрешить возникшую проблему самостоятельно. Он вынужден был обратиться к боярам: «Царь и великий князь о том говорил много с бояры, пригоже ли имя его не сполна написати». А. Л. Хорошкевич по этому поводу замечает: «Примечателен сам факт такого обсуждения. Царь, которого в историографии ничтоже сумняшеся называют самодержцем, в решении весьма существенного для него и для судеб страны титулатурного вопроса обращается к мнению бояр»{299}. Действительно, Ивана в этой истории можно назвать самодержцем с большой натяжкой. Видимо, за время, прошедшее с момента июньских потрясений 1547 года, придворная партия Сильвестра и Адашева сумела укрепиться и несколько ограничить власть государя. Однако в итоге консультаций царя с боярами возобладала точка зрения Ивана, настаивающего на включении царского титула в текст перемирия{300}. Похоже, обсуждение вопроса проходило не просто. Царю пришлось долго убеждать бояр, что, по нашему мнению, отражено в словах «царь и великий князь о том говорил много с бояры». Но буквально через считаные дни Дума качнулась в противоположную сторону. И теперь Иван услышал иное: «Тако писати (без царского титула. — И.Ф.) пригоже для покою христьянского и для того, что крымской и казанской в великой недружбе»{301}. Свое мнение бояре мотивировали тем, что «против трех недругов стояти вдруг истомно), что «которые крови христианские прольютца за одно имя, а не за земли, ино от Бога о гресе сумнительно». Отстранив от ведения переговоров неуступчивых Карачарова и Висковатого{302}, проводивших линию Ивана IV, Боярская Дума, несмотря на сопротивление царя, сообщила польско-литовским послам «о своей воле заключить перемирие на очередные пять лет и об отказе Ивана от требования указать в литовском документе царский титул…»{303}. При этом бояре, желая, видимо, подсластить государю пилюлю, поманили его возможностью разрешить вопрос по-своему в будущем: «Вперед с крымским дело поделаетца, а с Казанью государь переведаетца ж, ино вперед с королем за то крепко стояти и дела с ним никакого не делати»{304}. Но Иван IV не поддался на дешевый соблазн и, вопреки заявлению бояр о его отказе внести в литовский документ свой царский титул, твердо стоял на прежней позиции: «И нам ныне которое име Бог дал от нашего прародителя, царя и великого князя Владимера Мономаха, и нам в том своем имени и быти, а без того нам своего имени ни в миру, ни в перемирье быти нельзя»{305}. Что же случилось? Чем объяснить такое колебание Думы? Конечно же, тем, что среди бояр развернулась острая борьба по данному вопросу, в которой верх одержала думская фракция, управляемая Сильвестром и Адашевым. И тут надо заметить, что А. Л. Хорошкевич, изучавшая ход январско-мартовских переговоров 1549 года, пришла к выводу о причастности Сильвестра к составлению боярского приговора 5 февраля 1549 года, отвергшего требование Ивана IV относительно необходимости включения царского титула в «перемирную грамоту»{306}. Основанием для этого вывода ей послужила аргументация позиции Боярской Думы, имеющая нравственный, религиозный характер, запечатленный приговором 5 февраля 1549 года{307}. Этот приговор, считает А. Л. Хорошкевич, «и содержанием, и тоном, и стилистикой резко выделяется среди всех официальных документов эпохи. Ни в предшествующих (XV — первая половина XVI в.), ни в последующих (вторая половина XVI–XVII в.) сообщениях посольских книг подобной аргументации внешнеполитической позиции Боярской думы — нравственной, религиозной (а не прагматической) — не встречается. В связи с этим напрашивается предположение, что к составлению приговора 5 февраля 1549 г. оказалось причастным духовное лицо (или лица), но мыслящее, впрочем, как истинный политик и легко отказывающееся от упреков в богопротивности войны как таковой… Имя одного из тех, кто совмещал политическую деятельность с духовным саном, достаточно хорошо известно. Это благовещенский поп Сильвестр»{308}. Развивая догадку А. Л. Хорошкевич, можно сказать, что причастность Сильвестра к составлению боярского приговора выдает явно сквозящее в нем нежелание воевать с западным соседом. Особенно наглядно оно проявится позднее, в период Ливонской войны, когда Сильвестр и Адашев всеми силами старались воспрепятствовать началу и продолжению войны, прибегая, помимо прочего, к религиозным доводам о греховности пролития христианской крови, будто с той, западной, стороны никто никогда не воевал с русскими, проливая кровь православного люда и разоряя святые храмы. Царя, хорошо знакомого с чувством христианской любви, настолько раздражали нравоучения на сей счет, что однажды он в сердцах воскликнул: «Ныне же вемы, в тех странах несть христиан, разве малейших служителей церковных и сокровенных раб Господних»{309}. Однако Грозный все же понимал определенную правоту своих оппонентов, поскольку ему хорошо было известно, что на русских землях, оказавшихся в составе Литвы и Польши, проживает немалое количество православных христиан, которые, несомненно, пострадали бы, случись война между Русью и Польско-Литовским королевством. Поэтому много позднее, в июне 1570 года, он по поводу заключения перемирия в 1549 году с Литвой и Польшей говорил послам Речи Посполитой: «Мы, как есть государи правые христьянские, жалея о христьянстве и не хотячи видети розлития крови христьянские, будучи в терпении и на себя для христьянства поступаясь, и для бояр своих челобитья, послов есмя брата своего воротити велели и потому с ними перемирье по прежним обычаям зделали»{310}. А. Л. Хорошкевич следующим образом прокомментировала эти слова Ивана Грозного: «Здесь нет и речи о той сложной международной обстановке, в которой находилась Россия в момент заключения перемирия. Зато настойчиво звучит мотив христианской любви, что, конечно, к 1570 г. стало очень актуальным для тирана, утопавшего в крови собственных подданных. Иван IV рассматривал этот акт как уступку боярам… Царь проявлял якобы образец долготерпения («на себя поступаясь»), смирения, платой за которое стали зверские казни 1570 г.»{311}. Сказывается здесь неприязнь к Ивану Грозному, переполняющая А. Л. Хорошкевич. Будь иначе, она вспомнила бы о том, что Грозный являлся глубоко религиозным, православным человеком, для которого чувство смирения и любви к ближнему не являлось чем-то неведомым и чуждым. Во всяком случае, А. Л. Хорошкевич, наверное, припомнила бы, что именно во время переговоров о перемирии с королевскими послами, обнаруживших интригу Сильвестра и дерзкое неповиновение Боярской Думы царю Ивану, в Москве состоялся (конец февраля 1549 года) «Собор примирения», где государь воочию показал свою способность к смирению и проявлению действенной христианской любви{312}. Понятно, почему Грозный говорил о своей уступке боярам. К 1570 году он значительно продвинулся в восстановлении самодержавия и мог теперь позволить себе такие речи. Пора, впрочем, вернуться к Сильвестру «с товарищи». Факты, связанные с январско-мартовскими 1549 года переговорами в Москве, убеждают нас в том, что негативное отношение Сильвестра к войне Русского государства с Западом, сочетающееся с идеей необходимости военных действий Руси против Востока, возникло отнюдь не в связи с подготовкой к Ливонской войне. Оно было свойственно Сильвестру с самого начала правительственной деятельности в качестве временщика и отражало, судя по всему, его положительное отношение к странам Запада как родственным Руси по вере и более привлекательным в сфере политического устройства. Царь же Иван придерживался совсем другого взгляда, полагая, что западные народы, пребывающие в «папежской» схизме и зараженные «лютеровой прелестью», отошли от истинной Христовой веры, и только русский народ во главе со своим богоизбранным государем является носителем и хранителем ее. Отсюда расхождения царя с попом Сильвестром в вопросах внешней политики. Это расхождение отмечает и А. Л. Хорошкевич. «Теперь, — пишет она, — можно сказать, что взгляд Сильвестра на внешнюю политику отличался от царского. Он пренебрегал престижем и достоинством государя, все помыслы которого были направлены на самоутверждение в качестве царя, и при этом удачно играл на религиозных чувствах членов Думы, предостерегая их от опасности впасть в грех в случае борьбы лишь за «имя». Это с пониманием было воспринято боярами, вовсе не заинтересованными в изменении баланса сил, определявших международные отношения России, и понимавшими невозможность борьбы с несколькими противниками»{313}. Надо заметить, что не все положения А. Л. Хорошкевич для нас одинаково убедительны. Не вызывают возражений ее утверждения о различии взглядов на внешнюю политику Сильвестра и царя Ивана, о пренебрежительном отношении Сильвестра к «престижу и достоинству государя». Но нельзя согласиться с ней в том, что помыслы Ивана были направлены только «на самоутверждение в качестве царя» и борьбу лишь за царское «имя». Это поверхностный и упрощенный взгляд, восходящий к Сильвестру, интриговавшему в Думе. На самом же деле все обстояло значительно сложнее. Нельзя забывать, что к моменту приезда литовских послов в Москву прошло всего два года, как в русской столице произошло событие величайшего государственного значения — венчание Ивана IV на царство. Непосредственное участие в этом событии принимал митрополит Макарий, бывший одним из инициаторов провозглашения Ивана царем. Именно он совершил обряд венчания. Венчание на царство, таким образом, принимало церковно-политический характер. Но это не все. Обряд венчания включал элемент Помазания на царство — некое подобие Таинству Помазания. В итоге венчание на царство превращалось в религиозно-церковно-государственный акт, завершающий этап становления самодержавия на Руси и начинающий новую эпоху в истории Российского государства. Но вот являются послы из страны, погрязшей в схизме, послы от правителя, божественное происхождение власти которого под большим вопросом. И эти послы требуют от богоизбранного государя отказаться от царского титула. Что это означало? В принципе это означало признание недействительности царского венчания с вытекающим отсюда пренебрежением к православной вере и церкви, а также умалением чести русского государя и митрополита как внутри Святорусского царства, так и вне его. Требование послов отказаться от титула царя при составлении договора о перемирии ставило вообще под сомнение царское достоинство Ивана IV и тем поощряло московских противников самодержавия к дальнейшей крамоле. Вот почему государь долго говорил в Думе, убеждая бояр не отступать от недавно провозглашенного русского царства. Казалось, бояре поняли всю ответственность решения, которое им предстояло принять, и согласились с доводами царя, но затем перевернулись, поддержав «непризнание царского титула со стороны Сигизмунда II Августа»{314}, т. е. став фактически на сторону иноземного властителя. Это походило на коллективную измену бояр царю Ивану. Сильвестр же, извратив суть дела, подал все происходившее в Думе как тщеславную борьбу Ивана «за имя», а современные историки бездумно приняли поповскую версию. Сильвестр к этому времени обладал уже столь сильным влиянием и властью, что сумел переубедить Думу и склонить ее принять решение о необходимости писать в договоре о перемирии с Великим княжеством Литовским государево имя «несполна», опустив царский титул Ивана. А. Л. Хорошкевич в связи с этим пишет: «Таким образом, бояре отказались поддержать собственного государя в том вопросе, который задевал его честь. И это несмотря на то, что в составе Боярской думы к этому времени оставалось лишь четверо получивших звание бояр до 1547 г., а 18 человек… стали боярами после восстания 1547 г. Кроме того, к этому же времени относится возвышение А. Ф. Адашева, который был близок к царю. Казалось бы, все новые члены думы должны были поддерживать Ивана IV в его начинаниях, в том числе и внешнеполитических, однако этого не случилось. Основным принципом внешнеполитической позиции боярства было стремление избежать войны на два или даже на три фронта»{315}. Думается, здесь не все так очевидно, как представляется А. Л. Хорошкевич. И потому тут есть необходимость кое в чем разобраться. Бояре, за которыми стоял Сильвестр и его вдохновители, готовы были воевать с двумя недругами — ханами крымским и казанским. Но драться с тремя врагами (крымским ханом, казанским ханом и польско-литовским королем) они не хотели, ибо стоять против трех неприятелей одновременно им представлялось «истомно». Вопрос, однако, в том, насколько тогда реальной являлась война с польско-литовским соседом. А. Л. Хорошкевич со ссылкой на историка Я. Ясновского говорит: «Невольные союзники — литовский великий князь и король польский и русские бояре — были единодушны… в нежелании воевать друг с другом. Объясняя позицию литовской стороны в этом вопросе, Я. Ясновский ссылается на горький опыт так называемой Тридцатилетней войны (то есть серии войн конца XV — начала XVI вв. между княжествами всея Руси и Литовским), приведшей не только к потере восточных земель Литовского княжества, но и к его общему ослаблению. Нежелание Сигизмунда Августа воевать с Россией объясняется сложностью внутриполитического положения в объединенных личной унией государствах (Литва и Польша), долгой неопределенностью в отношении второго брака молодого короля на Барбаре Радзивилл со стороны польской и литовской знати, набегами крымских татар, отсутствием денег в королевской казне…, трудностями сбора серебщизны для обороны территории панств»{316}. Не думаем, чтобы многое из того, о чем пишет А. Л. Хорошкевич, не было известно московским боярам и в особенности — Сильвестру, осведомленному, надо полагать, в такого рода вещах. К тому же сами литовские послы не лучшим образом сыграли свою роль, выдав собственную тревогу (если не страх) в связи с возможностью войны Руси с Литвой и Польшей. Правда, они не раз угрожали покинуть Москву в том случае, если русские не откажутся от требования внести в составляемый договор царский титул Ивана. Но послы блефовали, а потому легко откликались на просьбу бояр повременить и не уезжать домой. Весьма показательно, что они, соглашаясь остаться, говорили боярам «с великим умиленьем», чтобы те били челом царю Ивану о непролитии христианской крови{317}. Когда же русские выражали готовность их отпустить восвояси, «Кишка и Камаевский сами потребовали новых переговоров»{318}. Литовско-польская сторона, следовательно, воевать на тот момент с Россией явно не желала. Все это склоняет нас к мысли, что идея о войне на три фронта, изобретенная, по нашему мнению, Сильвестром и внушенная им боярам в качестве аргумента в споре с государем, служила завесой подлинных причин, побуждавших его действовать в интересах иностранного государства. Эти причины были внешнего и внутреннего порядка. Относительно внешних причин надо сказать, что Сильвестр в силу своих политических и религиозных взглядов симпатизировал Великому княжеству Литовскому и поэтому являлся противником войны с западным соседом Руси. Что касается внутренних причин, то они были связаны с отрицательным отношением Сильвестра к русскому «самодержавству», которое он вместе со своими единомышленниками стремился ограничить. Такова подоплека рассуждений в Думе об опасности войны на три фронта, не разгаданная, к сожалению, А. Л. Хорошкевич. По сути, перед нами не столько позиция Боярской Думы, сколько политический умысел Сильвестра и его советников, скрывавших свои действительные планы. «Бояре отказались поддерживать собственного государя в том вопросе, который больно задевал его честь», — заявляет А.Л.Хорошкевич. Это правильно, однако совершенно недостаточно. Боярская Дума задевала не только честь государя, но также международный престиж Русского государства, достоинство митрополита, святость и непререкаемость православной веры и церкви, задевала потому, что игнорировала акт венчания великого князя Ивана на царство, где концентрировались все названные моменты. Непонятно, почему А. Л. Хорошкевич кажется, что «новые члены Думы должны были поддерживать Ивана IV в его начинаниях». Как раз наоборот: бояре, которых Сильвестр и Адашев, по лексике Ивана Грозного, «припустили» в Думу, должны были противодействовать самодержавию царя Ивана, осуществляя реформаторскую политику Избранной Рады. И они в данном случае сделали то, что от них ожидали Сильвестр, Адашев и Ко, поступив самоуправно, вопреки воле самодержца. Согласно А. Л. Хорошкевич, «в 1549 г. в отношениях царя и бояр обозначилась первая трещина…»{319}. Думается, что в плане субъективном до «трещины» в отношениях государя с боярами дело пока не дошло, хотя некоторая настороженность у Ивана к своим «друзьям» (Сильвестру и Адашеву) могла все же возникнуть. Однако если рассматривать поведение Боярской Думы с точки зрения объективной, то надо, очевидно, признать: перед нами первое после венчания на царство Ивана IV организованное выступление противников русского самодержавия. Чем ответил своим недругам Иван IV? Он взошел на Лобное место и призвал всех подданных к христианскому примирению, всепрощению и любви. Созван был «Собор примирения», принципы которого государь старался воплотить в жизнь. Сильвестр же, Адашев и другие восприняли миролюбие царя и его любовь к ближнему как проявление слабости. И они поспешили закрепить свой успех. С этой целью ими (формально, разумеется, с «согласия» царя) производится новое расширение состава Думы. По наблюдениям А. И. Филюшкина, в 1549 году «происходит второй рывок в пополнении состава Боярской думы, по масштабам сравнимый с 1547 г.»{320}. В 1549 году, как и в 1547-м, имели место кадровые изменения и в других правящих учреждениях{321}. «В результате кадровых перемен 1547–1549 гг., — говорит А. И. Филюшкин, — в высших правительственных кругах был в основном сформирован тот состав аппарата, который и начал первый приступ к реформаторству 1550-х гг.»{322}. Иными словами, Сильвестр, Адашев и их сторонники создали кадровую основу для осуществления своих планов. Впрочем, И. Граля, замечая, что «1549 г. был богат пожалованиями в бояре в невиданном до сих пор масштабе», говорит: «Дождь пожалований, пролившийся на особ, близких ко двору, способствовал как усилению влияния царской фракции в думе, так и ограничению самостоятельной политической роли думы»{323}. В действительности все было наоборот: расширение состава Боярской Думы способствовало упрочению в ней позиций Сильвестра и Адашева, а также усилению ее самостоятельной политической роли. Судебник 1550 года служит, кажется, тому подтверждением. * * *В этом Судебнике наше внимание привлекает ст. 98, гласящая: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, а как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати»{324}. В исторической науке эта статья породила многолетние споры, вращавшиеся вокруг вопроса о политическом статусе Боярской Думы в России середины XVI века. Еще В. О. Ключевский, имея в виду данную статью Судебника 1550 года, утверждал: «В XVI в. было формально утверждено политическое значение думы: боярский приговор был признан необходимым моментом законодательства, через который должен был проходить каждый новый закон, прибавлявшийся к Судебнику»{325}. Н. А. Рожков, рассматривая период с конца XV века до половины XVI столетия как «первый, зачаточный период развития самодержавной власти русских государей», пришел к выводу о том, что «этот период закончился временным торжеством боярской олигархии, выразившимся не только в том определяющем влиянии, какое принадлежало «избранной раде» до шестидесятых годов XVI века, но и в юридической норме, внесенной в Судебник 1550 года, по которому новые законы должны были устанавливаться «с государева указа и со всех бояр приговора»{326}. По Н. А. Рожкову, следовательно, и Боярская Дума, и Избранная Рада — органы боярской олигархии, взявшей в середине XVI века верх над самодержавной властью, что было юридически оформлено Судебником 1550 года. Согласно В. И. Сергеевичу, «организованный Сильвестром и Адашевым совет похитил царскую власть, царь был в нем только председателем, советники решали все по своему усмотрению, мнения царя оспаривались и отвергались; должности, чины и награды раздавались советом. Это говорит царь, это подтверждает и противник его, кн. Курбский. Но избранная рада не ограничилась одной практикой, ей удалось оформить свои притязания и провести в Судебник ограничения царской власти». В. И. Сергеевич ссылается на ст. 98 Судебника 1550 года, предлагая следующий ее комментарий: «Для дополнения Судебника новыми законодательными определениями требуется приговор «всех бояр». Это несомненное ограничение царской власти и новость: царь только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов. Жалобы Грозного были совершенно основательны. Требование Судебника о приговоре «всех бояр» относится к будущему и, конечно, никогда не было приведено в исполнение; в настоящее же время царя ограничивал не совет всех бояр, а только некоторых». В. И. Сергеевич задается вопросом: «Из кого же состоял этот совет, продиктовавший ограничение царской власти?» И отвечает: «Судя по тому, что Курбский называет его «избранной радой», надо думать, что в состав его входили не все думные люди, а только некоторые из них, избранные. Во главе этого совета стояли поп Сильвестр и окольничий Алексей Адашев»{327}. Построения В. И. Сергеевича в довольно мягкой форме оспорил С. Ф. Платонов, который по поводу утверждения ученого о том, что Сильвестр с «угодниками» провел в Судебник ограничение царской власти, замечал: «Осторожнее на этом не настаивать, но возможно и необходимо признать, что для самого Грозного боярская политика представилась самым решительным покушением на его власть»{328}. Более энергично и определенно с критикой взглядов В. И. Сергеевича выступил М. Ф. Владимирский-Буданов. Он исходил из убеждения, что Боярская Дума «есть учреждение, не отделимое от царской власти; поэтому, подобно правам этой последней, права Думы не были определены законом, а держались как факт бытовой, на обычном праве»{329}. По мнению исследователя, ко времени Сильвестра и Адашева «относятся самые мудрые меры ограничений боярского произвола», а отнюдь не самодержавной власти{330}. М. Ф. Владимирский-Буданов приводил факты, которые, как ему казалось, вели к «неизбежности совсем отказаться от идеи об ограничении царской власти Судебником»{331}. Критические замечания последовали и со стороны М. А. Дьяконова: «Ограничение царской власти, бесспорно, крупный исторический факт, который должен быть подготовлен предшествующими историческими условиями. Но каковы же эти условия? Проф. Сергеевич не приводит никаких новых указаний и ограничивается лишь общеизвестными выдержками из переписки Курбского с Грозным в довольно обычном ее освещении. Немногие его замечания могут показаться и не вполне последовательными»{332}. Отвечая на вопрос о том, что же означает формула Судебника 1550 года «с государева докладу и со всех бояр приговору», М. А. Дьяконов утверждал: «Она означает то же самое, что и другая формула — «государь указал и бояре приговорили», т. е. совместное решение вопроса государем и всеми наличными членами боярской думы, и ничего более»{333}. Несмотря на эту критику, идеи В. И. Сергеевича не заглохли. В работе М. Н. Покровского «Боярство и боярская дума» они приобрели еще более радикальный характер, Статью 98 царского Судебника 1550 года М. Н. Покровский именовал «феодальной конституцией середины XVI в.»{334}. Главный смысл ее заключался в том, что «московский великий князь, только что ставший царем, не мог издавать никаких законов без согласия боярской думы». М. Н. Покровский, подобно Н. А. Рожкову, в статье 98 видел «высший момент торжества феодальной знати»{335}. Когда в конце 30-х гг. XX века историческая концепция М. Н. Покровского была низвергнута с научного пьедестала, подверглись критике и эти его представления о Боярской Думе середины XVI века. К. В. Базилевич, принимавший участие в борьбе против, как тогда выражались, «антиленинских, антиисторических взглядов М. Н. Покровского», писал: «Еще в начале XVI в. Боярская дума не могла помешать великому князю решать важнейшие дела «сам третей у постели». Было бы ошибочным рассматривать законодательные функции Боярской думы как ограничение законодательных прав царской власти. Появление ст. 98 Судебника 1550 г. не помешало Ивану IV действовать в ближайшие годы после принятия этого Судебника независимо от боярского приговора в важнейших вопросах внутренней политики»{336}. И. И. Смирнов поставил М. Н. Покровского в один ряд с В. О. Ключевским и В. И. Сергеевичем, поскольку все они «единодушны в понимании содержания ст. 98 и оценке ее политического значения как закона, утверждающего господствующую роль Боярской думы, боярства в верховных органах власти»{337}. Одно из важнейших обстоятельств, препятствующих такому пониманию, И. И. Смирнов усматривал в том, «если ст. 98 Судебника 1550 г. знаменует собой «момент высшего торжества феодальной знати», то очевидно, что Судебник 1550 г. не может являться антибоярским кодексом, направленным на ограничение роли боярства в управлении и имеющим целью укрепление аппарата власти и управления централизованным государством»{338}. Более обоснованной И. И. Смирнову показалась точка зрения М. Ф. Владимирского-Буданова и М. А. Дьяконова: «Аргументация, развитая М. Ф. Владимирским-Будановым и М. А. Дьяконовым, с достаточной убедительностью доказывает ошибочность трактовки ст. 98 Судебника 1550 г. как конституционного закона, внесшего коренное изменение в характер государственной власти Русского государства. Основной их вывод, — что ст. 98 говорит об обычном порядке, в каком происходило издание новых законов в Русском государстве, — является совершенно верным и должен быть принят»{339}. И. И. Смирнова, правда, не удовлетворила позитивная часть построений М. Ф. Владимирского-Буданова и М. А. Дьяконова{340}. Что предложил он взамен? Историк говорит: «Боярская дума во второй половине XVI в. представляла собой одно из звеньев в государственном аппарате Русского централизованного государства, и хотя аристократический состав Думы давал ей возможность занимать позицию защиты княжеско-боярских интересов, но как учреждение Дума являлась царской Думой, собранием советников царя, к выяснению мнений которых по тем или иным вопросам обращался царь, когда он считал это нужным. Поэтому видеть в обсуждении закона в Боярской думе нечто похожее на обсуждение закона в парламенте — значит совершенно произвольно переносить на Боярскую думу Русского самодержавного государства черты законодательных учреждений конституционного государства. По тем же самым основаниям нельзя видеть в обсуждении законов в Боярской думе ограничения царской власти»{341}. Что касается ст. 98 Судебника 1550 года, то она «не дает никаких оснований для вывода об ограничении Судебником власти царя. Подобная интерпретация ст. 98 не имеет под собой объективных данных и историографически может быть лишь истолкована как одно из выражений либеральной идеологии историков направления В. О. Ключевского»{342}. Приступая к комментированию ст. 98 Судебника 1550 года, Б. А. Романов замечал: «Эта статья, смысл которой с первого взгляда представляется совершенно ясным, породила, однако, целый историографический спор, взявший у его участников много труда на дополнительные далеко идущие исследования»{343}. Б. А. Романов полагал, что повод к данному спору подала «писательская манера составителя Судебника»{344}, которая прежде всего отразилась в формуле «с государева докладу и со всех бояр приговору». Исследователь не исключал в будущем возможности установления в этой «литой формулировке» некой толики словотворчества составителя. Подобные признания свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что Б. А. Романов, понимал определенное несоответствие содержания упомянутой формулы ст. 98 тому ее истолкованию в историографии, с которым ему пришлось согласиться. А согласился он с толкованием И. И. Смирнова, чье исследование, как ему казалось, «ликвидирует спор, возникший вокруг ст. 98 по вопросу, к которому она сама по себе никакого отношения не имеет, и отвечает именно на тот вопрос, который поставлен в ст. 98 самим ее автором»{345}. Б. А. Романов несколько поспешил с заявлением о том, будто исследование И. И. Смирнова положило конец спору по поводу ст. 98 царского Судебника 1550 года. Точно такую же поспешность проявил и В. М. Панеях, когда утверждал, будто «исследованиями И. И. Смирнова и Б. А. Романова спор (по ст. 98 Судебника. — И.Ф.) можно считать исчерпанным: участие бояр в законодательном процессе не дает оснований «говорить о дуализме законодательных органов Русского государства», а только о том, что к собранию советников царь обращался для выяснения их мнения «по тем или другим вопросам <…>, когда <…> считал это нужным»{346}. Согласно В. М. Панеяху, «думные чины, участвовавшие в подготовке законов, не могли ограничить и не ограничивали самодержавную власть царя»{347}. По словам В. М. Панеяха, ст. 98, «интерпретация которой стала предметом многолетних дискуссий, не внесла принципиальных изменений, а только кодифицировала сложившуюся практику…»{348}. Вопреки заявлениям В. М. Панеяха, историографическое направление, восходящее к В. О. Ключевскому и В. И. Сергеевичу, продолжало развиваться. С. В. Бахрушин в книге об Иване Грозном, опубликованной в 1942 году и переизданной в 1945 году, замечал, что Избранная Рада, внушавшая Ивану IV чувство послушания своим мудрым советникам, «внесла даже в «Судебник» особую статью, согласно которой все добавления к нему делаются царем лишь «по приговору всех бояр», т. е. Боярской думы»{349}. В связи с этим законодательством Избранной Рады С. В. Бахрушин говорит о «боярской теории двоевластия царя и его советников»{350}. А. Г. Поляк в историко-правовом обзоре к Судебнику 1550 года, изданному в серии «Памятники русского права», писал: «Судебник вводит постановление об издании законов «с государева докладу и всех бояр приговору», то есть указывает на необходимость санкционирования закона представителями господствующего класса», а также «на необходимость участия в выработке закона представителей господствующего класса»{351}. «Большинство новых законов, — говорит А. Г. Поляк, — принималось царем совместно с боярской думой. Это показывает, что хотя норма ст. 98 о совместном законодательствовании царя и боярской думы и не была безусловно обязательной для царя, но весьма возможно, что у составителей Судебника было стремление сделать ее таковой»{352}. А. А. Зимин в соответствии со своей концепцией политики компромисса Избранной Рады замечал: «Чрезвычайно интересна статья 98 Судебника, устанавливавшая, что законы должны были приниматься («вершатца») «с государева докладу и со всех бояр приговору». Двойственная природа Судебника в этой формуле отразилась как нельзя лучше: дела должны были сначала докладываться государю, после чего принимался приговор при участии Боярской думы. Судебник и в этой заключительной статье отражает компромисс между растущим дворянством, сторонником укрепления царского самодержавия, и феодальной знатью, цеплявшейся за права и прерогативы Боярской думы»{353}. Позднейшие комментаторы подчеркивают новизну ст. 98 Судебника. Так, С. И. Штамм пишет: «Впервые в истории русского законодательства определяется порядок издания и опубликования новых законов. При отсутствии в законе указания на порядок решения того или иного дела оно вершится вышестоящей инстанцией — Боярской Думой. Такой прецедент становится по существу новой законодательной нормой»{354}. Очень важной и необычной представлялась ст. 98 А. Г. Кузьмину: «Поистине историческое значение имеет статья 98 Судебника, уникальная во всем российском законодательстве. Статья предусматривает, что «которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершатца, и те дела в сем Судебнике приписывати», смысл этой статьи позднее прокомментировал сам Иван Грозный, заодно разрешив спор историков: выполняли ли советники его поручения, или он озвучивал подготовленные ими тексты»{355}. Всем ходом своих рассуждений А. Г. Кузьмин склоняется к последнему варианту, принимая, таким образом, точку зрения В. О. Ключевского, В. И. Сергеевича и Н. А. Рожкова. А. Л. Янов в статье 98 Судебника Ивана IV обнаружил «попытку Правительства компромисса ограничить в 1550-е годы власть царя»{356}. Историк рассматривает ее как «конституционное ограничение» царской власти, возрождая в некотором роде идеи М. Н. Покровского. Свои соображения насчет статьи 98 Судебника 1550 года высказала А. Л. Хорошкевич. По ее мнению, «статья 98 закрепила верховную власть Думы: впредь законы и установления должны были приниматься, а дела «вершитца» «з государева докладу и со всех бояр приговору». Избранная рада этой статьей судебника достойно увенчала свою деятельность, несколько изменив роли царя и Думы»{357}. Судебник, утверждает А. Л. Хорошкевич, «отводил царю лишь совещательную роль»{358}. Более того, в Судебнике, по словам А. Л. Хорошкевич., «предусматривалась возможность «приговора» одних только бояр. В случае вызова на суд наместника, боярина или сына боярского «запись велят дати бояре, приговоря вместе» (ст. 75). Видимо, «заслуга» в подобном изменении баланса внутриполитических сил принадлежала ближайшим сподвижникам царя — членам Избранной рады — А. Ф. Адашеву и дьяку И. М. Висковатому»{359}. Согласно Судебнику 1550 года, полагает А. Л. Хорошкевич, «изменилось соотношение сил царя и бояр»{360}. Она подчеркивает, что в толковании ст. 98 Судебника солидаризуется с мнением В. О. Ключевского, В. И. Сергеевича и М. Н. Покровского{361}. Таковы суждения отечественных историков о статье 98 царского Судебника 1550 года. Длительные расхождения и споры в исторической литературе по данному вопросу свидетельствуют о его сложности, порожденной неоднозначностью сведений, содержащихся в источнике. Поэтому здесь могут быть только догадки, более или менее обоснованные, различающиеся большей или меньшей степенью убедительности. Для нас наиболее вероятной является версия В.И.Сергеевича. Почему? По ряду обстоятельств. Необходимо сразу же отметить: статья 98 — новая{362}, отсутствующая в великокняжеском Судебнике 1497 года. Это, по-видимому, означает, что появление ее в законодательном кодексе (Судебнике 1550 года) обусловлено историческими реалиями, приобретшими особую общественную значимость и политическую актуальность между 1497–1550 годами, т. е. между временем издания великокняжеского и царского Судебников. К разряду этих реалий в первую очередь следует отнести самодержавную власть московских государей, сложившуюся фактически и юридически в сравнительно короткий срок (конец XV — середина XVI в.). Отношениям нового института самодержавной власти с традиционным властным учреждением, олицетворяемым Боярской Думой, и посвящена статья 98 Судебника 1550 года. Поэтому едва ли правильным является утверждение, будто данная статья «не внесла принципиальных изменений, а только кодифицировала сложившуюся практику»{363}. Вернее было бы сказать, что она и «внесла» и «кодифицировала». Однако новации в ней — все-таки главное. Ст. 98 представляла собой попытку законодательно оформить отношения самодержца с Боярской Думой в сфере правотворчества, определить их роль и место в законотворчестве. Нетрудно догадаться, какие «преференции» должна была получить Дума, если учесть, что составление Судебника 1550 года совпало со временем могущества Сильвестра, Адашева и возглавляемой ими Избранной Рады. Как и следовало ожидать, в статье 98 реформаторы попытались ограничить самодержавную власть в пользу Думы. И здесь В.И.Сергеевич, на наш взгляд, прав. Ведь что означает обязательное участие Боярской Думы в законодательстве наряду с государем, участие, которое самодержец не в силах отменить? Это означает отсутствие полноты самодержавной власти, ее разделение между Боярской Думой и царем, утратившим право править государством самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. Здесь тот самый случай, о котором Иван Грозный говорил: «Како же и самодержец наречется, аще не сам строит?» Но это еще не все. Статья 98 сформулирована так, что допускает возможность двойственного толкования содержащегося в ней текста, т. е. составлена таким образом, что заключает в себе некоторую двусмысленность, выгодную Боярской Думе, но не государю. Видимо, Б.А.Романов имел в виду данную особенность ст. 98, когда говорил о словотворчестве составителя Судебника 1550 года. Трудно, однако, поверить, что тот внес в Судебник пусть даже «некую толику» личного творчества или в неудачных выражениях записал текст интересующей нас сейчас статьи. Это полностью исключено, поскольку запись законов осуществляли высококлассные, вышколенные специалисты. Статья 98, надо полагать, задумывалась именно в том виде, в каком записана в Судебнике 1550 года. И тут, конечно, центральной является формула с государева докладу и со всех бояр приговору. Может показаться, что смысл названной формулы прост и ясен. Но это только кажется. Обычно за словосочетанием с государева докладу исследователи видят доклад государю по тому или иному делу, требующему законодательного приговора Боярской Думы. Так, А. А. Зимин в качестве иллюстрации подобной практики привел доклад князя И. А. Булгакова царю о татебных делах: «Лета 7064-го (1555) ноября в 26 день докладывал царя государя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии боярин князь Иван Андреевич Булгаков… И ноября в 28 день сего докладу царь государь князь великий Иван Васильевич всеа Русии слушав, и велел указ учинити»{364}. Но языковое построение фразы с государева докладу и со всех бояр приговору вершается позволяет сделать два, по крайней мере, предположения. Первое предположение заключается в том, что за этой фразой скрывалось единое действие, не разорванное во времени и состоящее из двух актов — государева доклада и приговора всех бояр. Второе предположение касается формулы с государева докладу и состоит в толковании этой формулы не как доклада государю, а как доклада государя. Если последнее предположение верно, то получается, что статья 98, устанавливая порядок дополнения Судебника 1550 года новыми законами, предусматривает совместное заседание царя и Боярской Думы, на котором государь (или кто-нибудь из приказных людей от его имени) произносит доклад по вопросу об издании нового закона, а Дума своим приговором утверждает его, и затем производится соответствующая дополнительная запись в Судебнике. Чтобы понять подлинный смысл законодательной процедуры, вводимой ст. 98 Судебника 1550 года, надо вспомнить значение термина доклад, принятое в то время. В академическом Словаре русского языка XI–XVII вв. приведены три значения слова доклад: 1) Изложение дела вышестоящему лицу для решения; 2) Разбирательство судебного дела в вышестоящей инстанции; 3) Официальное утверждение (сделки, акта, документа){365}. Как видим, термин доклад предполагал обращение докладчика к вышестоящей инстанции. Получается, таким образом, что в статье 98 Судебника царь был поставлен ниже Боярской Думы, которая, являясь теперь высшим органом власти, принимала окончательное решение «с государева докладу» в важнейшей и определяющей области государственной жизни — законодательстве. Спрашивается, как могло такое случиться? Как удалось вписать в Судебник положение, производящее переворот во властных структурах Русского государства? Удалось все это благодаря огромному политическому влиянию реформаторов-законотворцев, а также их юридической изобретательности и хитрости/Вступление закона в силу они отнесли на будущее{366}, что в значительной мере сглаживало остроту «законодательной инициативы», исходящей от них. Аналогичное впечатление должны были произвести используемые в ст. 98 традиционные выражения и формулы. Вместе с тем закон ими был сформулирован так, что давал возможность, как уже отмечалось нами выше, двоякого его толкования. Достигалось это посредством применения привычных понятий, наполняемых новым содержанием. Конечный же результат зависел от реального соотношения сил. Реформаторы круга Сильвестра и Адашева надеялись, судя по всему, на полную узурпацию власти. Но напрасно. Самодержец все-таки удержал власть в своих руках. Поэтому, надо думать, ст. 98 Судебника 1550 года никогда не была приведена в исполнение{367}. Характерна, однако, попытка узаконить главенство Боярской Думы в системе власти на Руси середины XVI века, попытка придать Думе статус, схожий со статусом Рады соседнего Великого княжества Литовского, стоящей над королем и обладающей реальной властью{368}. Для Русского государства, теснимого врагами со всех сторон, такой порядок был не только неприемлем, но и губителен, поскольку разрушал общественную дисциплину и ответственность, особенно в высшем сословии княжеско-боярской знати, в силу исторических обстоятельств поставленной в положение правящей элиты страны. Это хорошо видно на примере поведения князя Андрея Курбского в Литве, куда он бежал, изменив своему природному государю. Оно характеризует амбиции и замашки русской знати, которую пришлось вразумлять Ивану Грозному. Будучи в Литве, Курбский отличался властолюбием и непокорством королю. Так, получив королевский приказ, повелевающий ему дать удовлетворение одному тамошнему магнату за разбой и грабеж своих крестьян в Смедыне, он в присутствии свидетелей вызывающе ответил: «Я-де у кгрунт Смедынский уступоватися не кажу; але своего кгрунту, который маю з'ласки Божое господарское, боронити велю. А естли ся будут Смедынцы у кгрунт мой Вижовский вступовать, в тые острова, которые Смедынцы своими быть менят, тогды кажу имать их и вешать»{369}. Суд и расправу Курбский и его люди творили самовольно. Случилось так, что урядник нашего князя Иван Калымет по жалобе крещеного еврея Лаврина на бегство его должника Агрона Натановича велел схватить жену бежавшего и двух за него поручителей, Юска Шмойловича и Авраама Яковича, посадить в яму с водой, кишащую пиявками, а дома их и лавки опечатать. Соплеменники бросились спасать своих, обратившись к местному подстаросте с просьбой послать к Калымету и потребовать от него ответа, по какой причине он, в нарушение прав и вольностей, дарованных королем, велел схватить ни в чем не повинных евреев и посадить их в жестокое заключение. И вот поветовый возный, окруженный выборными людьми, приехал в Ковель к замку князя, но уперся в закрытые ворота. Привратник объявил прибывшим, что «пан Калымет вас в замок пустити не казал». Долго стоял представитель власти у замковых ворот. Он слышал несущиеся из-за стены вопли несчастных, посаженных в жуткую яму. «Терпим везенье и мордованье окрутное бесправие и безвинне», — кричали те. Наконец Калымет соблаговолил выйти. Его спросили: «За что поймал и посадил в заключенье евреев ковельских?» «За поручительство по Агрону Натановичу», — невозмутимо ответил княжеский урядник и внушительно добавил: «Чи невольно подданных своих не тылько везеньем, або чим иншим, але и горлом карати? А я што чиню, теды за росказаньем пана моего, его милости князя Курбского: бо пан мой, князь Курбский, маючи тое именье Ковельское и подданных в моцы своей, волен карати, як хочет. А король его милость и нихто инший до того ничего не мает. А иж ся Жидове королем сзывают, нехай же их король оборонит; а я их з'везенья не пущу, ниж пять сот коп грошей Лавринови». Так безрезультатно окончились первые хлопоты о заключенных. На следующий день приехал в Ковель по своим делам урядник Каширский. Сердце сжалось у него, когда он увидел страдальцев в яме. Урядник просил Калымета о милосердии. И тот, казалось, сжалился. «Он за просьбою нашею, — доносил потом сострадатель, — их при нас выпустил, которых мы видели есмо кровавых, што пьявки смоктали (сосали)». Но едва каширский урядник уехал, люди вновь оказались по приказу Калымета в яме. Дошло дело до короля, который выдал декрет об освобождении арестованных. Но Калымет проигнорировал королевский декрет. Тогда его специальным королевским мандатом вызвали в суд. Он мандат не взял, велев прочитать документ перед собой, а затем сказал нарочному: «Для чего до мене мандат носишь королевский? Бо я королю не служу, служу я князю, пану своему». Лишь через полтора месяца Курбский по ходатайству великого канцлера коронного и пана великого маршалка распорядился освободить невинных евреев и отпечатать их дворы и лавки{370}. Эти и другие эпизоды жизни Курбского{371}, именуемого некоторыми новейшими историками «князем-диссидентом», «первым русским диссидентом»{372}, показывают, о каком «правовом обществе» мечтали его сподвижники на Руси, утверждению какого «правового порядка» способствовала ст. 98 Судебника 1550 года. Понимали ли это соратники Грозного? Данный вопрос обращает нас к одному безымянному посланию, адресованному царю Ивану. * * *Анонимное «Послание царю Ивану Васильевичу», дошедшее до нас в так называемом Сильвестровском сборнике (т. е. в книге, принадлежавшей предположительно некогда попу Сильвестру), вызывает у исследователей большие затруднения как по части установления автора этого сочинения, так и относительно времени его написания. Высказывались мнения о принадлежности Послания перу митрополита Даниила{373}, епископа Вассиана Топоркова{374}, старца Артемия{375}, митрополита Макария{376}, попа Сильвестра{377} и, наконец, либо митрополита Макария, либо попа Сильвестра{378}. Нет уверенности и в том, когда было составлено Послание царю Ивану Васильевичу: одни исследователи этого письма называют 1547 год{379}, другие — 1550 (1551) год{380} или год 1552-й{381}, а третьи относят его составление к временам Опричнины{382}. Материя, как видим, темная. Впрочем, количественное сопоставление исследователей, изучавших Послание, показывает, что их большая часть связывает авторство памятника с именем Сильвестра. Но это не означает, что они на сто процентов правы, поскольку научные проблемы не разрешаются посредством голосования. Мнение большинства, насколько известно, не является в науке критерием истины. Авторская атрибуция, проделанная находящимся в меньшинстве И. И. Смирновым, нам кажется более предпочтительной, несмотря на то, что такой авторитетный ученый, как А. А. Зимин, решительно отверг ее. «Крайне неудачным, — писал он, — является предположение И. И. Смирнова о том, что Послание написано митрополитом Макарием»{383}. Какие доводы, вызвавшие несогласие А. А. Зимина, привел И. И. Смирнов в пользу своего предположения? Он пишет: «Против авторства Сильвестра прежде всего говорит то, что мало вероятным является, чтобы Сильвестр, претендовавший (вместе с Алексеем Адашевым) на роль ближайшего советника царя, мог главный огонь в послании царю направить именно против «советников» из числа «ближних людей», причем даже без противопоставления, скажем, неразумным советникам советников «мудрых», «добрых» и т. п. Второе соображение, говорящее против того, что автором послания царю был Сильвестр, является тон послания, резко контрастирующий своей авторитарностью и независимостью в обращениях к царю тем риторическим формам, которые употребляет Сильвестр, например, в послании кн. Горбатому-Шуйскому («Благовещенский поп, последняя нищета, грешный, неключимый, непотребный раб Сильвестришко» и т. д.)»{384}. А. А. Зимин, возражая И. И. Смирнову, утверждал: «Прежде всего не убедительны доводы этого исследователя против авторства Сильвестра, который, во-первых, не мог выступать против советников царя, поскольку сам принадлежал к ним, а во-вторых, не мог писать царю в столь авторитарной форме, тогда как его Послание боярину А. В. Горбатому составлено в более мягких тонах. Однако Сильвестр осуждал отнюдь не всех, а только лживых советников (осифлян), как позднее делал кн. Андрей Курбский, восхвалявший советников мудрых. Независимый тон вполне соответствует всем тем сведениям об отношениях Сильвестра к царю, которые нам сообщают источники (Послания Грозного, Курбский и др.)»{385}. Надо сказать, что идеи И. И. Смирнова ослабил, как ни странно, не столько А. А. Зимин своими возражениями, сколько сам И. И. Смирнов собственными рассуждениями насчет датировки Послания. Разойдясь с И. Н. Ждановым, относившим составление Послания к 1550 году, он заявляет: «Если исходить из предложенной И. Н. Ждановым датировки времени написания послания царю 1550 г., т. е. временем, непосредственно предшествующим созыву Стоглавого собора, то в этом случае в неразумных советниках следовало бы видеть новых руководителей правительства Ивана IV. Но такая интерпретация темы о «советниках» исключается как потому, что новые советники царя не могли нести ответственности за события 1547 г., так и по общей политической направленности послания, идеологической основой которого являлась защита самодержавной власти царя, т. е. обоснование той самой политики, которая нашла свое выражение в реформах, проводившихся после ликвидации боярского правления новым правительством. Однако тема о неразумных советниках приобретает совершенно новый смысл, если отказаться от датировки послания царю кануном созыва Стоглавого собора, а датировать его временем непосредственно после «великих пожаров» и июньского восстания 1547 г. В этом случае «неразумными советниками» оказываются те, кто являлись «ближними людьми» накануне июньских событий 1547 г., т. е. Глинские и их окружение, а призыв к царю порвать с неразумными советниками приобретает характер требования довести до конца борьбу за ликвидацию боярского правления. В пользу такого понимания послания царю можно дополнительно сослаться на следующее место послания. Указав на то, что в числе «казней», посланных на Русскую землю богом, было «пленение» «погаными» (т. е. татарами) русских людей, автор продолжает: «А оставльшихся сильнии сами своих плениша и поругаша, и всякими насилии, лукавыми коварствы мучиша». В этих «сильных», занимавшихся насилиями и мучениями «своих», т. е. русских же людей, нетрудно угадать княжат и бояр, стоявших у власти в годы боярского правления»{386}. Построения И. И. Смирнова обнаруживают, на наш взгляд, ряд фактических и хронологических нестыковок. Что бы историк ни говорил о «советниках»{387}, он все же должен признать, что «проблема советников», ставшая предметом оживленного обсуждения в русской публицистике, возникла в середине XVI века в связи с деятельностью Сильвестра, Адашева и руководимой ими Избранной Рады, объединенных в неформальную группу, плотным кольцом окружившую царский трон. Это с полной ясностью вытекает из сочинений Ивана Грозного и Андрея Курбского. Следовательно, политическую остроту, порожденную борьбой за власть, данная проблема приобрела не «после ликвидации боярского правления», в частности падения Глинских и их окружения, как считает И. И. Смирнов{388}, а по мере нарастания противоречий между царем Иваном и Избранной Радой во главе с Адашевым и Сильвестром, стремившимися к ограничению самодержавной власти. И. И. Смирнов, по нашему мнению, ошибается, утверждая, будто идеологической основой Послания, защищавшего «самодержавную власть царя», являлось «обоснование той самой политики, которая нашла свое выражение в реформах, проводившихся после ликвидации боярского правления новым правительством»{389}. В основе этой ошибки И. И. Смирнова лежит, как нам кажется, убеждение исследователя в том, что «самодержавие московских государей представляло собой формулу, выражавшую сущность нового типа государственной власти, закономерно связанного со складывающимся централизованным государством»{390}. На наш взгляд, между утверждением самодержавной власти и государственной централизацией не было жесткой взаимозависимости. Развитие централизованного государства отнюдь не всегда предполагало самодержавную форму правления. Наглядным примером здесь служит политика Избранной Рады, направленная на формирование централизованного государства{391}, с одной стороны, и на ограничение самодержавия в пользу расширения прав сословий — с другой. Однако вследствие того, что к началу деятельности Избранной Рады самодержавие на Руси уже сложилось и фактически и юридически, причем с богатым опытом построения централизованного государства, между самодержцем и вождями Рады, Сильвестром и Адашевым, возник острейший конфликт, разрешившийся падением временщиков. Но это случится позже, а в самом начале 50-х годов XVI века было еще неизвестно, кто пересилит: царь Иван или Сильвестр с Адашевым. Понятно, почему деятельность советников, обступивших государя после свержения Глинских, вызывает у автора Послания к царю Ивану Васильевичу тревогу за судьбу русского «самодержавства». И он счел необходимым напомнить о божественной природе власти Ивана IV, который, будучи «Богом утвержен», есть «Царь Великий. Самодержец Христианстей области, скипетры царствиа великаго державу по закону прием крестною силою Царя Царем и Господа Господем»{392}. Иван «в православной своей области Богом поставлен и верою утвержен, и огражен святостию, глава всем людем своим, и Государь своему царствию, и наставник крепок людем своим, и учитель, и ходатай к Богу, и тепл предстатель…»{393}. Факт такого прославления царя, которое И. И. Смирнов правильно понимает в смысле защиты самодержавной власти, весьма и весьма симптоматичен. Перед нами, несомненно, реакция на попытки ограничения этой власти царскими «ближними людьми», подающими государю «чужие» и «неразумные» советы. Причем это — не осуждение «плохих советников», противопоставляемых «хорошим советникам», как можно подумать, следуя за А. А. Зиминым{394}, а резко отрицательная оценка деятельности лиц, окружавших царя Ивана на тот момент, когда составлялось письменное обращение к нему. «И тебе, Великому Государю, — резонно спрашивает автор Послания, — которая похвала в таковых чюжих мерзостех? В гнилых советах неразумных людей, раб своих, сам себе хощеши обесчестити перед враги своми»{395}. Эта реакция составителя письма к Ивану IV на попытки ограничения самодержавной власти государя его «советниками» имеет, по нашему убеждению, явственные атрибутивные признаки как хронологического, так и авторского свойства. По времени она ведет к годам правления временщиков Сильвестра и Адашева, покушавшихся на самодержавие царя Ивана. Глинские здесь, вопреки доводам И. И. Смирнова, отпадают, поскольку они, будучи наряду с митрополитом Макарием инициаторами венчания Ивана IV на царство, являлись сторонниками укрепления самодержавной власти, сулившей им как родичам государя несомненные выгоды. А вот что касается авторства Послания к царю Ивану Васильевичу, то И. И. Смирнов прав: автором Послания был митрополит Макарий. Зря только историк датировал написание Послания 1547 годом, мотивируя эту датировку тем, что новые советники царя, возглавляемые Сильвестром и Адашевым «не могли нести ответственности за события 1547 г.»{396}. Неизвестно, из чего И. И. Смирнов заключил о том, будто автор Послания возлагает на кого-то «ответственность за события 1547 г.». Он вспоминает об этих и других событиях как о наказании Господнем за грехи: «Какии казни и всякиа наказаниа Господь наведе, грех ради наших…»{397}. Точно так же вспоминали о них и при иных обстоятельствах, к примеру, на Стоглавом соборе в речи царя Ивана{398}. Совершенно очевиден назидательный характер такого рода воспоминаний. Надо заметить, что автор Послания не ограничивается перечнем «казней» и «наказаний» за грехи, содеянные в недавнем прошлом. Он рисует картину самых что ни на есть последних грехопадений русских людей: «Возста убо в нас ненависть, и гордость, и вражда, и маловерие к Богу, и лихоимство, и грабление, и насилие, и лжа, и клевета, и лукавое умышление на всяко зло, паче же всего блуд и любодеяние, и прелюбодеяние, и Содомский грех, и всякая скверна и нечистота. Преступихом заповедь Божию, возненавидихом, по созданию Божию, свой образ, и строимся женскою подобою, на прелесть блудником, главу и браду и усе бреем, ни по чему не обрящемся крестьяне: ни по образу, ни по одеянию, ни по делом, кленемся именем Божиим во лжу, к церквам Божиим не на молитву сходимся… несть на нас истиннаго крестного знамения, по существу, персты управити по чину, вообразити Господне древо и животворящий крест, и Троица: Отца, и Сына, и Святаго Ауха, и показати божество и человечество, и крещение, покаяние, Ердань, и Спас, и Предтеча, и вся сия святолепно в руце устроив, назнаменовати крест Христов: первее на челе, потом на персех, на сердци, таж на правую плещу и на левую, ино, по существу крест воображен, телу на здравие, а души на спасение, рукою себя перекрестити, а телом поклонитися Господу Богу, а умом молитися от всея душа и от всего помышления…»{399}. Многое из того, что здесь упомянуто, было весьма злободневно в начале 50-х годов XVI века и потому стало предметом обсуждения и соответствующих постановлений Стоглавого собора 1551 года. Это — и неправый суд, сопряженный с насилием{400}, и «маловерие к Богу» (еретичество){401}, и клятва Божьим именем{402}, и немолитвенное поведение в церкви{403}, и бритье головы, бороды и усов{404}, и ношение одежды иноверцев{405}, и содомский грех{406}. В свое время И. Н. Жданов обратил внимание на то, что заключительная часть Послания «представляет большое сходство с некоторыми местами в царских посланиях и вопросах, предложенных на соборе 1551 г.»{407}. Выявляется словесное совпадение наставлений Послания и Стоглава относительно правильного возложения крестного знамени.
О чем говорят подобного рода текстуальные совпадения? По-видимому, о временной близости составления текстов Послания и Стоглава. Следовательно, соответствующий текст Послания царю Ивану Васильевичу был написан незадолго до 1551 года, т. е. в преддверии работы Стоглавого собора. Данный вывод, полагаем, можно распространить на все Послание в целом. Помимо формальных хронологических привязок, в Послании имеются довольно выразительные событийные намеки, обозначающие примерное время написания Послания. Рассказав о том, как великий князь Владимир «великое православие, яко на камени, непоколебимо утверди», автор Послания говорит: «И ныне малым некоим небрежением поколебася, и всяко ослабе и распадеся, велико некое безаконие внезапу восташа, и мнози помрачишася безумием…»{410}. Эти «мнози», по его словам, «уклонишася вкупе» и «вооружившеся и возшаташа на Бога, и хотяща им утаити сия»{411}. Они «убо мудрьствуют паче, хотяще превратити истину Господню во лжу»{412}. Составитель Послания не раз вопрошает царя Ивана Васильевича: «И тебе, великому государю, которая похвала: в твоей великой области множество Божиих людей заблудиша? На ком то ся взыщет?»{413}; «А се тебе, великому государю, которая похвала? В твоей области православный веры толико множество Божиих людей заблудиша, и Господню зданию диявол посмехаетца…»{414}. Он ожидает от царя решительных действий: «И не подобает ли тобе, великому государю, праведную добродетель исполнити, и осквернившееся очистити и заблудившееся на рамо взяти и ко Христу привести…»{415}. В Послании, таким образом, описывается ситуация, характеризуемая распространением еретических учений («мудрьствуют, хотяще превратити истину Господню во лжу») на Руси в середине XVI века. Как и раньше, еретики были организованы в кружки и объединения («уклонишася вкупе»), собиравшиеся тайно («хотяща им утаити сия»). Вскоре, однако, их деятельность выплеснулась наружу, что засвидетельствовал летописец, сообщив под 1553 годом: «Прозябе ересь и явися шатание в людех в неудобных словес о божестве»{416}. Состоялись церковные соборы «на еретики», осудившие отступников и подвергшие их суровому наказанию. Нельзя сказать, что православные христиане до этого не замечали проявления еретических настроений в обществе. Еще за три года до того (т. е. в 1550 г.) дьяк Иван Висковатый прилюдно обвинял Сильвестра в еретичестве{417}. И с еретиком Матвеем Башкиным он «брань воздвигл, слыша от него нов хуления глагол на непорочную нашу веру христианскую»{418}. Кстати сказать, о Башкине еще до соборов 1553–1554 гг. ходила «недобрая слава»{419}. Следовательно, первые тревоги по поводу вновь явившейся ереси возникли в самом конце 40-х — начале 50-х годов XVI века. А это означает, что Послание к царю Ивану Васильевичу едва ли может быть датировано ранее названного срока. Но его нельзя отнести и к 1553 году, когда вожди еретиков были арестованы и предстали перед соборным судом, нельзя потому, что в Послании содержится призыв очистить скверну и вернуть заблудших на путь истины, что свидетельствует об отсутствии на момент его написания каких-либо серьезных мер со стороны власти против отступников от православия. Итак, с учетом сказанного выше правильнее было бы, на наш взгляд, датировать Послание к царю Ивану Васильевичу 1550 годом, т. е. временем незадолго, по всей видимости, перед Стоглавым собором, заседавшим, как считает ряд исследователей, в январе — феврале 1551 года{420}. Эта датировка определяет предполагаемых авторов Послания, сводя их к двум, собственно, лицам — митрополиту Макарию или попу Сильвестру. Свой выбор мы останавливаем на святителе Макарии. Однако прежде чем привести доводы в пользу нашего утверждения, коснемся аргументации исследователей, усматривающих в Сильвестре автора Послания к царю Ивану Васильевичу. Для обоснования своей версии авторства Послания они прибегают к палеографическим и текстологическим наблюдениям. Еще Н. Коншин, знакомясь с Сильвестровским сборником, где, наряду с Поучением митрополита Фотия и Посланием митрополита Даниила, заключено Послание безымянного автора, писал: «От 358 до 382, на 24-х листах, находится предмет величайшего любопытства для современности, без всякого заглавия и нераскрашенный (отсюда киновари не являются уже до конца книги), прямо из текста, с начала страницы, на обороте 358 листа начинающийся: Послание к Царю Ивану Васильевичу, в коем изложено бедственное растление нравов Двора, и он, угрожаемый Богом-мстителем, умоляется искоренить разврат»{421}. Н. Коншин, исходя из убеждения в принадлежности рукописного сборника Сильвестру, сделал вывод, согласно которому «благовещенский иерей» на оставшихся «белых листах вписывал для себя, собственно свое, не удостаивая расцвечивать то краскою, не делая никаких заглавий и не ставя при начале очередной цифры: последняя цифра стоит при последнем Послании Данииловском»{422}. Но отсутствие киновари не может служить неоспоримым аргументом для вывода об авторской принадлежности Сильвестру нераскрашенного теста рукописи. Это невольно подтвердил Д. Н. Альшиц, добавив к наблюдению Н. Коншина, как он выразился, «еще одно»: «Последняя киноварная заглавная буква поставлена в рукописи за пятнадцать строк до начала послания «Царю Ивану Васильевичу». И начинает эта буква служебное слово — «Паки». В послании, начинающемся на обороте того же листа обращением «Царю», заглавная буква «Ц» написана теми же обычными чернилами, что и весь текст. Далее, ни в этом послании, ни в двух других сочинениях, бесспорно принадлежащих Сильвестру, киновари нет. Если бы послание к царю принадлежало митрополиту Макарию, оно, надо полагать, было бы оформлено так же, как послания двух других митрополитов. Поскольку же оно палеографически приравнено к сочинениям владельца сборника Сильвестра, помещенным вслед за ним, — следует заключить, что это послание также принадлежит ему»{423}. Надо заметить, что Д. Н. Альшиц не добавляет к наблюдению Н. Коншина «еще одно», а уточняет наблюдение, высказанное предшественником. Н. Коншин, оказалось, допустил неточность, заявив, будто нерасцвеченный текст Сильвестровского сборника начинается непосредственно с Послания царю Ивану Васильевичу, тогда как на самом деле это имеет место за пятнадцать строк до начала данного Послания. Но такой поворот меняет существо дела, во всяком случае, требует объяснения. К сожалению, Д. Н. Альшиц не приводит разъяснений на сей счет, зароняя, таким образом, сомнение относительно справедливости своих палеографических доказательств. В арсенале сторонников идеи авторства Сильвестра есть некоторые соображения текстологического порядка. Уже Н. Коншин говорил: «В слоге этого Послания (царю Ивану Васильевичу. — И. Ф.) я не усомнился: это слог Сильвестра, один и тот же и в Послании к сыну Анфиму, уцелевшему при Домострое, и в Послании к князю Александру Борисовичу, и в последнем, в конце прописанном»{424}. Н. Коншин не конкретизировал эти общие слова сопоставлением текстов названных им сочинений. Более убедительными, казалось бы, выглядят текстологические построения Д. Н. Альшица, согласно которым «и в послании царю, и в посланиях Сильвестра князьям — Горбатому-Шуйскому и Ростовскому — есть много мест, сходных текстуально. Более того, и автор писем князьям, и автор послания царю опираются на один и тот же источник XV в.»{425}. Здесь историк имеет в виду «Послание владычне на Угру к великому князю», направленное в 1480 году Ивану III ростовским архиепископом Вассианом Рыло. Следует, однако, заметить, что Послание на Угру ростовского владыки было хорошо известно митрополиту Макарию. Святитель не только знал это Послание, но и пользовался им при написании своих сочинений{426}. Кроме того, хотелось бы напомнить заключение И. Н. Жданова о том, что ни сходство слога Послания к царю Ивану Васильевичу с Посланием благовещенского попа князю Горбатому-Шуйскому, ни помещение подряд этих Посланий в Сильвестровском сборнике «не имеют решающей силы» для утверждения мысли об авторстве Сильвестра{427}. Как бы там, однако, ни было, но против отождествления Сильвестра с автором Послания царю Ивану Васильевичу можно выставить несколько достаточно серьезных, на наш взгляд, соображений. О чем речь? О стиле Послания. И. Н. Жданов, склонный видеть в авторе Послания священника Сильвестра, отмечал, что Послание Ивану написано «человеком, очень близким к царю, очень влиятельным», говорящим «смело, даже фамильярно»{428}. «Авторитарность и независимость в обращениях к царю», как уже говорилось, отмечал в Послании И. И. Смирнов{429}. Этот авторитарный и независимый тон, по справедливому мнению исследователя, резко контрастирует «тем риторическим формам, которые употребляет Сильвестр, например, в послании кн. Горбатому-Шуйскому («Благовещенский поп, последняя нищета, грешный, неключимый, непотребный раб Сильвестришко» и т. д.)»{430}. Данное обстоятельство было одним из тех, что убедили И. И. Смирнова в несостоятельности предположения о Сильвестре как авторе Послания царю Ивану Васильевичу. И в этом случае историк, на наш взгляд, был прав. Но он, к сожалению, не развил свое наблюдение и не воспользовался его познавательными возможностями. Возникает вопрос, мог ли Сильвестр в 1547 году (после июньских событий в Москве), когда он только что приблизился к Ивану IV и вступил в непосредственное с ним общение, писать государю «смело, даже фамильярно», в «авторитарном и независимом тоне»? Вряд ли. Подобная ситуация, по нашему убеждению, исключена полностью. К тому же Сильвестр, насколько известно, сразу же избрал устную проповедь и беседу в качестве главного средства воздействия на царя. Обращаться к Ивану письменно у него не было никакой надобности, поскольку он имел возможность сказать государю при личной их встрече все, что хотел или считал нужным. Впрочем, не в этом главное, а в том, повторяем, что в 1547 году Сильвестр, еще не приобретший власть и силу, не мог писать Послание царю Ивану в стиле, столь не соответствующем своему реальному положению. Но не стало ли невозможное в 1547 году возможным несколько позже, скажем, в 1550–1551 гг., т. е. в то время, когда Сильвестр превратился во всесильного временщика. Так думал, как мы знаем А. А. Зимин, который, датируя Послание к царю Ивану Васильевичу 1550 годом{431}, полагал, что независимый тон этого Послания «вполне соответствует всем тем сведениям об отношениях Сильвестра к царю, которые нам сообщают источники…»{432}. Этому утверждению А. А. Зимина противоречат данные, характеризующие стиль посланий Сильвестра другим лицам, написанных в период его политического могущества при дворе. Например, в послании А. Б. Горбатому, что уже отмечалось И. И. Смирновым, Сильвестр прибегает к уничижительной лексике, именуя собственную персону «непотребным рабом Селивестришко» и называя себя «последней нищетой, грешным», а свой разум — «скудным» и пр{433}. Утешительное послание неизвестному лицу, написанное предположительно Сильвестром, содержит сходные по характеру выражения: «требуюши помощи от моея худости, и яз, грубый, не уразумею, что отвещати тебе»{434}. Обращаясь к митрополиту Макарию и Освященному собору, Сильвестр пишет: «Благовещенский поп Селиверстишко челом бьет»{435}. Стало быть, если стать на точку зрения А. А. Зимина, то получится, что Сильвестр в своих письменных обращениях к митрополиту, церковным иерархам и к боярам пользуется заискивающей риторикой, а в послании, адресованном царю, говорит «смело» и «фамильярно», «авторитарно и независимо». Кто — как, а мы не верим в такие чудеса и потому автором Послания к царю Ивану Васильевичу считаем вместе с И. И. Смирновым митрополита Макария. Другое соображение И. И. Смирнова против авторства Сильвестра, уже приводившееся нами, состоит в том, что вряд ли Сильвестр, претендовавший «на роль ближайшего советника царя, мог главный огонь в послании царю направить именно против «советников»{436}. А. А. Зимин, возражая И. И. Смирнову, говорит совсем некстати о том, будто «Сильвестр осуждал отнюдь не всех, а только лживых советников (осифлян)»{437}. Во-первых, неизвестно, когда и где Сильвестр осуждал лживых советников — иосифлян. Во-вторых, в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века главными советниками царя, вытеснившими остальных советников, были те, кто входил в Избранную Раду. И поэтому выступление против царских советников того времени означало выступление против (и тут И. И. Смирнов прав) Сильвестра, Адашева и других членов Избранной Рады. Приписать такое Сильвестру как автору Послания царю Ивану Васильевичу можно лишь в состоянии чрезмерной, так сказать, ученой ажитации. Куда естественнее видеть за критикой советников Послания царю митрополита Макария, встревоженного политикой новых придворных консультантов, ставших стеной между самодержцем и святителем. С. О. Шмидт полагает, что Сильвестр «похитил у митрополита долю влияния на государя»{438}. Однако вернее было бы сказать, что Сильвестр, перехватив влияние Макария на Ивана IV вскоре после июньских событий в Москве 1547 года, постарался оттеснить его от государя и на некоторое время, кажется, преуспел в этом. Не потому ли митрополит, лишенный непосредственного (один на один) выхода на царя Ивана, вынужден обратиться к нему письменно? Во всяком случае, факт письменного обращения Макария к Ивану примечателен и может быть истолкован так, что митрополит либо не имел тогда возможности получить аудиенцию у государя вообще, либо, добившись встречи с царем, окруженным советниками, не мог быть с ним вполне откровенным. Иное дело Сильвестр, пользующийся расположением и полным доверием царя Ивана, «имущий ко Государю дерзновение». Ему незачем было писать пространные послания монарху, поскольку любой вопрос он мог обсудить с ним устно. Это, конечно, не значит, что митрополит Макарий был полностью отторгнут от власти и потерял какое-либо политическое значение. Отчасти по инерции, отчасти в результате борьбы за власть, обострившейся в то время, он сохранял властные права, хотя и все более ущемляемые набирающей политический вес Избранной Радой во главе с ее «начальниками» Сильвестром и Адашевым. Известно, например, что Иван IV, выступая в декабре 1547 года в Казанский поход, оставил в Москве для управления государственными делами группу бояр во главе с Владимиром Старицким. При этом «о всех своих делах царь и великий князь велел князю Володимеру Андреевичу и своим бояром приходити к Макарью митрополиту»{439}. В этой связи Р. Г. Скрынников замечал, что после пожара Москвы влияние Макария «на дела управления заметно усилилось. Отправляясь под Казань в конце 1547 г., Иван поручил брату Владимиру Андреевичу и боярам «ведать» Москву, приказав им со всеми своими делами «приходити к Макарью митрополиту»{440}. Более предпочтительной нам представляется другая формулировка: после пожара Москвы влияние Макария на дела управления некоторое время еще сохранялось. Ведь то, что повелел царь Иван остающимся в Москве Владимиру Старицкому и боярам, сопоставимо с тем, как государь «по великому пожару» приезжал к митрополиту в Новинский монастырь на думу «со всеми бояры»{441}. Следовательно, царь, уходя в поход, повелел Владимиру Старицкому и боярам советоваться по вопросам управления с митрополитом, тогда как правили делами они сами в соответствии с принятой ранее практикой. Нельзя, по-видимому, согласиться и с И. И. Смирновым, который истолковал поручение царя в том смысле, будто «Макарий занимал во время отсутствия Ивана IV в Москве положение своего рода наместника — правителя государства, которому были подотчетны во всех делах по управлению государством как бояре, так и Владимир Старицкий»{442}. Вместо себя царь Иван в данном случае оставил все-таки князя Старицкого, а не Макария, которому отводилась роль высшего советника и наставника, освящавшего своим авторитетом правительственную деятельность оставленных в Москве Владимира Старицкого и бояр. И здесь Иван не вводил каких-либо новшеств, невиданных раньше. Наконец, продолжением начатой в 1547 году канонизации русских святых, имевшей важное государственное значение, был церковный собор 1549 года. Оба собора — детища митрополита Макария. Но из всего этого не следует, что в 1547–1549 гг. положение Макария укреплялось{443}. Теснимый новыми советниками царя (Сильвестром и Адашевым), он вынужден был сдать некоторые позиции и уйти в оборону. Началась борьба «за душу» Ивана. Митрополит Макарий, чтобы вернуть свое былое влияние на царя и ослабить влияние попа Сильвестра, сделал в конце 1549 — начале 1550 года близкого себе человека священника Андрея (Афанасия) протопопом Благовещенского собора и, следовательно, царским духовником, переведя его в Москву из Переяславля Залесского{444}. Но сделать это было, по всей видимости, не просто. Достаточно сказать, что Федор Бармин, предшественник Андрея, оставил место протопопа Благовещенского собора и ушел в монахи 6 января 1548 года{445}. Миновал, стало быть, целый год, прежде чем освобожденное Барминым место благовещенского протопопа было прочно занято Андреем, сменившим промежуточную фигуру какого-то иерея Якова{446}. Видно, по поводу протопопского места шла «пря» и развернулась борьба, в которой Сильвестр, похоже, фактически присвоил себе функции царского духовника. Вспомним в связи с этим слова кн. А. Курбского о Сильвестре, который душу Ивана «от прокаженных ран исцелил и очистил был и развращенный ум исправил, тем и овым наставляюще на стезю правую»{447}. Курбский говорит, в сущности, о духовном окормлении царя Ивана, входившем в обязанности духовника. В другой раз он прямо называет «презвитера» Сильвестра «исповедником» Ивана{448}. Красноречиво в данном случае и признание Ивана Грозного в том, что он «приях попа Селивестра совета ради духовного, и спасения ради души своея»{449}. Только вот какая незадача: Сильвестр так и не стал протопопом Благовещенского собора, прослужив до конца своей политической деятельности рядовым соборным священником{450}, т. е. не получил официальное право на статус царского духовника, санкционированное русской православной церковью. Как это объяснить? По нашему мнению, тут далеко не последнюю роль сыграл митрополит Макарий, вступивший в борьбу с новыми советниками и заблокировавший церковную карьеру Сильвестра. Едва ли это нравилось Сильвестру и тем, кто управлял им. Ведь его поставили попом Благовещенского собора с явным прицелом на место соборного протопопа и царского духовника с вытекающей отсюда возможностью оказывать влияние на государя. Но Сильвестр дальше должности священника не пошел. Его мог остановить лишь митрополит Макарий, вызывавший и без того злобное недовольство в определенных кругах. Насколько напряженной и даже опасной для Макария являлась политическая ситуация, сложившаяся в конце 40-х — начале 50-х годов, можно судить по концовке Послания к царю Ивану Васильевичу, где читаем: «Сие убо писание прочет, и разсуди себе, и умолчи до времени»{451}. Конфиденциальность Послания выдает обеспокоенность его отправителя за себя и за успех предлагаемых им мер по наведению порядка в стране, очищению общества от всякой скверны, освобождению государя от влияния неразумных советников. Царь обманут своими советниками, и ему надлежит хорошенько подумать над тем, о чем говорится в Послании («рассуди себе»). Автор Послания верит в государя, но просит его сохранить в тайне содержание своего письма до лучших времен, дабы не навредить делу. Таким образом, Послание к царю Ивану Васильевичу следует рассматривать как документальное свидетельство борьбы митрополита Макария с царскими советниками, возглавляемыми Сильвестром и Адашевым. Об этой борьбе сообщают и другие источники. До нас дошло несколько писем Максима Грека митрополиту Макарию, относящихся, по мнению И. И. Смирнова, к 1547–1548 годам{452}. В одном из них речь идет о противниках Макария, противящихся «священным поучениям» митрополита, о чем Грек слышит «во вся дни»{453}. В другом письме Максим говорит о «воздвизаемых» на митрополита «не праведно стужаний от непокоряющихся по безумию священным твоим наказанием…»{454}. Но особую ценность в данном отношении представляет анонимное публицистическое сочинение «Повесть некоего боголюбивого мужа»{455}. По словам И. И. Смирнова, «к созданию «Повести» имел прямое отношение Макарий, и она адресовалась непосредственно Ивану IV»{456}. Повесть предостерегает царя от неверных «синклит» (советников), могущих увлечь его чародейскими книгами, написанными «по действу диаволю»{457}. Согласно П. А. Садикову, под видом советников-чародеев «Повесть» прозрачно разумела сотрудников царя по Избранной Раде и стремилась «доказать необходимость для него и государства осуществления подлинного, ни от кого не зависимого «самодержавства»{458}. Итак, Послание митрополита Макария царю Ивану IV, дополненное другими источниками, приобретает чрезвычайную важность как документ, характеризующий политическую обстановку, сложившуюся на Руси в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века. В этом Послании обозначены болевые точки Русского государства той поры, названы фундаментальные религиозно-политические институты Святорусского царства, находящиеся в опасности. Сделано это в несколько завуалированном виде, в форме обращения, открывающего Послание: «Царю и Государю Великому Князю Ивану Васильевичи) всеа Русии Самодержца вечна, православныя веры истиннаго наставника, на Божиа враги крепкаго борителя, Христови Церкви столпа непоколебимаго и основание недвижимо и стена непобедимая…»{459}. Данное обращение Макария показывает, на чем сконцентрировано внимание святителя. Это — Царь, Православная Вера и Христова Церковь, т. е. основания, на которых поднялась Святая Русь. Всем дальнейшим содержанием своего послания митрополит старается убедить государя в том, что все эти основания поколеблены: Самодержавие — «чужими», «неразумными» и «гнилыми» советами; Православие и Церковь — ересью («мудрьствуют») и маловерием к Богу, неправдами, пороком и содомским развратом. Государь должен с помощью Бога истинного отвести беду, постигшую Русь: «Ты ж убо, Благоутробный Царю, пролей слезы теплыя к Создателю своему и воздай молитву от всея души и помышления, яко да наставит тя исправити сие, и заблужших души на покаяние привести, и от вечныя муки избавити, и Божию милость получити, со всеми рабы своими, о Христе Исусе и о Господе нашем, ему же слава и держава со Отцем, Сыном и Святым Духом. Аминь»{460}. Иван IV внимательно и вдумчиво прочел Послание митрополита Макария. Он прислушался к тому, о чем писал святитель, и трезвым взглядом посмотрел на своих любимцев-советников — Сильвестра с Адашевым и на Избранную Раду в целом. Начиналось медленное прозрение государя. Иван мало-помалу стал понимать, кто ему друг, а кто — недруг. Возвращалась прерванная на короткое время былая власть и влияние митрополита. Убедительной иллюстрацией тому служат события, связанные с Казанским походом 1552 года. * * *Царь принимает решение идти на Казань, посоветовавшись с митрополитом Макарием и всем Освященным собором{461}. Митрополичье Послание обострило, очевидно, в нем чувство ответственности и вины за неустройства и беды, вновь посетившие Русь. Недаром он, воротившись из похода, скажет встречающим его священнослужителям, что несчастья, пережитые Русью и православным людом, случились «грех ради наших, наипаче же моих ради согрешений»{462}. Да и сам поход государь воспринимал в личном плане как жертвенный поступок и способ пострадать за православную веру и церковь. Перед отъездом он, прощаясь с женой своей Анастасией, говорил: «Аз, жено, надеяся на Вседръжителя и премилостиваго и всещедраго и человеколюбиваго Бога, дерзаю и хощу итти против нечестивых варвар и хощу страдати за православную веру и за святые церкви не токмо до крови, но и до последняго издыхания. Сладко убо умрети за православие; ни есть смерть еже страдати за Христа, се есть живот вечный…»{463}. Государь наказывал царице: «Тебе же, жено, повелеваю никамо о моем отшествии скорбети, но пребывати повелеваю в велицых подвизех духовных и часто приходити к святым Божиим церквам и многы молитвы творити за мя и за ся и многу милостыню убогим творити, и многых бедных и в наших царских опалах разрешати повелевай и в темницы заключимые испущати повелевай, да сугубу мьзду от Бога примем, аз за храбръство, а ты за сиа благая дела»{464}. Речь Ивана была столь искренней и неподдельной, настолько назидательной и внушительной, что с Анастасией приключился обморок, но «царь свою супружницу своими рукама удръжал, хотяше бо пастися на землю, и на мног час безгласна бывши…»{465}. Но самое важное для нас распоряжение царь отдал митрополиту: «Ты же, господине отець мой Макарий митрополит всея Русии, подщися, елико тобе Бог дасть, во всем береги царства сего Владыку нашего Христа моли: брата же нашего на благодарныа дела поучай, такожде и бояр оставших зде, въ всем наказуй; такоже, господине, и жену мою царицу Анастасию, непраздну сущу, духовне въ всем побереги»{466}. Помимо этого летописного сообщения, существует еще одно известие, касающееся поручения Ивана IV митрополиту Макарию накануне Казанского похода. Оно принадлежит Исааку Массе (1587–1635), голландскому купцу и торговому резиденту в Москве, писавшему о событиях в Русском государстве начала XVII века. Рассказывая об отъезде Ивана Васильевича к войску, стоявшему под Казанью, Исаак Масса говорит, что в Москве царь «оставил вместо себя митрополита Макария»{467}. Несмотря на ряд неточностей и анахронизмов, содержащихся в рассказе голландца, И. И. Смирнов признал его достоверность в той части, где извещается «об оставлении Иваном IV на время своего отсутствия, «вместо себя», т. е. наместником, митрополита Макария»{468}. Относительно же летописной записи речи царя перед митрополитом И. И. Смирнов говорит, что эта «речь Ивана IV обязывает Макария: 1) выполнять свои обязанности главы церкви; 2) «поучать» царева брата, кн. Юрия Васильевича; 3) «наставлять» во всем оставленных Иваном IV в Москве бояр; 4) беречь царицу Анастасию. Из этих четырех пунктов, составляющих содержание царской речи, основным и центральным является, конечно, пункт третий, определявший отношение Макария к боярам, оставленным в Москве для управления государством во время отсутствия в столице царя»{469}. И. И. Смирнов приходит к выводу, что митрополиту Макарию в период пребывания царя за пределами Москвы была определена «роль наместника-правителя, замещающего в качестве высшей власти в государстве отсутствующего в данный момент царя»{470}. Соглашаясь с основными положениями И.И.Смирнова, попытаемся все же несколько уточнить и детализировать проблему наместничества митрополита Макария в отсутствие на Москве государя. Вопрос заключается в том, с ограниченными ли полномочиями был оставлен в Москве Макарий или же как полновластный правитель. Иными словами, являлся ли митрополит представителем находящегося в отлучке государя или же сам в определенной мере олицетворял высшего властителя. Мы склоняемся ко второму варианту, полагая, что митрополит Макарий, оставаясь в Москве, принял светскую власть полностью, без каких-либо изъятий, заменив всецело государя. Со стороны царя эта мера была естественной и осмысленной, поскольку никто не мог поручиться, чем закончится военный поход и вернется ли из него Иван живым и невредимым. Самодержец отдавал власть в руки надежного человека, которому верил, как себе. Он передал на попечение митрополита то, чем дорожил больше всего на свете, — любимую жену Анастасию, приуготовлявшуюся принести ему, как он, очевидно, надеялся, наследника. Полноту власти митрополита, призванного править в отсутствие государя, подтверждают некоторые летописные сведения. И. И. Смирнов, на наш взгляд, прав, выделяя в качестве основного и центрального пункт речи Ивана IV, «определявший отношения Макария к боярам, оставленным в Москве для управления государством во время отсутствия в столице царя». Неясно только, как понимать слова бояр во всем наказуй. Можно так, как у И. И. Смирнова: наставляй во всем бояр. Но можно, а по нашему мнению, и нужно связывать с термином наказуй другое значение — повелевай, приказывай{471}. Отсюда следует, что остающийся в Москве митрополит вместо ушедшего в Казанский поход царя Ивана наделялся властью, аналогичной власти самодержца. Это вытекало из религиозно-политических представлений о симфонии (гармонии) духовной и светской властей, о теократическом характере русского «самодержавства», разделяемых царем Иваном и митрополитом Макарием. В основе подобных представлений лежала идея, которую в чеканной форме выразил Иван IV в своем послании из похода митрополиту Макарию: «А царство бы наше, порученное Богом тебе и нам, въ время отшествия нашего и впредь покрыл благодатию своею…»{472} Здесь заключена мысль об известном равенстве двух средоточий власти — святительской и царской и, следовательно, о соправительстве митрополита и царя. Поэтому царь Иван именует митрополита Макария отцом, господином и государем{473}. Поход 1552 года принес Русскому государству, как известно, долгожданную победу: Казанское ханство пало, открыв путь нашим на Астрахань. Оставались считаные годы до того времени, когда великая Волга на всем своем тысячеверстном протяжении стала русской рекой, в бассейне которой проживали многочисленные иноверцы, вошедшие в круг подданных московского государя. Началось движение Руси к Российской империи. И начало этому движению положил царь Иван Васильевич Грозный. Иван IV возвращался в Москву как национальный герой, победивший «супостаты». Летописец рассказывает: «И прииде государь к царьствующему граду Москве, и стречаху государя множество народа. И толико множество народа, — и поля не вмещаху их: от рекы от Яузы и до посада и по самой град по обе страны пути бесчисленно народа, старии и унии, велиими гласы вопиющий; ничтоже ино слышати, токмо: «многа лета царю благочестивому, победителю варварскому и избавителю христианьскому»{474}. В «Казанской истории» неизвестного автора середины XVI века (очевидца событий) наблюдаем такую же, но усиленную некоторыми деталями и подробностями картину: «И позвоне весь великий град Москва, изыдоша на поле за посад в сретение царя и великого князя князи и велможи его и вси старейшины града, богатии и убозии, юноша и девы, и старцы со младенцы, черньцы и черницы, и спроста все множество бесчисленное народа московского, и с ними же вси купцы иноязычныя, турцы, и армены, и немцы, и литва, и многия странницы. И встретиша за 10 верст, овии же за 5, овии же за 3, овии же за едино поприще, оба полы пути стояще со единаго, и угнетающися и стесняющися; и видевше самодержца своего… и возрадовашася зело хваляще и славяще и благодаряще его <…> Овии же народи московстии, возлезше на высокия храмины и на забрала и на полатныя покровы, и оттуду зряху царя своего, овии же далече наперед заскакаше, и от инех высот некиих, лепяше-ся, смотряше, да всяко возмогут его видети. Девица же чертожныя и жены княжия и болярския, им же нелзе есть в такая позорища великая, человеческаго ради срама, из домов своих изходити и ни из храмин излазити не полезне есть, и где седяху и живяху яко птица брегоми в клетцах, — они же сокровенне приницающе из дверей и из оконец своих, а в малыя скважницы глядяху и наслажахуся многаго видения того чюдного, и доброты и славы блещащаяся»{475}. То был всенародный праздник и всеобщее ликование. Надо сказать, что эта поистине историческая победа не вскружила голову Ивану. Отвечая на поздравления князя Владимира Старицкого, бояр и воевод с взятием Казани, государь говорил: «Бог сиа содеял твоим, брата моего, попечением и всего нашего воиньства страданием и всенародною молитвою; буди Господня воля!»{476}. В речи, обращенной к митрополиту и ко всему Освященному собору, царь заявил, что победа над врагом добыта «попечением и мужеством и храбростию брата нашего князя Владимира Андреевича, всех наших бояр и воевод, и всего христианьского воиньства тщанием и страданием за непорочную нашу истинную святую христианьскую веру и за святые церкви и за единородную нашу братию православных христиан. И милосердый Бог призре с высоты небесныя и излиа щедроты благости своея на ны, неблагодарныя рабы своя, и не по нашему согрешению дарова нам благодать свою: царьствующее место, многолюдный град Казань, и со всеми живущими в нем предаде в руце наши и Магметову прелесть прогна и водрузил животворящий крест в запустенной мерзости Казаньстей»{477}. Приведенные сейчас тексты содержатся, как мы могли убедиться, и в Летописце начала царства, и в Царственной книге, подвергшейся внимательному редактированию со стороны Ивана Грозного. Смысл этих текстов не позволяет присоединиться ни к Д. Н. Альшицу, воспринимавшему редакторскую работу Грозного как царское самовосхваление{478}, ни к С. Б. Веселовскому, усматривавшему в ней стремление царя «очернить, осудить или просто оклеветать бояр и дворян, то вообще всех, то некоторых персонально»{479}. Позиция Грозного-редактора была не столь прямолинейна и субъективна, как думают названные исследователи. И уж, конечно, цитированные летописные записи никак не согласуются с придуманным А. Л. Хорошкевич и подхваченным другими историками образом царя — «эгоиста или даже суперэгоиста на троне»{480}. Еще накануне взятия Казани царь Иван, «призва к себе» старицкого князя, бояр, воевод и всех воинов, говорил им так: «И яз вас рад жаловати великим жалованием, своею любовию, и всех вас недостаточная наполняти и всяко пожаловать, сколко милосердый Бог поможет; а кому от нас лучится пострадати, и яз рад жены их и дети до века жаловати»{481}. Если послушать князя Курбского и поверивших ему некоторых позднейших историков, то придется признать эти слова государя лживыми и лицемерными. Курбский рассказывает, что на третий день после «преславной победы» Иван якобы «отрыгнул нечто неблагодарно, вместо благодарения, воеводам и всему воинству своему — на единаго разгневався, таковое слово рек: «Ныне, рече, обронил мя Бог от вас!» Аки бы рекл: «Не возмогл есма вас мучити, паки Казань стояла сама во собе: бо ми есть потребны были всячески, а ныне уже волно мне всякую злость и мучительство над вами показывати»{482}. Повествователь старается заклеймить царя: «О, слово сатанинское, являемое неизреченную лютость человеческому роду! О, наполнение меры кровопийства отческого!»{483}. Уже одних этих мелодраматических восклицаний достаточно, чтобы понять стилизованный характер приведенного «свидетельства» Курбского. Но «дивны дела твои, Господи»: столь очевидному, сколь и нелепому поклепу на Ивана IV безоглядно поверил С. Б. Веселовский, шумно изобличавший тенденциозность Грозного и не замечавший таковой у Курбского. По С. Б. Веселовскому, здесь Курбский «сообщает колоритный эпизод отношений царя к его соратникам»{484}, не греша, следовательно, против правды. Перед нами какая-то источниковедческая «вкусовщина», проистекающая из резкого неприятия личности Ивана Грозного, чем, несомненно, страдал С. Б. Веселовский. Избирателен в данном случае и новейший историк Б. Н. Флоря, который говорит: «Первый биограф [?!] Ивана Грозного, князь Андрей Михайлович Курбский, писал, что истинное отношение царя к своим советникам проявилось на третий день после взятия Казани, когда, разгневавшись за что-то на одного из вельмож, Иван произнес: «Ныне оборонил мя Бог от вас!» Однако это сообщение Курбского не подтверждается какими-либо другими источниками, и в сочинениях царя нет упоминания об этом эпизоде. Очевидно, что если у Ивана IV и вырвались в тот момент какие-то гневные слова, то он не придал им значения и забыл о них»{485}. Б. Н. Флоря, как видим, опустил наиболее важные слова, произнесенные якобы царем Иваном: «Не возмогл есма вас мучити, паки Казань стояла сама во собе, бо ми есть потребны были всячески; а ныне уже волно мне всякую злость и мучительство над вами показывати»{486}. В этих словах, по концепции Курбского, вся последующая программа правления Ивана IV. И если бы царь действительно говорил эти зловещие слова, то едва ли бы забыл о них, поскольку обладал феноменальной памятью, поражавшей современников{487}. Но в том-то и дело, что государь не мог, на наш взгляд, произносить подобных слов, так как был настроен на иной совершенно лад благодарности и любви к своим подданным, ратным трудом и подвигом которых была завоевана «подрайская землица». Этот настрой монарха подтверждается его конкретными поступками. Летописец рассказывает о том, как 8 ноября 1552 года Иван IV дал в Кремле торжественный обед в честь победы русского воинства над Казанью: «Был стол у царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии в болшей палате в Грановитой, что от Пречистой с площади; а ел у него митрополит Макарей с архиепископы и епископы, архимариты и игумены, да ел у государя брат его князь Юрьи Васильевич да князь Владимир Андреевичь и многие бояре и воеводы, которые с ним мужествовали в бранех. И дарил царь и государь Макария митрополита и владык всех, в то время прилучьшихся, что их святыми молитвами и всенародною молитвою даровал Бог неизреченную свою милость. А брата своего Владимира Андреевича жаловал государь шубами и великими фрязьскыми кубкы и ковши златыми; такоже жаловал государь бояр своих и воевод и дворян и всех детей боярьских и всех воинов по достоянию, шубами многоценными своих плечь, бархаты з золотом, на соболях, и купкы, иным же шубы и ковши, иным шубы, иным кони и доспехы, иным из казны денги и платие. Сие же торъжество у государя бысть по три дни в той полату, и в те три дни роздал государь казны своей, по смете казначеев за все денгами, платья и судов, доспеху и коней и денег, опричь вотчин и поместей и кормленей, 48 000 рублев. А кормлении государь пожаловал всю землю»{488}. Все это очень не похоже на «злость и мучительство», о которых распространялся Курбский. Стоимость подарков, исчисляемая почти пятьюдесятью тысячами рублей, впечатляет. По тем временам то была весьма внушительная сумма. Привлекает также внимание и награда в виде кормлений{489}. Помимо раздачи кормлений, наряду с вотчинами и поместьями, государь пожаловал «кормлении всю землю». По-видимому, здесь раздача кормлений участникам торжества и пожалование «всей земли» кормлениями — разные вещи. Как понимать фразу «а кормлении государь пожаловал всю землю»? С. Б. Веселовский, разъясняя данную фразу, утверждал: «Право на кормления имели только дворяне, т. е. лица, служившие по дворовому списку, а их было в то время около 2700 чел. Высшие чины, служившие большей частью в Москве постоянно, получали кормления, в той или иной норме, ежегодно, а огромное большинство дворян получало кормления и денежное жалованье раз в три-четыре года или в связи с походами в виде подъемных денег и наградных. Таким образом, «всю землю», т. е. всех разом пожаловать, было невозможно и предстояло распределять на несколько лет вперед очереди получения кормлений с учетом, конечно, чина и службы более двух с половиной тысяч людей»{490}. В исторической литературе имеются и другие разъяснения упомянутой формулы, более соответствующие, по нашему мнению, ее подлинному содержанию. Так, согласно С. Ф. Платонову, «в 1552 году осенью, после Казанского похода царь, празднуя победу над татарами, сыпал милости и награды, «а кормлении государь пожаловал всю землю». Это значило, что царь объявил о своем решении отменить кормления и перейти на новый порядок местного управления, более льготный и приятный для населения»{491}. В данном случае, как и в других, царская власть провозглашала новые принципы, выступая «пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботою об общем благоденствии»{492}. Перед нами один из моментов формирования в России народной монархии, отличающейся попечением государя обо всех людях православного царства независимо от их социального ранга: «Любовь же его по Бозе ко всем под рукою его, к велможам и к средним и ко младым ко всем равна: по достоянию всех любит, всех жалует и удоволяет урокы вправду, против их трудов, и мзды им въздает по их отечеству и службе; ни единаго же забвена видети от своего жалования хочет, такоже никого ни от кого обидима видети хощет»{493}. Версию С. Ф. Платонова принял И. И. Смирнов, по мнению которого победа царя над Казанью дала ему возможность «провозгласить программу дальнейшего проведения реформ в области управления — реформ, которые должны были явиться продолжением и развитием мероприятий, осуществленных в 1549–1551 гг. Официальная летопись — «Летописец начала царства великого князя Ивана Васильевича» — изображает содержание этой программы реформ, провозглашенной царем, как «пожалование» им «всей земли»: «А кормлении государь пожаловал всю землю». Эта краткая летописная формула обычно истолковывается как заявление царя о намерении отменить кормления и установить новую систему местного управления. Вряд ли можно возражать против подобного понимания формулы о «пожаловании кормлениями» «всей земли»{494}. Иван IV не ограничился прокламированием улучшения народной жизни в будущем. Кое-что в этом плане он предпринял незамедлительно. Если верить составителю «Казанской истории»{495}, государь «земские дани своя людям облегчи»{496}, т. е. ослабил податное государственное бремя. Кроме того, он порадовал людей разовой милостью и щедротами своими: «И многу того дне милостину нищим и по монастырем черньцем и по градцким церквам иереом вда. И всех ссуженных на смерть и в темницах седящих на волю испусти <…> И милостину разосла по всей державе своей, по градом и по селом, и по монастырем по всем, по малым же и великим, и по пустынцам, и по всем церквам святым, где есть свеща и просвира отправляти, и да молятся прилежно Богу все о телесном здравии его и о душевном спасении, игумени и попы»{497}. Нельзя, конечно, данное описание милостей царя воспринимать буквально. Но не приходится сомневаться в том, что массовые благодеяния Ивана в ознаменование победы над Казанью имели место и потому отмечены современником. Сокрушение Казанского ханства, многочисленные пожалования, дары, милости и щедроты Ивана IV в честь великой победы — все это очень возвышало царя в общественном сознании, превращая его в национального героя. Следует согласиться с И. И. Смирновым, когда он говорит: «Казанский поход 1552 г. и блестящая победа Ивана IV над Казанью не только означали крупный внешнеполитический успех Русского государства, но и способствовали укреплению внутриполитических позиций Ивана IV»{498}. Это, безусловно, так. Но было бы половинчатым остановиться на этом, поскольку русские вели войну не просто с внешним врагом, но с врагом иноверным, чему придавалось тогда далеко не второстепенное значение. Вот почему победа над казанцами означала для наших предков торжество православия над верой «бусурман», что поднимало престиж русской церкви и ее главы митрополита Макария, способствуя, как и в случае с царем Иваном, укреплению его внутриполитических позиций. Обе власти — царская и святительская — поднимались на небывалую доселе высоту, образуя гармоническое единство. Союз церкви и государства, засвидетельствованный пребыванием в Москве митрополита Макария в качестве полновластного правителя, оставленного Иваном IV вместо себя на время Казанского похода, еще более окреп. Можно вообразить, какой переполох вызвал такой поворот событий в стане Сильвестра и Адашева. Они поняли, что их влияние и власть могут развеяться, как мираж, если того захочет царь, проникающийся все большим доверием к святителю и своему богомольцу. Им надо было, не мешкая, искать случай, чтобы решить вопрос с Иваном и его семейством радикально. Казалось, такой случай представился в марте 1553 года. И что особенно примечательно — так это то, что противники самодержца были, похоже, подготовлены к нему как идейно, так и организационно, выступив, можно сказать, консолидированно. * * *Вспоминается в этой связи поездка царя и царицы в Троице-Сергиев монастырь с целью крещения младенца Дмитрия, предпринятая ими в декабре 1552 года{499}. Необходимо сказать, что в Синодальном списке Лицевого свода запись об этой поездке царской четы и крещении наследника отсутствует, в чем нельзя не заметить некую странность, поскольку перед нами официальная летопись. И естественно было ждать упоминания в официальной хронике такого события, как крещение восприемника царского престола. Однако этого не произошло. Видимо, на то имелась какая-то причина, которую составитель летописи счел необходимым скрыть. Для кого-то, вероятно, было нежелательно ворошить память о царевиче. Иное дело — Иван Грозный. Он не мог пройти мимо печальной истории своего сына. Поэтому в Царственной книге, правленной им, сообщение о крещении Дмитрия помещено в виде приписки. В Синодальном списке не значится и другая запись, представленная в Царственной книге также в виде приписки к основному тексту. Она сообщает о поручении Ивана боярам во время своей поездки в Троицу «о Казанском деле промышляти да и о кормлениях сидети; они же от великого такого подвига и труда утомишася и малого подвига и труда не стерпеша докончати и възжелаша богатества и начаша о кормлениях седети, а Казанское строение потложиша; и в те поры Луговая и Арская отложилася и многия беды христианству и крови наведоша. Се первое зло случися христианству»{500}. С. Б. Веселовский предложил следующий комментарий к этому сообщению: «Весьма возможно, что распределение кормлений прошло не без греха, но заявление интерполятора, будто из-за этого бояре отложили устроение казанских дел и вызвали тем пролитие христианской крови, нельзя назвать иначе, как смелой полемической неправдой»{501}. Пересказывая содержание интерполяции, С. Б. Веселовский допускает неточность, говоря, будто из-за одного только распределения кормлений бояре отложили устроение казанских дел. На самом же деле была еще одна, названная в летописной вставке, причина нерадения бояр: «они же от великого такого подвига и труда утомишася и малаго подвига и труда не стерпеша докончати». То есть бояре, устав от казанских походов и войны с Казанью, не захотели завершить столь успешно начатое дело устроением завоеванного края, способствуя тем восстанию местного населения против русской власти{502}. Некоторые бояре, как, например, князь Семен Лобанов-Ростовский, вообще сомневались в том, удастся ли царю удержать Казань. Поэтому князь Семен говорил однажды главе литовско-польской дипломатический миссии Станиславу Довойне: «А Казани царю и великому князю не здержати, ужжо ее покинет»{503}. Нельзя, однако, нерасторопность бояр объяснять их сомнениями в конечном успехе казанского предприятия, а тем более — усталостью от ратных дел. Прав, на наш взгляд, И. И. Смирнов, истолковавший поведение бояр с точки зрения политической. Исследователь полагает, что в казанском деле «позиция бояр определилась как демонстративный отказ обсуждать вопрос о «Казанском строении». Вопрос же о «кормлениях» бояре стали рассматривать не в плане осуществления реформы, провозглашенной царем, а прямо с противоположных позиций: «возжелаша богатества», т. е. тех доходов, которые шли в пользу наместников-кормленщиков с населения и которых предстояло лишиться боярам в случае, если бы «кормления» были ликвидированы»{504}. Во всем этом И. И. Смирнов видит открытую демонстрацию боярства «против политики Ивана Грозного»{505}. И. И. Смирнов обратил внимание на то, что «Царственная книга ставит в прямую связь поведение бояр в вопросе о «Казанском строении» и о «кормлениях» с теми «бедами», которые обрушились на Русское государство — сначала в виде восстания луговых и арских людей в Поволжье, а затем в виде болезни царя и боярского «мятежа». Иными словами, Царственная книга прямо и непосредственно ставит в связь позицию боярства в вопросе о Казани и о кормлениях с «мятежом», поднятым боярами в марте 1553 г.»{506}. Соглашаясь с общей направленностью построений И. И. Смирнова, обозначим некоторые расхождения с историком, касающиеся отдельных, причем немаловажных, деталей. Если рассматривать поведение бояр во время отсутствия царя в Москве с политической точки зрения и связывать, как это правильно делает И. И. Смирнов, их действия с боярским «мятежом» в марте 1553 года, то станет ясно, что суть противоречий и конфликта между государем и боярами коренилась отнюдь не в вопросах о «Казанском строении» или о «кормлениях». Она коренилась в недовольстве княжеско-боярской знати усилением самодержавной власти Ивана IV вследствие победы царских войск над Казанью, возросшим в связи с этой победой авторитетом царя в народном сознании. Надо отдать должное политическому чутью Ивана, верно угадавшего огромное значение для судеб русского самодержавства «казанского взятия» и забот об общественном благе, достигаемом в тот момент отменой корыстной системы кормлений. Понятно, почему царь Иван встретил сопротивление боярства, отложившего, вопреки указаниям государя, обустройство Казани и сменившего акценты при рассмотрении проблемы кормлений. То был, по существу, откровенный со стороны бояр демарш против самодержавия Ивана IV. Но не следует думать, будто все московские бояре участвовали в этой акции. Часть боярства, несомненно, была и оставалась верной самодержцу. Против него выступали те бояре, которые группировались вокруг Сильвестра и Адашева. Да и не только бояре, а также отдельные духовные лица и служилые люди — дворяне или дети боярские. Бояре в этом сообществе были заметнее, чем другие, являясь верхушечным слоем многочисленной и разветвленной организации, которая, воспользовавшись отсутствием в Москве самодержавного монарха, повела Боярскую Думу за собой. Судя по дальнейшим событиям, к этой организации примыкали старицкие князья. Согласно догадке И. И. Смирнова, князь Владимир Андреевич Старицкий во время поездки царя в Троице-Сергиев монастырь находился в Москве и участвовал в заседаниях Боярской Думы{507}. Обструкция «самодержавству» Ивана, устроенная партией противников неограниченной монархии в России, сопровождалась международной акцией (не было ли здесь согласованности?), преследующей аналогичную цель. Для царя Ивана она не была неожиданностью, поскольку 24 ноября 1552 года его информировали из Смоленска о том, что «в Москву к боярам (а не к нему) едет посланник «королевой Рады» Я. Гайко»{508}. Царь проявил достоинство и выдержку, покинул столицу, связав свой отъезд с крестинами младенца-сына. Это был тонкий дипломатический ход, парировавший замысел «западного соседа»: Иван продемонстрировал полное пренебрежение к послу Польско-Литовского государства. Ян Гайко приехал в Москву, когда там государя уже не было. Эффект, на который рассчитывал «западный сосед», не состоялся{509}. Грамота, привезенная в Москву посланником панов радных, была обращена к митрополиту Макарию, а также к боярам И. М. Шуйскому и Д. Р. Юрьеву: «Целебному отцу, архиепископу митрополиту московскому Иасафу (так в грамоте. — И.Ф.), а Данилу Романовичю, дворетцкому, а князю Ивану Плетеню Шуйскому»{510}. Это очень напоминало грубую провокацию, поскольку, как справедливо на этот раз заметила А. Л. Хорошкевич, «обращение панов Рады к боярам и митрополиту через голову царя ущемляло престиж нововенчанного государя»{511}. Но она поспешила, заявив, что «обращение панов Рады к митрополиту, минуя царя, лишь подчеркивало значение высшего церковного иерарха для западных соседей России»{512}. Православный иерарх едва ли много значил для тех «западных соседей» России, которые исповедовали католичество, а православие воспринимали как схизму. Насмешливое отношение к русскому митрополиту, граничащее с издевательством, проглядывает уже в том, что в грамоте перепутано имя Макария с именем его предшественника по митрополичьему столу Иоасафа. Смысл акции панов радных, конечно же, не в том, чтобы подчеркнуть значение «высшего церковного иерарха для западных соседей России». Скорее всего, он состоял в намерении посеять недоверие между государем и митрополитом, чьи отношения накануне и после казанского взятия переживали подъем, благодетельный для России, и тем самым навредить крепнущему союзу между священством и царством. Был, по-видимому, еще один расчет у «западного соседа», проявившийся в формуле обращения к московским боярам. В этом обращении, вопреки правилам местничества, первым назван Д. Р. Юрьев, а вторым — И. М. Шуйский. Представитель одного из знатнейших русских княжеских родов, потомков Рюрика, И. М. Шуйский, игравший видную роль в политической жизни Руси 30–50-х годов XVI века{513}, поставлен ниже представителя менее древнего и менее знатного рода московских бояр Захарьиных, вызывавших раздражение у княжеско-боярской знати из-за того, что они находятся у государя в приближении не по отечеству. Вряд ли паны радные не знали, что творили. Они подогревали недовольство княжат, которые брюзжали по поводу того, что их государь «теснит» и «бесчестит», жалуя «молодых людей». В мартовских событиях 1553 года это недовольство вырвется наружу, способствуя разладу в Боярской Думе. Ян Гайко думал, наверное, что ведет искусную дипломатическую игру. Но он заблуждался. Играли с ним русские. После первой встречи с польско-литовским посланником митрополит и бояре тут же известили о ней государя: «И митрополит и бояре, слушав грамоты, послали ко царю и великому князю к Троице»{514}. С московской стороны, стало быть, переговоры митрополита и бояр с Гайкой являлись не более чем инсценировкой{515}. Они велись под строгим контролем царских дипломатов и при их непосредственном участии{516}. По словам, И. Грали, «на всякий случай за послами и «переговорщиками» был учрежден надзор. Приставленный к послу Константин Мясоед Вислый, числившийся придворным митрополита, на самом деле был поставлен царской администрацией… В режиссуре спектакля, при отсутствии царя, пребывавшего в Троице-Сергиевом монастыре, большую роль играл Висковатый»{517}. Последнюю точку в этом спектакле поставил митрополит Макарий, который на прощальной аудиенции сказал Яну Гайке, что поскольку он, Гайка, «привез грамоту о государских делах, а не о церковных делах», то ему, митрополиту, «до тех дел дела нет, о тех государских земских делах епископу и паном ведомо учинят государские бояре»{518}. Так конфузливо закончилась затея «западного соседа» испортить отношения между митрополитом Макарием и царем Иваном. Несколько иной результат имела, вероятно, попытка радных панов усилить неприязнь кяжеско-боярской знати к Захарьиным — родичам жены государя Анастасии. Здесь их интрига могла иметь некоторый успех, о чем судим по событиям в марте 1553 года. Вообще же дипломатическая миссия Гайки указывает на то, откуда «дул ветер перемен» в Русском государстве. Однако вернемся на минуту к боярам, оставленным царем сидеть и думать о казанском строении и о кормлениях всей земли. Поведение бояр, действовавших вразрез с указаниями государя, вряд ли было стихийным. Надо полагать, что они вели себя так по договоренности. Значит, имел место сговор, в котором участвовал, вероятно, и Владимир Старицкий. Поэтому события декабря 1552 года в Москве можно рассматривать как начальную фазу боярского «мятежа», достигшего высшей точки в марте 1553 года во время тяжелой болезни царя Ивана. * * *Д. Н. Альшиц, специально изучавший происхождение и особенности источников, повествующих о боярском «мятеже» 1553 года, насчитал три источника, содержащих сведения об этом событии: «Первый из них — приписка, сделанная Иваном Грозным на полях Синодального списка последнего тома Лицевого свода под 1554 г., где рассказывается об отъезде и пытке князя Семена Лобанова-Ростовского. Второй — приписка, сделанная его же рукой несколькими годами позже на полях Царственной книги под 1553 г. Это единственное подробное описание «мятежа». Наконец, третий — это письмо Ивана Грозного к Курбскому от 5 июля 1564 г.»{519}. По мнению Д. Н. Альшица, приписки к Синодальному списку появились «в 1563 г., во всяком случае, до опричнины, до бегства Курбского, до объявления царем открытой борьбы со старыми и новыми изменниками», а приписки к Царственной книге делались «в годы этой борьбы, в суровые годы между установлением опричнины (1564) и московскими казнями (1570)»{520}. Исследователь полагает, что «все сведения, касающиеся мятежа 1553 г. исходят от одного лица — от Ивана Грозного. Казалось бы, что рассказы, имеющие единое происхождение и посвященные одному и тому же факту, должны совпадать между собой в передаче событий, а если и отличаться один от другого, то разве лишь своими размерами или количеством подробностей. В действительности же дело обстоит совершенно иначе: все три рассказа не только не сходны между собой, не только противоречат один другому, но и взаимно исключают друг друга»{521}. Д. Н. Альшиц приходит к выводу о том, что «достоверность рассказа приписки к Царственной книге под 1553 г. об открытом мятеже во время царской болезни является во многих отношениях сомнительной», ибо никакого боярского мятежа в действительности не было, хотя тайный заговор бояр, о котором стало известно лишь в 1554 году при расследовании дела князя Семена Лобанова-Ростовского, имел место{522}. Построения Д. Н. Альшица встретили неоднозначную реакцию в ученом мире: одни исследователи соглашались с ним полностью{523}, другие — частично, находя в его суждениях «рациональные зерна»{524}, а третьи выступили с возражениями против предложенной им концепции, отрицающей правдивость известий, сохранившихся в приписках к Царственной книге. К числу последних исследователей принадлежал И. И. Смирнов, написавший специальную заметку «Об источниках для изучения «мятежа» 1553 г.» и опубликовавший ее в Приложениях к своим «Очеркам». И. И. Смирнов, допуская участие Ивана IV в редактировании Лицевых сводов XVI века, замечал, что «большой материал в обоснование этого положения содержится в работе Д. Н. Альшица»{525}. Однако более внимательное, нежели у Д. Н. Альшица, «рассмотрение данных, содержащихся в Царственной книге, равно как и в других источниках, позволяет существенным образом изменить оценку этих источников»{526}. Исследователь следующим образом оценил приписку к Царственной книге в плане достоверности сообщаемых ею сведений: «Основным источником для изучения мартовских событий 1553 г. является Царственная книга, точнее, скорописная приписка на полях ее основного текста. Я считаю бесспорным высокую степень достоверности рассказа Царственной книги»{527}. По словам А. А. Зимина, «в построениях Д. Н. Альшица есть рациональное зерно: приписки к Царственной книге действительно тенденциозно излагают события марта 1553 г., но отнюдь не измышляют их»{528}. Поэтому «отрицать вероятность основного содержания приписок Царственной книге нет никаких оснований»{529}. Р. Г. Скрынников в своей ранней книге «Начало опричнины» назвал наиболее аргументированным мнение, согласно которому «приписки к Царственной книге были составлены самим царем Иваном или при его непосредственном участии»{530}. Но вместе с тем он замечал: «Д. Н. Альшиц строит свою аргументацию на сопоставлении рассказа о боярском «мятеже» 1553 г. в послании Курбскому и приписок к Синодальному списку и Царственной книге. По его мнению, приписка к Синодальной рукописи появилась до полемики царя с Курбским в 1564 г., а приписка к Царственной книге после этой полемики. Основанием для этого вывода служат противоречия и расхождения приписок между собой. На наш взгляд, расхождения приписок носят по большей части мнимый характер. Летописные приписки имеют один общий сюжет-заговор, организованный боярами во время болезни царя в марте 1553 г. Сведения, касающиеся этого сюжета, не противоречат друг другу, а напротив, почти полностью совпадают»{531}, различаясь порою лишь полнотой изложения{532}. Подробный рассказ об открытом мятеже бояр в марте 1553 года носит, по мнению Р. Г. Скрынникова, легендарный характер, воспроизведенный по памяти, задним числом{533}. Наиболее недостоверными Р. Г. Скрынникову представлялись обращенные к боярам в Думе речи умирающего царя, которые «должны были доказать, что боярский мятеж был прекращен исключительно благодаря вмешательству монарха»{534}. И все же «летописные приписки очень близки между собой по содержанию, стилю и т. д. в той части, в которой речь идет об одном и том же сюжете, боярском заговоре 1553 года. Можно полагать, что в этом случае в основу их был положен один и тот же источник. Достоверность материала и подробности, сообщаемые в приписках, наводят на мысль, что при составлении их могли быть использованы подлинные документы следствия о боярском заговоре»{535}. Это касается приписок не только к Синодальному списку, но и к Царственной книге: «Д. Н. Альшиц первым высказал предположение о том, что царь внес в Синодальный список подробный рассказ о заговорщицкой деятельности Старицких в 50-х гг., желая оправдать расправу с ближайшей родней в 1563 году. Во время суда над Старицким в 1563 г. царь затребовал из архива судное дело боярина князя С.В.Ростовского 1554 года, содержавшее документальные материалы относительно тайного боярского заговора в пользу Старицкого в 1553 году. По-видимому, названные материалы были непосредственно использованы при составлении приписок к Синодальному списку и, возможно, Царственной книге»{536}. Впоследствии Р. Г. Скрынников заметно изменил свои взгляды. Теперь он приписку на полях Царственной книги, повествующую о боярской крамоле 1553 года, не связывает со следственным делом. Р. Г. Скрынников полагает, что эту приписку можно назвать «Повестью о мятеже», которую сочинил царь Иван «с помощниками, подбиравшими для него материал, подготовлявшими черновик, а затем следившими за изготовлением беловика»{537}. Если «при составлении синодальной приписки редактор опирался на документы», то, сочиняя Повесть, он прибегал к воспоминаниям, устным свидетельствам, что сближает его произведение «с мемуарным жанром»{538}. Общий вывод у Р. Г. Скрынникова такой: «Сведения о мятеже в Думе в 1553 году были вымышленными»{539}. Автор, таким образом, стал на точку зрения Д. Н. Альшица. Сходную позицию занял и Г. В. Абрамович, логика рассуждений которого довольно проста: «поскольку данная приписка сделана более чем через 10 лет после 1553 г., уже в период опричнины, ей нельзя придавать серьезного значения»{540}. С Д. Н. Альшицем решительно разошелся Н. Е. Андреев, признавший достоверность интерполяции Царственной книги о болезни царя и боярском мятеже 1553 года. При этом он, в отличие от Д. Н. Альшица, автором приписки считал не Ивана Грозного, а посольского дьяка И. М. Висковатого{541}. И. Граля, обозрев историографию вопроса об интерполяциях Синодального списка и Царственной книги, убедился в том, что «главной целью исследователей было установить авторство и время написания текста, и лишь затем — определить степень его достоверности. Часто выдвигался априорный тезис о присутствии в источнике доминирующей над фактами пропагандистской тенденции, благодаря чему приписка считалась едва ли не политическим манифестом автора. Исследовательские результаты, полученные таким методом, следует оценить негативно. Приписка должна рассматриваться как типичный повествовательный источник…»{542} В итоге такого рассмотрения И. Граля пришел к заключению, что в основе приписки к Царственной книге, «толкующей о событиях марта 1553 г. вокруг наследования трона Дмитрием Ивановичем, лежал в высшей степени достоверный отчет, составленный хорошо информированным очевидцем, возможно, самим Висковатым»{543}. И. Граля сомневается лишь в одном — в информации «о действиях Сильвестра в пользу дома Старицких»{544}. Относительно же приписок к Синодальному списку и Царственной книге И. Граля говорит: «Мнима кажущаяся противоположность содержания интерполяций о заговоре Лобанова-Ростовского Синодального списка и данных Царственной книги, поскольку оба источника, как нам кажется, рассказывают о разных аспектах одного и того же события: Царственная книга описывает разногласия в Думе, лично известные царю и его советникам и, вне всякого сомнения, понятные в сложившейся ситуации; а Синодальный список содержит сведения об интригах сторонников Старицких, проявлением которых было выступление Турунтая-Пронского, но существование которых в виде заговора стало известно царскому окружению лишь в ходе следствия 1554 года»{545}. Совершенно иное отношение у И. Грали к свидетельствам Ивана Грозного о предательском поведении Алексея Адашева, представленным в переписке государя с Андреем Курбским: «Выдвинутое самим царем спустя много лет после рассматриваемых событий обвинение в предательстве и пособничестве Старицким носит черты пасквиля, составленного непосредственно для целей полемики с Курбским…»{546}. Противоречивое мнение о приписках к Царственной книге высказывает А. Л. Хорошкевич. С одной стороны, она говорит, что «достоверность приписок не может быть оспорена»{547}, а с другой — заявляет, будто «характер сообщений в приписках Царственной книги о болезни царя заставляет усомниться в том, насколько правдиво изложен ход событий»{548}. Подводя итог нашей краткой историографической справке о мартовских событиях 1553 года, необходимо сказать, что вопрос о достоверности источников, сообщающих о боярском «мятеже» в марте 1553 года, остается спорным, несмотря на более чем полувековые усилия историков разрешить его{549}. Несомненно лишь то, что не требует никаких доказательств: исторические сведения о мартовских 1553 года событиях дошли до нас преимущественно в форме приписок к Синодальному списку и Царственной книге, внесенных в летописи уже после этих событий. Все остальное — сплошные догадки и предположения, более или менее правдоподобные. Достаточно убедительным, например, является, на наш взгляд, определение времени появления интерполяций Синодального списка и Царственной книги, произведенное Д. Н. Альшицем, который, как мы знаем, датировал приписки к Синодальному списку примерно 1563 годом, а к Царственной книге — периодом между 1564 и 1570 гг. Принимая хронологические выкладки Д. Н. Альшица, никак нельзя согласиться с ним в том, что источники, повествующие о боярском «мятеже» 1553 года (приписки к Синодальному списку и Царственной книге, первое послание Грозного князю Курбскому), не сходны между собой, противоречат один другому и взаимно исключают друг друга{550}. По нашему убеждению, это не так. Названные источники согласуются между собой, дополняют друг друга, рисуя вместе вполне ясную картину произошедшего в марте 1553 года. Итак, как это было? Изучая политическую обстановку при московском дворе, сложившуюся к марту 1553 года, важно иметь в виду, что укрепление самодержавной и святительской власти, упрочение союза Царства и Церкви, усилившиеся после великой победы над Казанским ханством, пришлись сильно не по нраву придворной политической группировке, стремящейся к установлению в России ограниченной монархии. Минуло почти шесть лет с тех пор, как эта группировка, возглавляемая Сильвестром и Адашевым, пришла к власти, но ей так и не удалось радикальным образом изменить политический строй Русского государства посредством ликвидации «самодержавства» и установления на манер соседней Польши и Литвы боярской олигархии с номинальным монархом. Правда, Сильвестр и Адашев сумели все-таки сковать отчасти самодержавную власть Ивана IV, хотя до окончательного торжества над нею им было еще далеко. Главным препятствием на их пути к успеху был царь Иван — человек неукротимого нрава, большого ума и таланта, человек, уверовавший в свое особое предназначение заступника Отечества, хранителя истинного православия и «самодержавства», дарованного ему Богом. И вот первого марта 1553 года государь неожиданно и опасно занемог. Возникает вопрос: кому это было на руку? Конечно, это было на руку придворной партии Сильвестра — Адашева. Но обо всем по порядку. В Синодальном списке о болезни Ивана IV сказано нравоучительно, но кратко: «За многое наше неблагодарение и в то время прииде грех ради наших, посети немощь православнаго нашего царя, прииде огнь велий, сиречь огневая болезнь: и збысться на нас Евангельское слово: поразисте пастыря, разы дутся овца»{551}. Лапидарность приведенной летописной записи не соответствует тому, что нам известно о болезни царя, сопровождавшейся драматическими событиями, характеризуемыми в исторической литературе как династический кризис. Складывается впечатление, будто летописец крепко держал себя за язык, чтобы не наговорить лишнего. Как бы там ни было, в любом случае эта лапидарность симптоматична. Она указывает на нежелание летописца касаться подробностей, связанных с болезнью Ивана. Что скрывалось за этим нежеланием — самоконтроль летописателя или запрет свыше, — сказать трудно. Но следует отметить, что составитель записи все-таки оставил нам кое-какие намеки, воспользовавшись иносказательными средствами и евангельскими образами. Ключевой здесь является фраза «поразисте пастыря, разыдутся овца». Душная короткая фраза говорит о многом: о религиозных функциях царя (он пастырь, причем «пастырь добрый»{552}), о людских раздорах и смуте («разыдутся овца»), вызванных «немощью» царя, но самое главное — о том, что «поразить» государя — значит породить эти раздоры и смуту. Последняя мысль летописца звучит настолько многозначительно, что заставляет задуматься относительно настоящей причины болезни царя Ивана. И здесь открывается нечто любопытное. Летописец имеет в виду следующий евангельский текст: «Тогда глагола им Иисус: вси вы соблазнитеся о мне в нощь сию: писано бо: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада» (Матф., 26: 31). Нетрудно заметить, что летописец изменил лицо и время глагола поразить: вместо первого лица единственного числа будущего времени поражу он употребил второе лицо множественного числа прошедшего времени (аорист) поразисте. В результате изменился смысл евангельских слов: [вы] поразили пастыря. Получается так, что кто-то из царского окружения «поразил пастыря» — царя Ивана. Не означает ли это, по летописцу (автору основного текста Синодального списка!), что болезнь царя была рукотворной?. Столь же немногословен при рассказе о болезни царя и князь Курбский. В своей Истории он рассказывает, как царь, вернувшись из Казанского похода, «по двух месяцах или по трех разболелся зело тяжким огненным недугом так, иже никтоже уже ему жити надеялся. По немалых же днях, помалу оздравляти почал»{553}. И еще в июне 1553 года Иван «не зело оздравел»{554}. Немногословность Курбского понять легко: он не заинтересован был в пересказе подробностей, характеризующих поведение его друзей во время государевой болезни далеко не с лучшей стороны. Поэтому сообщение князя о заболевании царя имеет небольшую цену, за исключением одной детали, свидетельствующей о длительных последствиях болезни государя, что дает еще одно основание задуматься о причине этой болезни. С большей обстоятельностью повествуется о хвори государя и событиях вокруг нее в приписке к Царственной книге, где читаем: «В среду третия недели Поста, марта 1 дня, разболеся царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии, и бысть болезнь его тяжка зело, мало и людей знаяше, и тако бяше болен, яко многим чаяти: к концу приближися. Царя же и великого князя диак Иван Михайлов воспомяну государю о духовной; государь же повеле духовную съвершити, всегда бо бяше у государя сие готово. Съвершившивше же духовную, начата государю говорити о крестном целовании…»{555}. И вот тут-то все и началось. Но, прежде чем говорить об этом, несколько замечаний в связи с только что цитированным текстом. Обращает внимание точность автора приписки в обозначении времени начала болезни царя: среда третьей недели Великого поста действительно приходилась на первое марта{556}. О чем свидетельствует такая точность? Надо думать, о том, что автор приписки либо обладал необыкновенной памятью, легко воспроизводившей давние события, либо располагал какими-то записями об этих событиях. Однако в любом случае перед нами, по всей видимости, манера рассказчика, привыкшего к строгости передачи происшествий прошлого. Тем удивительнее, что он не говорит конкретно о болезни царя, характеризуя ее в общих словах как очень тяжкую, внушающую опасение за жизнь государя. В Синодальном списке и в Истории Курбского, как мы знаем, болезнь Ивана называется огневой, огненной. Кстати сказать, Андрей Курбский, описывая последние дни Алексея Адашева, сообщает, что тот «в недуг огненный впал»{557}, дав повод его недругам «возопити цареви: «Се твой изменник сам себе здал яд смертоносный и умре»{558}. Не означает ли это, что «огненный недуг» в своих проявлениях походил на отравление? В историографии высказывались разные мнения о болезни Ивана IV. Одни исследователи считали ее горячкой{559}, другие — лихорадкой{560}, а третьи — не более чем «душевным смятением», «психическим срывом»{561}. Последнее мнение следует, на наш взгляд, решительно отвергнуть как произвольное и абсолютно безосновательное{562}. Что касается двух первых, то в них есть предмет для обсуждения. Горячкой или же лихорадкой заболел царь — вот ближайший вопрос, на который нужно ответить. По объяснению В. И. Даля, горячка есть «общее воспаление крови в человеке или животном: жар, частое дыхание и бой сердца; огневица… У нас неясно различают слова горячка и лихорадка: обычно лихорадкой зовут небольшую и недлительную горячку… а горячкой — длительную и опасную…»{563}. Если учесть, что царь Иван, как свидетельствует князь Курбский, даже в июне еще «не зело оздравел», то признаки его болезни следует отнести к горячке, по словам В. И. Даля, длительной и опасной. Но эти же признаки (воспаление крови, жар, сердцебиение) могут указывать и на отравление. Тогда становится понятно, почему Грозный в составленной или продиктованной им приписке не называет конкретно своего заболевания, отмечая лишь тяжкий его характер. По-видимому, он был не согласен с официальной версией болезни, основанной, скорее всего, на диагнозе придворных лекарей, обычно иноземцев, готовых выполнить, как мы не раз убеждались ранее, любые «деликатные» поручения. Сам Иван нимало не сомневался в том, что его хотели «истребить»{564}, т. е. отправить на тот свет. И это — не фантом испуганного воображения, а суровая реальность, подтверждаемая рядом косвенных данных, приведенных нами выше. Болезнь царя, как явствует из приведенных сообщений Царственной книги, протекала очень тяжело. И все же нельзя бросаться в крайность, как это делают некоторые исследователи. А. Л. Хорошкевич, например, утверждает, будто Иван IV «смертельно занемог»{565}. Будь так, как говорит А. Л. Хорошкевич, царь непременно бы умер: на то она и смертельная болезнь{566}. Но, к счастью, он остался жив. «Серьезно захворал»{567}, «тяжело заболел»{568}, «серьезно заболел»{569} — так было бы сказать лучше и, разумеется, правильнее. К сожалению, А. Л. Хорошкевич в своих увлечениях не останавливается. Ее начинает настораживать «удивительная активность «умирающего», выразившаяся, в частности, в том, что «по совету Висковатого… он «совершил» духовную»{570}. Однако можно было и не настораживаться, поскольку государь не «совершил» духовную, а «повелел совершити духовную» ближним людям, и они ее «совершили». Конечно, все эти тревоги и волнения сами по себе не стоят того, чтобы заострять на них внимание. Но они призваны посеять сомнение в правдивости сведений, заключенных в приписке, и в этом отношении не безобидны. Ту же цель преследует и стремление истолковать летописную фразу «мало и людей знаяше» в смысле не узнавал людей{571}. Это — вольное толкование, не соответствующее точному значению словосочетания «мало знаяше» Оно, прежде всего, касается слова мало, которое несет в себе не полное отрицание, а лишь частичное. В языке той поры данное слово имело значения немного, едва, недостаточно{572}. Слово же знаяше связано со знати, которое означало: знать, иметь сведения, знания, представление о чем-л.; уметь что-л., быть обученным чему-л.; знать человека, быть знакомым с ним; отличать; признавать (признать); ведать, распоряжаться, владеть чем-л.; быть подведомственным кому-, чему-л.; иметь что-л{573}. Подбирая из представленных смысловых вариантов наиболее подходящие к выражению «мало знаяше людей», мы останавливаемся на едва к узнать (отличать). Следовательно, «мало знаяше людей» означало едва узнавал людей{574}. Царь, стало быть, в момент тяжелых приступов болезни хотя и едва, но все-таки узнавал находившихся у его постели. Говорить о том, что Иван бредил, приписка нас не уполномочивает{575}. И, наконец, еще об одной весьма любопытной, на наш взгляд, особенности начальной части приписки к Царственной книге, повествующей о болезни государя. Мы обращали внимание на удивительную точность ее автора в обозначении времени возникновения «немощи» Ивана. Но нельзя не заметить и другого: скрупулезного перечисления обстоятельств, создающих своеобразный и загадочный фон заболевания. Сюда относятся и Великий пост, и первое марта, и третий день недели среда, третья неделя Великого поста. Случаен ли этот набор знаковых обстоятельств или же за ним скрывается нечто такое, что придает событиям вокруг болезни первого православного царя символический смысл, а самой болезни — искусственный, т. е. рукотворный, характер. Разобраться в этой проблеме — задача будущих исследований. Но уже и сейчас кое-что более или менее понятно. Заболевание Ивана IV пришлось на Великий пост, что символично, поскольку этот сорокадневный пост установлен в ознаменование важнейших библейских событий: сорок дней и ночей лил дождь во время Всемирного потопа, сорок лет Моисей водил израильский народ по пустыне, сорок дней постились в пустыне пророк Илия и Христос. К сорокадневному сроку Великого поста присоединяется еще одна седмица в память о страданиях и смерти Спасителя{576}. Следовательно, случись смерть царя Ивана в Великий пост, она приобрела бы неординарное значение. Важную символическую роль играет среда, особенно в предпасхальный Великий пост. Именно в среду Иуда предал Христа, вследствие чего «среда сделалась напоминанием о предании Иисуса Христа на смерть, происшедшем в этот день»{577}. Кроме того, среда еще и третий по счету день недели. Если к этому прибавить третью неделю поста, упомянутую в приписке, то невольно закрадывается мысль о том, что число 3 в данном случае выделено особо. В древности это число называлось «мудростью, потому что люди организуют настоящее, предвидят будущее и используют опыт прошлого»{578}. Это священное число. «Священность триады… следует из того факта, что она делается из монады и дуады. Монада есть символ Божественного Отца, а дуада — Великой Матери. Триада, будучи сделана из них… символизирует тот факт, что Бог порождает Свои миры из Себя…»{579}. О том, чей это Бог, говорит отмеченное в приписке 1 марта, которое, по библейским понятиям, является началом творения мира и священного года у древних евреев{580}. Разумеется, сказанное нами не исчерпывает всей символики, запечатленной в приписке к Царственной книге. Вопрос лишь поставлен, но не разрешен. Целесообразность постановки данного вопроса подтвердит или опровергнет дальнейшее его изучение. Но и того, что сказано, достаточно, чтобы догадаться о рукотворном характере заболевания царя Ивана с предполагавшимся смертным исходом. Об искусственной природе болезни Ивана IV говорят, как думается, символические знаки, свидетельствующие о религиозно-политическом существе мартовских событий 1553 года. Их приоткрывшийся смысл указывает на религиозное сообщество, где находили применение эти знаки и откуда, следовательно, исходила смертельная опасность, угрожавшая русскому самодержцу. Это — приверженцы ереси, которые осели в Кремле с конца XV века и с тех пор гнездившиеся там, временами затихая, а при благоприятных обстоятельствах усиливая свою деятельность. Периоды благоприятствования для них наступали с появлением на самом верху государственной власти людей, покровительствующих им. Так было при великом князе Иване III, так случилось при великом князе Василии III, так произошло и при царе Иване IV, когда центром притяжения еретиков стал кремлевский двор Владимира Старицкого{581}, тесными узами связанного с попом Сильвестром и его придворной партией, активно поддержавшей претензии удельного князя на московский трон. Настал момент вновь вернуться в покои умирающего, как многим тогда казалось, царя. Надо полагать, что «совершение» духовной много времени не потребовало, так как «всегда бо бяше у государя сие готово». Сколько дней прошло с начала болезни Ивана 1 марта до составления духовной, сказать трудно{582}. Однако характер болезни Ивана IV (горячка), протекавшей, по-видимому, достаточно интенсивно, очень скоро мог внушить царскому окружению мысль, будто он умирает. Следовательно, речь идет, по всей видимости, о нескольких днях, во всяком случае, о недельном сроке, не более. Но если признать правомерным предположение об отравлении царя, то все это должно было произойти в считаные дни. И вот когда духовная была подготовлена, «начаша государю говорити о крестном целовании, чтобы князя Владимира Андреевича и бояр привести к целованию на царевичево княже-Дмитреево имя»{583}. Употребляемый здесь глагол прошедшего времени (аорист) 3-го лица множественного числа начата указывает на группу людей, находившихся при больном государе и заговоривших о необходимости привести к присяге Владимира Старицкого и бояр. Надо думать, то были «ближние люди», сохранявшие верность Ивану. Важно запомнить, что крестное целование поначалу замышлялось на «царевичево княже-Дмитреево имя», что и было проделано «ближними боярами» князем И. Ф. Мстиславским, князем В. И. Воротынским, И. В. Шереметевым, М. Я. Морозовым, князем Д. Ф. Палецким, боярином Д. Р. Юрьевым, боярином В. М. Юрьевым, а также посольским дьяком И. М. Висковытым. Тогда же целовали крест и думные дворяне А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков{584}. Не следует чересчур упрощать факт целования креста на верность царевичу Алексеем Адашевым, как это делает, например, Р. Г. Скрынников: «В письме Курбскому Грозный прямо приписал Алексею Адашеву намерение «извести» царевича Дмитрия. Однако из «Повести о мятеже», сочиненной самим царем, следует, что Алексей верноподданнически и без всяких оговорок целовал крест Дмитрию в первый день присяги»{585}. Из приписки следует лишь то, что Алексей Адашев действительно без оговорок (по С. В. Бахрушину, «беспрекословно»{586}) целовал крест Дмитрию после вышеназванных деятелей, проявив удивительную пассивность в чрезвычайной ситуации. Пассивность эта не только удивляет, но и настораживает, невольно заставляя задуматься над тем, а все ли здесь чисто{587}. Ведь еще С. М. Соловьев отмечал, что «всего более должны были поразить Иоанна бездействие, молчаливая присяга Алексея Адашева»{588}. Несомненно, впрочем, одно: целовал Адашев крест верноподданнически или же с затаенным чувством неприятия царского наследника, т. е. двоедушно, сказать, исходя из факта присяги, нельзя. Тем не менее, возможность подобной неискренности не исключена, что засвидетельствовал своим двурушничеством князь Д. Ф. Палецкий, который, как мы видели, присягнул вместе с другими «ближними боярами» Дмитрию, но тут же послал «ко княгине Офросинье и к сыну к ея ко князю Владимеру зятя своего Василия Петрова сына Борисова Бороздина» сказать, что он не «супротивен» тому, чтобы быть Старицким «на государстве», и готов им «служити»{589}. Уклонились от крестоцелования князь Д. И. Курлятев и казначей (тогда печатник{590}) Н. А. Фуников, сославшись на болезнь. Однако ходили слухи «про князя Дмитрея Курлятева да про Микиту Фуникова, будто они ссылалися с княгинею Офросиньею, с сыном ея с князем Владимером, а хотели его на государство, а царевичя князя Дмитрея для мледенчества на государство не хотели»{591}. Дмитрий Курлятев и Никита Фуников целовали крест, когда все улеглось и поле битвы, так сказать, осталось за царем Иваном. Если о действиях Д. Ф. Палецкого автор приписки к Царственной книге заявляет уверенно как о факте установленном, то о связи Курлятева и Фуникова со старицкими князьями он сообщает в предположительном тоне, замечая, что об этом поговаривали люди («глаголаху»). Перед нами лишнее подтверждение стремления составителя приписки к точности передачи событий, соответствующей времени их происшествия. Будь иначе, он едва ли бы придерживался подобного различия. Обозначив ненадежность князя Курлятева (пусть даже предполагаемую), автор приписки дает повод современному исследователю заподозрить в том же и Алексея Адашева, поскольку этот князь, как мы знаем со слов Ивана Грозного, являлся «единомысленником» Адашева и Сильвестра, введенным ими в «синклит» при государе{592}. Понятно, почему С. М. Соловьев называл Дмитрия Курлятева «самым приближенным к Сильвестру и Адашеву человеком»{593}, а С. В. Бахрушин — «приятелем» Алексея Адашева, «ближайшим сотрудником Адашева и Сильвестра»{594}. И тот факт, что Курлятева ввели в государев «синклит» Адашев и Сильвестр, а не наоборот, не оставляет сомнений насчет того, кто кем управлял и кто кого направлял. Ведущая роль здесь Сильвестра и Адашева очевидна. Во время болезни Ивана замысел государственного переворота, вынашиваемый противниками «Святорусского царства», обозначился со всей определенностью: «А в то же время князь Володимер Андреевич и мати его събрали своих детей боярских, да учали им давати жалование денги…»{595}. В. В. Шапошник усматривает в поведении старицких правителей «стремление заручиться поддержкой военной силы в случае каких-либо осложнений»{596}. Однако данное короткое известие содержит более емкую информацию, чем ему представляется. Судя по всему, старицкие правители собрали детей боярских в своем кремлевском дворе. Дело это не простое, поскольку служилые люди, как тогда выражались, «сидели по домам» или находились в служебных посылках{597}. Значит, о сборе их нужно было специально оповещать, для чего требовалось, по крайней мере, несколько дней. Возможно, однако, что оповещение и сбор детей боярских состоялись накануне мартовских событий 1553 года. Если согласиться с первым заключением, надо будет признать, что болезнь царя сразу же побудила Старицких и придворную «фронду» к активным действиям по захвату московского трона. Без предварительного сговора между ними, квалифицируемого как антигосударственный заговор{598}, это представить, на наш взгляд, невозможно{599}. Еще более укрепляет мысль о заговоре догадка, согласно которой оповещение о сборе в Москве детей боярских старицкого князя имело место до болезни государя. Но тогда окажется, что об этой болезни и времени ее возникновения Владимир и Ефросинья Старицкие знали наперед и потому заранее собрали своих детей боярских у себя на кремлевском дворе, где держали их наготове. Опасность скопления в Кремле служилых людей соперника царь Иван осознал в ходе мартовского «мятежа», вследствие чего в крестоцеловальную грамоту старицкого князя Владимира на имя государя и его новорожденного сына Ивана (май 1554 г.) было внесено обязательство: «А жити ми (Владимиру. — И.Ф.) на Москве в своем дворе; а держати ми у себя своих людей всяких сто восмь человек, а боле ми того людей у себя во дворе не держати; а опричь ми того служилых своих всех держати в своей отчине»{600}. Признав заблаговременный сбор служилых людей старицких правителей в их кремлевском дворе, мы снова упираемся в догадку об искусственном происхождения заболевания царя, предполагающую отравление. Однако при любом раскладе событий ясно видна конечная цель Старицких и споспешествующей им придворной группировки — захват высшей власти{601}. Особенно наглядно это демонстрирует выдача князем Владимиром и княгиней Ефросиньей денег детям боярским. По заведенному в ту пору порядку жалование служилым людям, в первую очередь деньгами, выдавалось перед военным походом. Поэтому раздача денег детям боярским, находящимся на службе у старицких князей, означало лишь одно: приготовление к вооруженному выступлению против царя Ивана и его наследника Дмитрия{602}. Следует согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он говорит: «Судя по некоторым их (Старицких. — И.Ф.) действиям, они подготавливали дворцовый переворот. В дни кризиса Старицкие вызвали в Москву удельные войска и стали демонстративно раздавать им жалование»{603}. Бояре, верные государю, не заблуждались на сей счет ни на минуту: «И бояр о том (о жаловании деньгами детей боярских. — И.Ф.) князю Володимеру учали говорити, что мати его и он так не гораздо делает: государь недомогает, а он людей своих жалует»{604}. Владимир и Ефросинья, уверенные, вероятно, в своей силе, «почали на бояр велми негодовати и кручинится». Но бояре не растерялись и «начата от них беречися и князя Володимера Ондреевича ко государю часто не почали пущати»{605}. Сторонники царя, следовательно, проявили твердость и прекратили доступ удельного князя к больному, не без основания усматривая опасность для него такого рода посещений. Следовательно, скрытое противостояние противников и сторонников Ивана IV превратилось в конфликт, еще не вооруженный, но открытый. И вот в этот конфликт, свидетельствующий о накале страстей при дворе, вмешивается политический, так сказать, «тяжеловес» поп Сильвестр, причем на стороне старицких властителей: «Сей убо тогда начат бояром въспрещати, глаголя: «про что вы ко государю князя Володимера не пущаете? Брат вас, бояр, государю доброхотнее». Бояре же глаголаша ему: на чем они государю и сыну его царевичю князю Дмитрею дали правду, по тому и делают, как бы их государству было крепче. И оттоле бысть вражда межи бояр и Селиверстом и его советники»{606}. Некоторые историки недооценивают факт вмешательства Сильвестра в придворную борьбу вокруг московского престола. К примеру, С. Б. Веселовский утверждал, будто Сильвестр «не принимал никакого участия в суматохе о присяге»{607}, будто он «по неизвестным нам причинам стоял в стороне от боярских распрей по поводу присяги», а значит, «нет оснований считать его сторонником «воцарения» кн. Владимира», и если благовещенский поп все-таки «выступил в конце концов на защиту старицких князей, то только потому, что хотел предотвратить расправу бояр с ними, которая могла вызвать тяжелые последствия не только для царя, но и для всего государства»{608}. По мнению И. Грали, «активность Сильвестра проявилась только в том, что он обратил внимание бояр на предосудительность недопущения Владимира Андреевича к умирающему царю»{609}. Вместе с тем исследователь указывает на то, что Сильвестр вступил в тайные отношения с Владимиром Старицким, обещая поддержать его кандидатуру на московский престол{610}. Следовательно, «активность Сильвестра проявилась» еще и в тайной сфере, причем преимущественно именно в тайной сфере. Стало быть, деятельность Сильвестра обнаруживается не только в том, «что он обратил внимание бояр на предосудительность недопущения Владимира Андреевича к умирающему князю». Однако выявить ее детально нет возможности, поскольку она (как, впрочем, и вся деятельность Сильвестра{611}) покрыта тайной. Можно лишь говорить об общем ее характере как направленной против воли царя и в пользу удельного князя. Тем не менее, даже краткие сведения о поведении Сильвестра во время царской болезни, содержащиеся в приписке к Царственной книге, позволяют составить относительно ясное представление о его роли в политической борьбе той поры. И что тут интересно, так это то, что рядовой, казалось бы, священник вторгается в дела огромной, можно сказать, судьбоносной государственной важности и позволяет себе перечить представителям княжеско-боярской знати, укоряя их за недостойный, как ему мнится, поступок{612}. Больше того, Сильвестр, если строго следовать летописной записи, «начат бояром въспрещати», т. е. препятствовать, мешать им{613}. Что это: беспредельная наглость или же уверенность в собственном могуществе и в конечном успехе затеянного предприятия? Скорее всего, — второе{614}. Получив неожиданный для себя отпор, Сильвестр озлобился. «И оттоле бысть вражда межи бояр и Селиверстом и его советники», — читаем у летописца. Вполне понятен политический апломб благовещенского попика: за ним стояли организованные «советники», единомышленники, т. е. придворная партия, которую И. И. Смирнов справедливо назвал «группировкой Сильвестра и Адашева»{615}. И. И. Смирнов так охарактеризовал позицию Сильвестра в мятежные дни марта 1553 года: «Сильвестр открыто вмешивался в борьбу между сторонниками царя и группировкой Старицких, пытаясь помешать принятию предупредительных мер против Владимира Старицкого, предпринимавшихся верными царю боярами, и демонстративно заявляя, что Владимир Старицкий «вас, бояр, государю доброхотнее». Такая позиция вела к острому конфликту между ним и верными Ивану Грозному боярами…»{616}. Надо полагать, Сильвестр, скрывающий свои истинные планы, не стал бы обнаруживать себя и не пошел бы на открытый конфликт с боярами, не случись чрезвычайное, по-видимому, непредугаданное заговорщиками обстоятельство: прямой и резкий разговор приверженцев московского самодержца с Владимиром Старицким и последующее запрещение ему посещать больного государя. Это было для «группировки Сильвестра и Адашева» серьезным предзнаменованием провала задуманного государственного переворота. Сильвестр встревожился и поспешил спасать положение, считая, вероятно, что сумеет своим вмешательством поправить дело. Но, «увы ему», он ошибся и проиграл, встретив решительную отповедь бояр, сохранявших верность присяге и долгу. Для современного наблюдателя, занятого рассмотрением мартовских событий 1553 года, безрезультатность попыток Сильвестра и Владимира Старицкого развить начатую акцию по захвату власти означает, бесспорно, некоторое изменение соотношения сил в пользу сторонников Ивана IV. Это изменение, впрочем, было обусловлено не столько военно-политическими обстоятельствами, сколько психологическими мотивами, связанными непосредственно с больным государем. Несмотря на смертельную, казалось, болезнь, царь все-таки оставался жив, что обнадеживало его сторонников и приводило в замешательство противников. И чем дальше, тем больше это настроение усиливалось. После очевидного провала Владимира Старицкого и Сильвестра становилось ясно, что заговор срывается, и заговорщикам следовало бы остановиться и дать ход назад. Но они, чрезмерно уверовав в успех, продолжали свою уже бесперспективную игру, нагнетая обстановку в Кремле. Между тем, Иван призвал «бояр своих всех и начал им говорити, чтобы они целовали крест к сыну его царевичю ко князю Дмитрею, а целовали бы в Передней избе, понеже государь изнемога же велми, и ему при себе их приводити к целованию истомно…»{617}. Быть при целовании царь поручил ближним своим боярам князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и князю Владимиру Ивановичу Воротынскому «съ товарищи». Но тут заупрямился боярин и князь Иван Михайлович Шуйский, который «учал противу государевых речей говорити, что им не перед государем целовати не мочно: перед кем им целовати, коли государя тут нет?»{618}. Выходка И. М. Шуйского не осталась не замеченной историками. С. В. Бахрушин, касаясь ее, замечал: «Князь Иван Михайлович Шуйский отказался целовать крест (присягать) на том основании, что «государя тут нет»{619}. Более обстоятельно характеризовал поведение крамольного князя И. И. Смирнов, по мнению которого И. М. Шуйский «открыто выступил против царя, заявив об отказе целовать крест на имя Дмитрия»{620}. При этом князь, полагает исследователь, «обусловил свой отказ чисто формальными мотивами: «что им не перед государем целовати не мочно: перед кем им целовати, коли государя тут нет». Но значение выступления кн. И. М. Шуйского определялось не характером его аргументации (искусственность которой была очевидна), а самим фактом того, что в его лице против царя выступал виднейший представитель княжат, глава наиболее мощной боярской группировки, державшей власть в годы боярского правления»{621}. А. А. Зимин увидел в поступке Шуйского невинное, можно сказать, желание уклониться от присяги царевичу Дмитрию{622}. По мнению Р. Г. Скрынникова, перед началом церемонии крестоцелования наследнику «боярин князь И. М. Шуйский с полным основанием протестовал против нарушения традиций, принесения присяги в отсутствие царя… Протест старшего из бояр носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу. Причиной недовольства Шуйского и других старейших бояр было то обстоятельство, что руководить церемонией присяги было поручено не им, а молодым боярам князьям И. Ф. Мстиславскому и В. И. Воротынскому»{623}. В книге «Царство террора» Р. П. Скрынников рисовал похожую картину{624}. Однако в других изданиях, посвященных, например, Ивану Грозному как деятелю русской истории, встречаются противоречивые и даже взаимоисключающие суждения. В одном случае Р. Г. Скрынников пишет: «Перед началом церемонии (присяги Дмитрию. — И.Ф.) боярин князь Иван Шуйский заявил, что крест следует целовать в присутствии царя, но его протест вовсе не означал отказа от присяги по существу. Причиной недовольства старейшего боярина было то, что руководить церемонией поручили не ему, а молодому боярину Воротынскому»{625}. В новом варианте книги об Иване Грозном автор говорит: «Торжественное начало (церемонии присяги царевичу. — И.Ф.) омрачилось тем, что старший боярин отказался от присяги… Протест Шуйского носил формальный характер. Руководить присягой мог либо сам царь, либо старшие бояре. Вместо этого церемония была поручена Воротынскому»{626}. В результате получается какая-то запутанная комбинация: Иван Шуйский то отказывается от присяги, то протестует, а если отказывается, то по формальным соображениям, а не по существу. Что означает все это, приходится лишь догадываться. Согласно И. Грале, поведение И. М. Шуйского не имело крамольного смысла. «Кульминация кризиса, — говорит он, — наступила 12 марта, когда царь потребовал присяги от всех членов Боярской думы. По его поручению присягу принимали члены Ближней думы во главе с князьями Мстиславским и Воротынским. Этому воспротивился предводитель Думы князь Иван Михайлович Шуйский, заявивший, что крест следует целовать только в присутствии царя»{627}. Далее И. Граля замечает: «Нежелание князя Ивана Михайловича Шуйского принимать присягу в отсутствие царя обычно трактовалось как отказ от декларации верности царевичу, прикрытый надуманной причиной, а также как проявление отрицательного отношения к наследнику представителей знатных княжеских родов, особенно могущественного рода ростово-суздальских князей»{628}. И. Граля думает иначе: «Но есть основания для того, чтобы трактовать слова Шуйского дословно — как проявление ущемленной гордости Рюриковича и представителя Думы, поскольку представлять царя было поручено не ему, а Мстиславскому и Воротынскому, людям менее знатного происхождения, что он расценивал как покушение на положение своего рода. Слова Шуйского не совпадают с высказываниями противников наследника, приведенными в записи, а в его дальнейшей карьере нет и малейшего следа царской немилости»{629}. Здесь И. Граля близок к точке зрения Р. Г. Скрынникова. В том же духе рассуждает А. Л. Хорошкевич. По ее словам, заявление И. М. Шуйского «было следствием ущемленной гордости Рюриковича и представителя Думы, которому не поручили ответственное и почетное дело (так полагает И. Граля{630}), поставив тем самым даже ниже думных дворян (Адашева и Вешнякова), присягавших непосредственно самому царю»{631}. Наконец, в исторической литературе высказывалось сомнение относительно того, имел ли место вообще эпизод с Шуйским, запечатленный в приписке к Царственной книге. «Поскольку данная приписка, — рассуждал Г. В. Абрамович, — сделана более чем через 10 лет после 1553 г., уже в период опричнины, ей нельзя придавать серьезного значения»{632}. Подтверждение своей мысли Г. В. Абрамович находил в благожелательном отношении Грозного к И. М. Шуйскому после 1553 года: «Отправляясь в 1555 г. в Коломенский поход, Иван IV оставляет в Москве в качестве советников при слабоумном брате царя Юрии, которому формально было поручено управление столицей в отсутствие царя, именно И. М и Ф. И. Шуйских»{633}. Метод, применяемый Г. В. Абрамовичем для определения достоверности источника, нам представляется сомнительным, ибо сам по себе факт появления письменных сведений о тех или иных событиях позже этих событий не может служить критерием их доброкачественности. Больше того, нередко бывает так, что подлинный смысл произошедшего познается лишь по истечении времени, причем длительного времени. Что касается решения царя, оставившего Ивана Шуйского советником при брате Юрии на время своего Коломенского похода в 1555 году, то оно не может быть истолковано как свидетельство, исключающее неповиновение князя Шуйского государю, проявленное им в марте 1553 года. Г. В. Абрамович прибегает к порочному, на наш взгляд, доводу: коль Грозный положительно относился к И. М. Шуйскому после 1553 года, поручив ему быть советником при брате Юрии Васильевиче в 1555 году, — значит, не было и непокорства князя, когда возникла необходимость присяги на имя царевича Дмитрия. В том-то и дело, что имело место и непокорство, и почетное поручение. Почему так вышло, скажем ниже. А сейчас вернемся в Переднюю избу, где разыгралась настоящая драма. С. В. Бахрушин и И. И. Смирнов, думается нам, правы: Иван Шуйский отказался целовать крест наследнику престола. Но сделал он это под внешне благовидным предлогом: «не перед государем целовати не мочно». С формальной точки зрения Шуйский имел основания поступить подобным образом. Однако то была формальность, которая переходила в существо вопроса: присягать или не присягать. Иван Шуйский избрал второе. Поэтому не следует, на наш взгляд, рассуждать так, будто протест Шуйского «носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу». Перед нами та формальность, о которой говорят: по форме правильно, а по существу издевательство. Свой отказ от присяги по существу И. М. Шуйский завуалировал формальной причиной. Целовать крест царевичу Дмитрию князь, как видно, не хотел и потому свел всю проблему к отсутствию государя на церемонии присяги. Он ведь ничего не сказал насчет замены молодых бояр, руководивших присягой, боярами старшими{634}, поскольку понимал, что произвести такую замену проще и легче, чем вынудить изнемогающего от хвори государя быть при утомительной процедуре крестоцелования. И тогда присяга могла бы состояться. А этого-то заговорщикам и не хотелось. Вот почему Шуйский сосредоточил внимание на царе Иване, требуя его присутствия на крестоцеловальной церемонии, открыто проявив тем самым несогласие с государем, т. е. неповиновение ему. Недаром автор приписки заметил, что Шуйский «учал противу государевых речей говорити». Это был хорошо рассчитанный беспроигрышный маневр. В самом деле, если бы царь отсутствовал во время присяги, ее можно было бы попытаться сорвать, что, собственно, Шуйский и затеял; а если бы крестоцелование проходило в присутствии государя, на чем настаивал титулованный оратор, то эта уступка обнаружила бы слабость Ивана IV перед боярами, побудив их к новому самовольству. Однако в любом случае открытое неповиновение столь знатной персоны распоряжениям Грозного создавало атмосферу вседозволенности. Ситуация усугублялась для царя Ивана тем, что И. М. Шуйский говорил не от себя лично, а от лица «всех бояр» (за исключением, разумеется, ближних), или Боярской Думы, о чем свидетельствует летописная фразеология: «им целовати не мочно»; «перед кем им целовати». Правда, можно подумать, что местоимение «им» обозначает представителей рода Шуйских — членов Боярской Думы. Но это было бы так, если бы Иван Шуйский возражал непосредственно против церемонии присяги, руководимой Иваном Мстиславским и Владимиром Воротынским. Он же был озабочен не частным случаем, а общим правилом порядка крестоцелования наследнику престола, предусматривающим присутствие государя на церемонии присяги, т. е. правила, затрагивающего интересы всей Боярской Думы. Вот почему акция Ивана Шуйского (на это, кстати сказать, не обращалось должного внимания в историографии) была не индивидуальной или узкоклановой, а коллективной, за которой стояла Боярская Дума, во всяком случае, ее большинство, кроме, разумеется, Ближней Думы, которая, как мы видели на примере князя Дмитрия Палецкого, князя Дмитрия Курлятева, Никиты Фуникова и тщательно скрывавшего свои замыслы Алексея Адашева, не была, однако, монолитной. Заявление И. М. Шуйского послужило сигналом для других. Вслед за ним (видимо, по заготовленному сценарию) выступил окольничий Ф. Г. Адашев, который молвил: «Ведает Бог даты, государь: тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем, а Захарьиным нам Данилу с братнею не служивати; сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нами Захарьиным Данилу з братиею; а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многий». Выслушав старшего Адашева, «царь и великий князь им молыл. И бысть мятеж велик и шум и речи многия въ всех боярах, а не хотят пеленичнику служити»{635}. Как понять Адашева-отца? Еще в досоветской историографии высказывались мнения о том, что Федор Адашев оказал явное сопротивление присяге царевичу Дмитрию{636}, что он смело отказался присягать наследнику{637}, не желая воцарения Дмитрия{638}. Аналогичные суждения встречаем и в советской исторической литературе. Отец А. Адашева, согласно С. В. Бахрушину, открыто и категорически отказался присягать Дмитрию{639}. Столь же определенно охарактеризовал поступок Ф. Г. Адашева и другой знаток истории России XVI века, И. И. Смирнов, по словам которого тот «не только отказался целовать крест на имя царевича Дмитрия, но и открыто выступил против Захарьиных»{640}. И. И. Смирнов пришел к важному заключению о том, что характер позиции Алексея Адашева «в борьбе вокруг кандидатуры преемника Ивана Грозного определял не этот формальный акт, а поведение его отца, окольничего Ф. Г. Адашева»{641}. О сопротивлении Ф. Г. Адашева присяге царевичу писал Б. Н. Флоря{642}. Другие современные историки пытались смягчить заявление Ф. Г. Адашева, придав ему хотя бы отчасти позитивный смысл. Так, А. А. Зимин полагал, будто «Ф. Г. Адашев согласился принести присягу царю и Дмитрию, но при этом сделал оговорку…»{643}. В другой раз А. А. Зимин, разгорячившись, видно, в полемике с И. И. Смирновым, высказался еще решительнее, заявив, будто Ф. Г. Адашев «присягнул Дмитрию, но опасался повторения тех же боярских распрей при малолетнем царевиче, какие были в «несовершенные лета» Ивана IV»{644}. По В. Б. Кобрину, «отец Алексея Адашева боярин Федор Григорьевич, согласно официальной летописи, говорил царю, что хотя он и поцеловал крест царевичу Дмитрию, но все же испытывает сомнения…»{645}. В исторической науке обозначилась также тенденция представить Ф. Г. Адашева всецело лояльным по отношению к царю Ивану и, таким образом, снять с него вину за «мятеж», возникший в Боярской Думе. Так, по С. Б. Веселовскому, смысл «заявления Федора Адашева ясен: он не склонялся на сторону кн. Владимира, а указывал царю на необходимость назначить таких авторитетных регентов, которые были бы в состоянии предотвратить боярское своеволие в правление недостаточно авторитетных Захарьиных»{646}. С. Б. Веселовский подменяет факты, содержащиеся в данной части интерполяции, своей трактовкой этих фактов, украшенной догадками ученого. Приписка сообщает о том, что Федор Адашев, выражая согласие целовать крест царю Ивану и царевичу Дмитрию, заявил об отказе служить Захарьиным, что могло статься, если целовать крест наследнику и в случае смерти государя. Старший Адашев напомнил Ивану о бедах времен его несовершеннолетия. Как видим, это не совсем то, о чем говорит С. Б. Веселовский. Наиболее заметным проводником идеи лояльности Ф. Г. Адашева Ивану IV является Р. Г. Скрынников. Сопоставление его работ, написанных в разное время, наглядно показывает, как усиливалась эта тенденция. В книге «Начало опричнины», появившейся в 1966 году, читаем: «В день присяги 12 марта 1553 г. окольничий Ф. Г. Адашев заявил, что целует крест царю и его сыну, а «Захарьиным нам Данилу з братиею не служивати: сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нам Захарьиным Данилу з братиею, а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многия». Заявление Ф.ГАдашева не имело ничего общего с поддержкой Старицких»{647}. Р. Г. Скрынников прямо не говорит, но из цитированных слов следует, что Ф. Г. Адашев не отказывался целовать крест царевичу, как и его сын Алексей, который «присягнул наследнику без всяких оговорок»{648}. Различие между отцом и сыном, стало быть, состояло в том, что первый сопроводил свою готовность присягнуть наследнику определенными условиями, а второй принес присягу без каких бы то ни было условий. Несмотря на спорность подобной трактовки, она все-таки ближе к летописному тексту, чем последующие аналогичные опыты автора. Однако уже здесь историк допускает неточность, с виду несущественную, но по сути важную. У Р. Г. Скрынникова окольничий Ф. Г. Адашев заявляет, что целует крест царю и его сыну, тогда как в источнике сказано: «тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». Кому-нибудь это покажется мелочью. Но эта «мелочь» меняет ситуацию, высвечивая своеобразную роль старшего Адашева в событиях 1553 года, о чем скажем чуть ниже. К сожалению, такого рода неточности будут возобновляться в последующих работах Р. Г. Скрынникова. Так, в книге 1975 года об Иване Грозном говорится: «Близкий к царю Федор Адашев заявил, что целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями. «Мы уже от бояр до твоего (царя) возрасту беды видели многие», — заявил он при этом. Таким образом, Адашев вслух выразил разделявшуюся многими тревогу по поводу опасности возврата к боярскому правлению»{649}. Как видим, исследователь повторяет здесь допущенную ранее неточность, пользуясь словом целует (единственное число) вместо фигурирующего в летописи слова целуем (множественное число){650}. Мало того, он усугубляет эту неточность, привнося в летописный рассказ свои вымыслы. Согласно летописцу, Федор Адашев вел речь о целовании креста государю и его наследнику, а не одному наследнику, как получается у Р. Г. Скрынникова. Присягать царю с наследником или только наследнику — вещи разные. И не замечать этого — значит, не до конца понимать суть происходившего в царском дворце. Р. Г. Скрынников приписал Ф. Г. Адашеву совершенно нелепое заявление о том, что он «целует крест наследнику, а не Даниле Захарьину с братьями», поскольку в данном случае Данило с братьями абсолютно неуместен: никто не предлагал, не мог предлагать Адашеву или кому бы то ни было целовать крест Даниле с братьями{651}. Подобная неряшливость изложения событий противопоказана ученому. И очень жаль, что она прокралась в позднейшие труды историка. В книге «Царство террора» (1992) он говорит: «Выступив после Шуйского, окольничий Ф. Г. Адашев обратился к думе со следующим заявлением: «Ведает Бог да ты, государь: тебе, государю, и сыну твоему царевичю Дмитрею крест целуем [и дальше по тексту]». Протест Ф. Г. Адашева дал повод для инсинуаций. В письме Курбскому Грозный прямо приписал Алексею Адашеву намерение «извести» царевича Дмитрия»{652}. Все это — наветы, считает Р. Г. Скрынников: «Отец А. Адашева недвусмысленно высказался за присягу законному наследнику, но при этом выразил неодобрение по поводу регентства Захарьиных»{653}. Федор Адашев обратился не к Думе, как утверждает Р. Г. Скрынников, а к царю, что с очевидностью явствует из цитированного самим же исследователем летописного текста. Опять-таки следует заметить, что Ф. Г. Адашев выразил согласие присягать государю и его сыну, а не одному наследнику престола. Несколько идеализирует Ф. Г. Адашева и И. Граля. «Окольничий Федор Адашев, — говорит он, — выразил опасение, что присяга на верность царевичу может усилить власть его дядьев Захарьиных»{654}. И. Граля считает необоснованной интерпретацию заявления Федора Адашева «как протеста против царской воли и доказательства участия его сына Алексея в заговоре против наследника Дмитрия. Содержание заявления не дает оснований для таких выводов. На самом же деле Адашев, говоря, как можно думать, от имени группы лиц, представителей незнатных родов, выразил свою и их готовность к присяге наследнику трона, но высказал при этом опасение по поводу регентства Захарьиных. Он сослался на недобрый прецедент боярского правления в период несовершеннолетия самого Ивана»{655}. И. Граля, как и Р. Г. Скрынников, допускает неточность, заявляя о готовности Федора Адашева присягнуть наследнику трона, тогда как в летописи говорится о его готовности целовать крест Ивану и Дмитрию в связке. Не избежал аналогичной неточности и В. В. Шапошник: «Окольничий Федор Григорьевич Адашев (отец Алексея) сказал о том, что было, вероятно, на уме у многих, — они целуют крест именно Дмитрию, а не Захарьиным»{656}. Ничего такого Ф. Г. Адашев, как мы знаем, не говорил. Во избежание подобных недоразумений следует внимательно относиться к летописному тексту. Версию, придающую безобидный характер (по отношению к царю) речи Федора Адашева в Передней избе, развивает А. И. Филюшкин: «В марте 1553 г., согласно приписке к Царственной книге, Ф. Г. Адашев активно выступал против регентства Захарьиных во время споров, проходивших во время принесения присяги царевичу Дмитрию. Фактически это должно было бы означать «бунт» против предсмертного желания царя. Однако этот факт (если он, конечно, имел место) никакого отрицательного влияния на карьеру Федора Григорьевича не оказал. Уже через месяц (в мае — июне) он получил боярство»{657}. Следовательно, «должно было бы означать», но не означило. В дискуссии исследователей о том, соглашался или не соглашался Федор Адашев целовать крест царевичу Дмитрию, мы принимаем сторону тех, кто говорил об отказе Адашева присягать наследнику. При этом считаем необходимым привести некоторые дополнительные соображения по поводу действий Ф.Г.Адашева в тот памятный мартовский день 1553 года. На наш взгляд, выступления боярина князя Ивана Шуйского и окольничего Федора Адашева не были стихийными и разрозненными, а являлись заранее предусмотренной единой акцией неповиновения государю, переходящей (будь она успешна) в захват высшей власти. Весьма красноречив в данном отношении тот факт, что Адашев, как и Шуйский, говорил не от собственного имени, а от лица «всех бояр», т. е. Боярской Думы (или большинства ее), о чем свидетельствуют употребляемые им выражения: «крест целуем»; «нам не служити»; «владети нами»; «мы уже от бояр видели беды многие». Но такого рода выступление требует предварительной согласованности, договоренности, сговора, что вполне соответствует заговору. Довольно любопытна и формула присяги, предложенная Федором Адашевым: «тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». Стало быть, Адашев изъявил согласие (свое и Думы) присягнуть одновременно государю и наследнику, тогда как царь Иван хотел привести бояр «к целованию на царевичево княже-Дмитреево имя»{658} и потому «начал им говорити, чтобы они целовали крест к сыну его царевичю Дмитрею»{659}. Со стороны Ф. Г. Адашева и его единомышленников то была хитрость, уловка: строптивцы вроде бы не отступали от Ивана, но, умри царь (а на это они очень надеялись), присяга утратила бы силу, и тогда можно было бы распорядиться московским троном по-своему. К этому надо добавить, что поведение Адашева-отца не может рассматриваться вне связи с позицией Адашева-сына в борьбе вокруг кандидатуры преемника Ивана IV, поскольку здесь очевидна их взаимозависимость{660}. Таким образом, выступления Ивана Шуйского и Федора Адашева преследовали одну конечную цель: воспрепятствовать целованию креста на имя царевича Дмитрия. Открытое неповиновение царю двух влиятельных деятелей (один был «принцем крови», а другой — отцом всесильного временщика) возбудило страсти: «И бысть мятеж велик и шум и речи многия въ всех боярех, а не хотят пеленичнику служити»{661}. Значит, Боярская Дума (или ее большая часть{662}), солидарная со своими лидерами, отказалась присягать царевичу Дмитрию, проявив явное непослушание государю, что было равносильно бунту, хотя и, так сказать, тихому, пассивному, т. е. не сопровождавшемуся насилием{663}. Едва ли поэтому прав А. А. Зимин, когда говорит, что «события 1553 г. не были ни боярским мятежом, ни заговором. Царственная книга сообщает лишь о толках в Боярской думе»{664}. Нельзя согласиться и с Р. Г. Скрынниковым, по словам которого «ближайшее рассмотрение обнаруживает ряд противоречий в летописном рассказе. Утверждение насчет мятежа в Думе автор летописи не смог подтвердить ни одним конкретным фактом. Во-первых, он не мог назвать ни одного члена Думы, который бы отказался от присяги наследнику. Во-вторых, из его собственного рассказа с полной очевидностью следует, что прения в Боярской думе в день присяги носили вполне благонамеренный характер»{665}. Мысль о благонамеренности, царившей якобы «в Боярской думе в день присяги», опрокинул позже сам Р. Г. Скрынников, заявив, что «фактически дело шло к государственному перевороту»{666}. Здесь исследователь сближается с И. И. Смирновым, который в свое время писал: «Боярский «мятеж», вспыхнувший в марте 1553 г., явился одной из первых попыток враждебных Ивану IV княжеско-боярских кругов открыто выступить против политики царя и захватить власть в свои руки»{667}. Мятежники, по И. И. Смирнову, стремились осуществить переворот в пользу Владимира Старицкого{668}. Принимая мысль И. И. Смирнова о мартовском «мятеже» 1553 года как попытке государственного переворота и захвата власти с возведением на московский престол князя Старицкого, нельзя, однако, согласиться с ним в том, что этот «мятеж» был поднят одной лишь княжеско-боярской знатью, тоскующей по прошлым сеньориальным вольностям. Д. Н. Альшицу удалось убедительно доказать, что разделение участников мартовских событий 1553 года «не совпадает с их разделением по социальному происхождению, по занимаемому общественному положению. Поэтому всякое распределение их по графам той или иной предвзятой схемы является искусственным, противоречащим источнику и навязывающим автору рассказа (о событиях марта 1553 года. — И.Ф.) то, чего он не хотел сказать. Автор приписки делит героев своего рассказа на две, и только на две группы: на тех, кто оставался верен царю, и на тех, кто оказался враждебным ему и его роду, проявив свою измену в той или иной форме. Как в ту, так и в другую группу совершенно одинаково попадают родовитые князья и бояре наряду с дворянами весьма незнатного рода»{669}. Все это создавало для царя Ивана более опасную, чем сословный мятеж, ситуацию, поскольку втягивало в политическую борьбу представителей различных групп господствующего класса, расширяя тем самым социальную базу противников самодержца. О том, насколько высокой была степень опасности, с которой столкнулся Иван IV в марте 1553 года, свидетельствуют не только военные приготовления Старицких, дерзкое неповиновение государю Боярской Думы и смешанный сословный состав «мятежников», но и загадочное отсутствие митрополита Макария на протяжении всей истории кремлевских потрясений. Историки обратили внимание на это странное, прямо скажем, выходящее из ряда вон обстоятельство и попытались уяснить, почему так случилось. Мнения, естественно, звучали разные. С. Б. Веселовский говорил: «Отсутствие царского духовника и митрополита Макария при написании духовной можно было бы объяснить крайней поспешностью действий и болезненным состоянием царя, но, к удивлению, и в последующие дни мы не видим этих обычных участников предсмертных дум и действий московских государей. По церковным правилам приводить ко кресту мог только священник. В частном обиходе можно было подкреплять свое слово целованием креста, иконы и какой-либо «святости». Так, например, поступали заговорщики и крамольники, чтобы не выносить, что называется, сора из избы приглашением священника, но присяга наследнику престола без участия духовенства была совсем необычным актом»{670}. По С. Б. Веселовскому, «больной царь и его ближайшие советники» отстранили от участия в мартовских событиях 1553 года «всеми уважаемого митрополита Макария»{671}. Согласно С. В. Бахрушину, митрополит Макарий, «отнюдь не боец, человек уступчивый, всегда терпеливо сносивший, когда в пылу борьбы та или иная сторона наступала на подол его святительской мантии», действовавший «уклончиво и осторожно», как бы самоустранился, в стороне ожидая исхода схватки за власть в марте 1553 года{672}. Макарий, по словам С. В. Бахрушина, «выступал во всех торжественных случаях с красноречивыми речами и посланиями, но в такой ответственный момент, когда в марте 1553 г. решалась судьба династии, мы слышим только голос Сильвестра и не видим никаких попыток со стороны Макария оказать воздействие на непокорных, в полную противоположность поведению его предшественника Даниила в момент смерти Василия III»{673}. Близкую к точке зрения С. В. Бахрушина идею высказал С. О. Шмидт, отметивший «нечеткую позицию митрополита в вопросе о престолонаследии (в момент тяжкой болезни Ивана IV в 1553 г.)»{674}. Зато И. И. Смирнову версия С. В. Бахрушина показалась неубедительной, поскольку «и само положение Макария как главы церкви, и та активная роль, которую Макарий играл в политической жизни 40–50-х годов, исключают возможность того, чтобы Макарий оставался вне политической борьбы, развернувшейся в марте 1553 г.»{675}. И. И. Смирнов говорит, что ему, «в отличие от Бахрушина, представляется более правильным видеть в молчании о Макарии источников, относящихся к боярскому «мятежу» 1553 г., не показатель политической пассивности Макария, а нечто совсем иное: тенденциозное стремление этих источников скрыть действительную роль и позицию Макария во время мартовского «мятежа» 1553 г.»{676}. В частности, Царственная книга обнаруживает, согласно И. И. Смирнову, «сознательное стремление умолчать о Макарий», несмотря на то, что «свершение» духовной Ивана происходило в присутствии святителя, «который как митрополит должен был скрепить своей подписью царскую духовную»{677}. В чем причина столь странного умолчания? Оказывается, «Макарий в какой-то форме или степени во время мартовского «мятежа» разделял позицию Сильвестра и Адашева»{678}. Поэтому автор внесенного в Царственную книгу рассказа о мартовских событиях 1553 года не хотел, очевидно, «компрометировать Макария, связывая его имя с борьбой, направленной против Ивана IV (особенно, если учесть, что, по-видимому, рассказ Царственной книги был составлен уже после смерти Макария). Это и заставило автора рассказа вовсе умолчать о позиции и поведении Макария во время боярского «мятежа»{679}. И. И. Смирнов заключает: «Итак, молчание источников о Макарии в связи с мартовскими событиями 1553 г., как мне кажется, свидетельствует не о политической пассивности Макария, а о том, что он в какой-то мере оказался втянутым в борьбу политических группировок за власть и при том не в числе сторонников царевича Дмитрия»{680}. С основным выводом И. И. Смирнова, будто митрополит Макарий склонялся на сторону противников царя Ивана, согласиться, по нашему убеждению, невозможно. Все, что нам известно о Макарии, все, что уже приведено было нами выше касательно его, безусловно, говорит о верности главы православной церкви русскому самодержцу. Твердое стояние в православной вере, молитвенное окормление апостольской церкви, стойкая приверженность идее самодержавия, постоянная забота о союзе церкви и государства, выраженном в учении о симфонии духовной и светской властей, единстве священства и царства — все это явилось непреодолимой преградой между митрополитом Макарием, с одной стороны, и Сильвестром и Адашевым — с другой. Следовательно, русский архипастырь не мог по определению стать в ряд противников Ивана IV. Не поэтому ли точка зрения И. И. Смирнова осталась длительное время не востребованной в исторической науке{681}. Исследователи старались найти другое объяснение столь неординарному случаю. Н. Е. Андреев, к примеру, высказал догадку о том, что Макарий попросту отсутствовал в Москве в те неспокойные мартовские дни{682}. По мнению А. Л. Хорошкевич, митрополит Макарий хотя и склонялся к кандидатуре Владимира Старицкого, но отнюдь не по политическим соображениям, поскольку являлся верным и последовательным сторонником Ивана IV, а исходя из оценки человеческих качеств претендентов на престол: «пеленочник» Дмитрий решительно проигрывал «мудрому» и «одаренному военачальнику» Владимиру{683}. «Противопоставлять такой кандидатуре младенца Дмитрия, — пишет А. Л. Хорошкевич, — было действительно трудно. Этим обстоятельством объясняется, по-видимому, и отсутствие среди присягавших митрополита»{684}. Р. Г. Скрынников, опубликовавший книгу «Начало опричнины» вскоре после «Очерков» И. И. Смирнова, развивал поначалу идеи, близкие к представлениям С. В. Бахрушина: «Митрополит Макарий, благополучно управлявший церковью при самых различных правительствах, не склонен был участвовать в борьбе между Захарьиными и Старицкими. Примечательно, что в летописных приписках вовсе не названо имени Макария, не отмечена его роль в утверждении царской духовной и церемонии присяги, немыслимых без его участия. Последний момент наводит на мысль, что митрополит Макарий, «великий» дипломат в рясе, предпочел умыть руки в трудный момент междоусобной борьбы»{685}. В первом издании книги об Иване Грозном находим схожий, но несколько видоизмененный текст: «Исход династического кризиса зависел в значительной мере от позиции церкви. Но официальное руководство церкви ничем не выразило своего отношения к претензиям Старицких. Замечательно, что летописные приписки вовсе не называют имени Макария и не упоминают о его присутствии на церемонии присяги, немыслимой без его участия. Это наводит на мысль, что ловкий владыка предпочел умыть руки в трудный час междоусобной борьбы и сохранил нейтралитет в борьбе между Захарьиными и Старицкими»{686}. Не касаясь пока вопроса о позиции митрополита Макария в мартовских событиях 1553 года, заметим, однако, что Р. Г. Скрынников смещает смысловые акценты «мятежа», сводя его к борьбе между Захарьиными и Старицкими. Эта борьба, конечно, имела место, но не она являлась главной осью, вокруг которой вращались данные события. Соперничество Захарьиных и Старицких представляло собой поверхностную возню двух кланов, под видимым покровом которой происходило главное: столкновение двух группировок — сторонников и противников русского самодержавия, от исхода противостояния которых зависело будущее России и, разумеется, будущее русской церкви, а значит, зависела личная судьба Макария. Понятно, что персонально это противоборство концентрировалось на Иване IV, воплощавшем «истинное христианское самодержавство». Ясно также и то, что митрополит Макарий в данном случае не мог «умыть руки» и оставить самодержца, им же венчанного, без церковной опоры и поддержки, обрекая вместе с ним и себя на погибель. Слабые основания идеи о нейтралитете святителя в мартовских событиях 1553 года осознал, очевидно, сам Р.Г.Скрынников. И поэтому, вероятно, он со временем попытался иначе истолковать поведение Макария в те дни. Теперь полное умолчание о роли митрополита Макария и духовника царя Андрея в событиях 1553 года Р. Г. Скрынников объясняет тенденциозностью летописного рассказа. «Глава церкви, — говорит историк, — не подвергался опале и до последних дней пользовался исключительным уважением Грозного. Почему же в рассказе о событиях 1553 года имя Макария даже не упомянуто? Это тем более удивительно, что по традиции умирающий государь поступал на попечение митрополита и духовенства, которые должны были позаботиться об устроении его души. По-видимому, болезнь царя была связана с обстоятельствами, о которых он не хотел вспоминать и о которых можно только догадываться»{687}. Р. Г. Скрынников задается вопросом: «Не связано ли это со стремлением обойти деликатный вопрос о пострижении умирающего монарха?» Вопрос этот кажется исследователю тем более уместным, что в то время обычай пострижения уходящего в мир иной государя уже стал, как он полагает, наследственным в роду Калиты{688}. Пораженный «тяжким огненным недугом» царь Иван, полагает Р. Г. Скрынников, «надолго терял сознание»{689}, «впадал в беспамятство и не узнавал людей»{690}. Казалось, он умирает. «Не лишено вероятности, — говорит историк, — что с одобрения регентов Захарьиных Макарий и старцы возложили на полумертвого царя чернеческое платье. Конечно, это предположение не является доказанным. Но некоторые признаки его подтверждают. В годы опричнины Иван IV подолгу носил иноческое платье и с большим усердием разыгрывал роль игумена в созданном им подобии опричного монастыря в Александровской слободе. Грозный знал, что его отец собирался постричься в Кирилло-Белозерском монастыре, и сам готовился к этому»{691}. Из-за этого посвящения в монахи «полумертвого», но неожиданно выздоровевшего царя автор рассказа о мартовских событиях 1553 года и не упомянул митрополита Макария, обойдя тем самым, по Р. Г. Скрынникову, «деликатный вопрос о пострижении умирающего монарха». К сожалению, приходится признать, что выдвинутое Р. Г. Скрынниковым предположение не только, как он выражается, не доказано, но и не доказуемо. Утверждения исследователя, будто больной государь «надолго терял сознание», «впадал в беспамятство и не узнавал людей», выходят за рамки летописного рассказа о болезни царя в марте 1553 года, привнося в него не свойственные ему подробности. Этот рассказ позволяет нам говорить лишь о том, что Иван IV, будучи в тяжелом состоянии, порой с трудом узнавал людей, не больше. На всем протяжении повествования летописи нет ни одного указания на то, что у больного монарха наступало бессознательное состояние. Были моменты, когда он «изнемога велми», когда ему было «истомно» и, по собственному признанию, «не до того», чтобы увещевать крамольных бояр и князя Старицкого{692}. Но при всем том он пребывал в разуме, и никто не мог видеть государя «полумертвым». «Признаки» и «дополнительные данные», приводимые Р. Г. Скрынниковым для подтверждения своего столь заманчивого и, пользуясь лексикой известного писателя, «зернистого» предположения, совершенно не оправдывают надежд исследователя, дошедшего, наверное, незаметно для себя до чересчур нестандартных умозаключений. Так, догадку о «пострижении умирающего» царя Ивана историк подтверждает тем, что впоследствии Иван «готовился постричься» в Кирилло-Белозерском монастыре. Очень трудно взять в толк, зачем царю пришло в голову «готовиться постричься», если уже постригся раньше. Чтобы избавиться от подобного недоумения, придется измышлять новые недоказанные предположения, одно искусственнее другого. Можно, скажем, предположить, что Иван Грозный самовольно или с согласия и помощью того же «дипломата в рясе» митрополита Макария сложил с себя иноческий чин и стал расстригой на троне, так сказать, предтечей Гришки Отрепьева. Не нравится это предположение, можно выдвинуть другое: царь Иван готовился принять двойной постриг, решившись на святотатство. Думается, такого рода предположения отвергнет и сам Р. Г. Скрынников, тем более что, по его убеждению, «Иван относился к иноческому житию очень серьезно и не был склонен к пародии или профанации идеала монашества»{693}. Надо только быть последовательным и не профанировать царя Ивана легковесными предположениями. Что касается ношения монашеского платья и роли игумена, разыгрываемой царем в Александровой слободе, то одной из причин этого была внутренняя тяга самодержца к монашеству и монашеской жизни, давнее желание принять постриг. Это свое желание государь явил в Послании инокам Кирилло-Белозерского монастыря (1573){694}. Впечатлительный Иван чувствовал себя так, будто он наполовину уже монах: «И мне мнится, окаянному, яко исполу есмь чернец»{695}. К тому же «общежитийный монастырь, в котором у монахов отсутствовали особое имущество и особые занятия, в котором весь распорядок жизни подчинялся нормам устава, определяемым суровой волей настоятеля, чем дольше, тем больше становился для царя идеальным образцом человеческого сообщества»{696}. Итак, нет никаких оснований говорить о совершении митрополитом Макарием и старцами обряда пострижения над «полумертвым Иваном». Следовательно, умолчанию имени митрополита в рассказе Царственной книги о событиях 1553 года надо искать иное объяснение, чем предлагает Р. Г. Скрынников в последних своих работах{697}. Заметим кстати, что И. Граля, опубликовавший обширное исследование о деятельности посольского дьяка Ивана Висковатого после того, как Р. Г. Скрынников высказал уже версию о пострижении «полумертвого Ивана», обошел ее стороной, вспомнив лишь ту, что представлена в книге «Начало опричнины»{698}. Сам И. Граля определяет позицию митрополита Макария как пассивную, имевшую «логическое обоснование — политическая ситуация во время болезни царя была настолько неясной, что занятие чьей бы то ни было стороны было сопряжено с серьезным риском. Ставка не на того кандидата могла легко привести митрополита к утрате престола, как это было с митрополитом Иоасафом в 1542 г. Падение Бельских и приход к власти Шуйских обеспечили самому Макарию при поддержке придворной клики трон митрополита. Возможное регентство Захарьиных не давало митрополиту достаточных гарантий безопасности; дворцовые интриги и борьба партий когда-то вынесли его наверх, но в 1543 г. после расправы Шуйских с Федором Воронцовым они же явили ему болезненную зависимость главы церкви от капризов правящей боярской фракции. Победа Старицких, столь же ненадежная, не сулила Макарию особых выгод — для князя Владимира митрополит был запятнан личным участием в подавлении бунта его отца, Андрея Ивановича, в 1537 г. Итак, менее рискованным был нейтралитет, в котором Макария могли укрепить зримые знаки царской немилости последних лет»{699}. Идея о пассивности и нейтралитете митрополита Макария во время «боярского мятежа» 1553 года, как мы уже старались показать, несостоятельна. Насчет же «знаков царской немилости» по отношению к святителю следует сказать, что если таковые имели место, то были инспирированы группой Сильвестра — Адашева, пришедшей к власти после июньского восстания в Москве 1547 года. Было бы, однако, правильнее говорить о некотором охлаждении царя к митрополиту, возникшем под влиянием интриг Избранной Рады и ее вождей Сильвестра и Адашева, пользовавшихся какое-то время безраздельным доверием Ивана IV. Но самодержцу и святителю все-таки удалось преодолеть возникшее было отчуждение между ними и восстановить былое взаимопонимание и сотрудничество, что особенно наглядно проявилось в 1552 году, когда царь Иван, уходя в поход на Казань, оставил вместо себя на Москве митрополита Макария, доверив ему свой дом и государство. Поэтому творцы мартовского кризиса 1553 года не тешили себя иллюзией относительно того, какую позицию в нем займет Макарий. Они и поступили с митрополитом в соответствии со своим прогнозом. Но чтобы понять, как это было, необходимо вернуться к одной проницательной, по нашему мнению, догадке С.Б.Веселовского. Историк, как мы знаем, полагал, что митрополит Макарий не самоустранился от участия в мартовских событиях 1553 года, а был отстранен от него «больным царем и его ближайшими советниками»{700}. Мысль об отстранении представляется весьма правдоподобной. Не верится только, что виновником отстранения стал царь с верными ему людьми. Иван не был в этом заинтересован по двум причинам. Во-первых, Макарий являлся союзником и сотрудником государя в вопросах строительства Святой Руси, увенчанной «истинным христианским самодержавством». Во-вторых, именно Макарием и по его инициативе Иван IV был венчан на царство и упрочен как богоизбранный царь, воля которого непререкаема. В-третьих, неучастие митрополита в церемонии крестоцелования, противоречащее обычаю, ставило под сомнение сам факт крестоцелования и открывало возможность в дальнейшем оспорить присягу, объявив ее недействительной. К этому необходимо добавить красноречивое отсутствие при умирающем, как многим казалось, царе его духовника протопопа Андрея{701}, что являлось вопиющим нарушением христианского канона, делая предсмертные распоряжения государя, запечатленные в духовной грамоте, нелегитимными. Спрашивается, кому это было выгодно? Царю Ивану? Конечно же, нет. Это было выгодно противникам Ивана IV. Они, судя по всему, изолировали митрополита Макария, зная его проивановскую позицию, и помешали протопопу Андрею быть рядом с сыном своим духовным в его предсмертный час. Кстати сказать, отсутствие духовника у изголовья больного государя довольно показательно. Оно служит веским аргументом против предположения о пассивности и нейтралитете митрополита Макария, указывая скорее на нейтрализацию этих двух наиболее близких Ивану церковных деятелей, чем на их самоустранение, совершенно несовместимое со статусом главы церкви и духовного наставника. Изоляция митрополита Макария и протопопа Андрея преследовала одну цель: сорвать процедуру целования креста или сделать ее недействительной. Бесцеремонное обращение с митрополитом и духовником царя свидетельствует о том, какую огромную власть и силу сконцентрировали в своих руках противники русского «самодержавства». Царю, и без того измученному болезнью, пришлось неоднократно уговаривать крамольников. Р. Г. Скрынникову это показалось измышлением составителя приписки к Царственной книге: «Царские речи, без сомнения являются вымыслом. Иван был при смерти, не узнавал людей и не мог говорить. Но даже если бы он сумел что-то сказать, у него не было повода для «жестокого слова» и отчаянных призывов»{702}. Тут все построено на передержках, ибо речей Иван не произносил, если под ними разуметь не короткие разговоры, а долгие прения{703}. Все его так называемые речи умещаются в несколько фраз, произносимых если не в короткие секунды, то в считаные минуты. Составитель приписки не скрывает того, что государю порою, когда ему становилось хуже, трудно было говорить: «и яз с вами говорити не могу»; «бояре су, яз не могу, мне не до того»{704}. Будь увещевания царя вымыслом автора интерполяции, он вряд ли стал бы уточнять, каких трудов это государю стоило. Относительно того, будто царь не узнавал людей, мы знаем, что это — преувеличение. Царь «не мог говорить»? Это — тоже преувеличение, основанное на избирательном подходе к сообщениям Царственной книги, состоящем в безотчетном доверии к одним летописным известиям (тяжелая болезнь царя) и столь же безотчетном недоверии к другим («речи» царя) с последующим отрицанием того, во что не верится. Но при таком субъективном подходе к источнику можно с равным успехом поменять местами объекты веры и недоверия, заявив, что тяжкая болезнь царя является вымыслом, поскольку Иван произносил «речи» и вообще подавал признаки жизни{705}. Не правильнее было бы соответствовать источнику, изображая ситуацию, как она в летописи нарисована: несмотря на тяжелую болезнь, царь, превозмогая ее, говорил с боярами, доходя иногда до резких выражений. В частности, он словно хлестнул бояр словами: «Коли вы сыну моему Дмитрею крест не целуете, ино то у вас иной государь есть… и то на ваших душах». Это — прямое обвинение бояр в заговоре, измене и мятеже{706}, а также предупреждение, что вину за последствия этой крамолы они берут на себя{707}. Следует согласиться с И. И. Смирновым, который истолковал слова Ивана как ультиматум мятежникам, поставивший «бояр-мятежников перед перспективой прямой войны против них со стороны сторонников царя»{708}. После «жестоких слов» государевых бояре «поустрашилися и пошли в Переднюю избу целовати»{709}. Они поняли, что царь догадался об их заговоре, и порядком испугались. «Твердая решимость Ивана Грозного идти на любые средства для достижения цели, заявленная царем в его речи, произвела потрясающий эффект», — пишет И. И. Смирнов{710}. Однако мятежники оробели, по-видимому, не только от царского «жестокого слова», изобличающего составленный ими заговор, но и потому, что ошиблись в своих расчетах: Иван, по всему, должен был бы уже умереть, а он жив да еще произносит «жестокие слова», не сулящие боярам ничего хорошего. Надежда на его кончину растворялась бесследно, и впереди все явственнее вырисовывалась плаха. Тут было от чего «поустрашиться». О том, что бояре больше всего боялись выздоровления Грозного, а также обвинений в заговоре и измене государю, свидетельствует сцена, разыгравшаяся между боярином князем Владимиром Ивановичем Воротынским, стоявшим по поручению царя у креста, и боярином князем Иваном Ивановичем Пронским-Турунтаем, целовавшим крест: «И как пошли (бояре. — И.Ф.) целовати и пришел боярин князь Иван Иванович Пронский-Турунтай да почал говорити князю Володимеру Воротынскому: «твой отец да и ты после великого князя Василия первой изменник, а ты приводишь к кресту». И князь Володимер ему отвечал: «я су изменник, а тебя привожу крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его царевичю князю Дмитрею; а ты су прям, а государю нашему и сыну его царевичю князю Дмитрею креста не целуешь и служити им не хочешь». И князь Иван Пронской исторопяся целовал»{711}. Приведенная запись представляет интерес еще и в том отношении, что она позволяет уяснить, на чье имя, в конце концов, целовали крест бояре. Это — царь Иван и царевич Дмитрий. Похоже, этому предшествовала острая борьба. Иван хотел, чтобы бояре присягали на имя царевича. Но те устами Федора Адашева, как мы знаем, заявили: «Тебе, государю, и сыну твоему царевичю князю Дмитрею крест целуем». В итоге все сошлись на этом боярском варианте клятвы, но, по всей вероятности, не сразу, а в ходе столкновений и в результате перемены обстоятельств, связанных с болезнью самодержца, который, вопреки всем ожиданиям, поправлялся, не оставляя своим противникам надежд на успешное завершение государственного переворота. Именно такое развитие событий, надо полагать, подтверждает крестоцеловальная грамота Владимира Старицкого, датированная 12 марта 1553 года. В грамоте читаем: «Се яз Князь Володимер Ондреевич целую крест к своему Государю Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всея Русии, и его сыну Царевичю Дмитрею: хотети мне добра Государю своему Царю и Великому Князю Ивану, и его сыну Царевичю Дмитрию, и его Царице Великой княгине Анастасие, и их детям, которых им вперед Бог даст, и их государствам во всем в правду безо всякие хитрости, и держати их во всем честно и грозно безо всякие хитрости»{712}. Формула грамоты «и их детям, которых им вперед Бог даст», хотя, возможно, и трафаретная, но, тем не менее, в данном случае показательная: будь Иван безнадежен, ее вряд ли бы внесли в документ. Также едва ли сторонники Ивана IV и сам государь стали бы приводить к присяге бояр на два имени: на имя умирающего царя и беспомощного царевича-младенца. Ибо, случись царева смерть, присягу можно было оспорить как недействительную. Однако Старицкие и те, кто доброхотствовал им, сохранили все же для себя лазейку, отстранив митрополита Макария от участия в процедуре целования креста и оставив крестоцеловальную запись без скрепляющей подписи святителя{713}. Не оформленную должным образом клятвенную грамоту всегда можно было объявить недействительной. По некотором прошествии времени летописатели, воспроизводившие мартовские события 1553 года, перестали различать формулы присяги (царскую и боярскую). Тонкости формул их уже, по-видимому, не занимали. Произошло это, насколько можно догадаться, вследствие того, что династический вопрос утратил былую остроту. Поэтому они, не придавая, очевидно, особого значения различию этих формул, отождествляли их. В противном случае трудно понять, как мог появиться в летописном рассказе о боярском мятеже следующий текст: «Бояре же, которые не захотели целовати государю и сыну его царевичю князю Дмитрею, с теми бояры, которые государю и сыну его крест целовали, почали бранитися жестоко, а говорячи им, что они хотят сами владети, а они им служити и их владения не хотят»{714}. На первый взгляд тут все перепутано: бояре, согласившиеся присягать государю и его сыну, но не пожелавшие целовать крест «на царевичево княже-Дмитреево имя», представлены как отказавшиеся от крестоцелования Ивану и Дмитрию, а бояре, присягнувшие Дмитрию, изображены в качестве целовавших крест царю и царевичу. К слову сказать, подобная подмена формул встречается в призывах самого царя Ивана: «А бояром государь молыл, которые ввечеру целовали: «…а вы начом мне и сыну моему Дмитрею крест целовали, и вы потому и делайте»{715}. Эту подмену следует, по нашему мнению, объяснять не забывчивостью Ивана Грозного, а переменой обстоятельств, сделавшей династический кризис достоянием прошлого{716}. К тому же, как известно, Владимир Старицкий отказывался целовать крест даже на формуле, озвученной Ф. Г. Адашевым, что в условиях 60-х годов XVI века, когда составлялись приписки к Царственной книге, представляло для Грозного больший интерес, нежели формула, связанная с давно погибшим царевичем Дмитрием и потому потерявшая всякую актуальность. Непокорство же старицких правителей сохраняло свою злободневность, особенно в период редактирования Царственной книги, откуда узнаем, что Иван IV, приведя к целованию Боярскую Думу, «велел написати запись целовалную, на чем приводити к целованию князя Володимера Ондреевича; и как запись написали, а князь Володимер к государю пришел, и государь ему велел на записи крест целовати. И князь Володимер не похотел, и государь ему молыл: «то ведаешь сам: коли не хочешь креста целовати, то на твоей душе; што ся станет, мне до того дела нет»{717}. Царь, как видим, снимал с себя всякую ответственность за последствия поступков Владимира Старицкого, и это было очень плохим знаком для последнего, знаком, грозящим ослушнику смертью{718}. Но тот продолжал упираться, не осознавая, наверное, что дело проиграно и замысел государственного переворота провалился. Тогда ближние бояре во главе с князем Владимиром Воротынским и дьяком Иваном Висковатым попытались его снова урезонить, говоря, чтобы он «не упрямливался, государя бы послушал и крест бы целовал». Однако тщетно: старицкий князь «почал» сильно сердиться («кручинитися прытко») и с плохо скрываемой угрозой сказал Воротынскому: «Ты бы де со мною не бранился, ни мало б де ты мне и не указывал, а против меня и не говорил»{719}. Боярин отпарировал: «Яз, государь, дал душу государю своему царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии и сыну его царевичю князю Дмитрею, что мне служити им въ всем вправду; и с тобою мне они же, государи мои, велели говорити, и служу им, государем своим, а тебе служити не хочю, я за них, за государей своих, с тобою говорю, а будет где доведетца по их государей своих велению и дратися с тобою готов». То было последнее предупреждение, но и его «Володимер Ондреевич» не уразумел. Истощив терпение, ближние бояре решительно заявили ему, чтобы он «целовал, а не учнет князь креста целовати, и ему оттудова не выйти»{720}. В конце концов, бояре принудили Владимира Старицкого «крест целовати, и целовал крест поневоле»{721}. А. А. Зимин, несколько отходя от летописного повествования, изображает дело так, будто князь Владимир дал крестоцеловальную запись после некоторого запирательства{722}. Ближе к истине подошел И. И. Смирнов: «Под угрозой смерти, в случае если он будет упорствовать в отказе целовать крест Дмитрию, Владимир Старицкий «целовал крест поневоле»{723}. Принудительным целованием креста дело, однако, не закончилось: «И после того посылал государь ко княгине [Ефросинье] з грамотою с целовалною, чтобы велела в той грамоте печать княжую привесити, боярина своего князя Дмитрея Федоровича Палетцкого да дияка своего Ивана Михайлова; и они ко княгине ходили трижды, а она едва велела печать приложити, а говорила: «что то де за целование, коли неволное?» и много речей бранных говорила»{724}. Чем объяснить столь неразумное упорство Старицких? А. Л. Хорошкевич на этот вопрос отвечает так: «Упорство Старицких объясняется ростом авторитета Владимира Андреевича накануне и после казанской победы. Он был допущен к деятельности Боярской думы. Приговоры 1550 г. и 1552 г. принимались от лица царя, князя Старицкого и бояр»{725}. То, о чем говорит А. Л. Хорошкевич, имело, прежде всего, значение при выдвижении мятежниками Владимира Старицкого претендентом на московский трон. Но, разумеется, и Старицкие, утратив чувство реальности, могли упираться, переоценив свои возможности. И тут они зашли, похоже, очень далеко. По словам С. М. Каштанова, «Претензии Владимира Андреевича на великокняжеский престол, обнаружившиеся явственно в марте 1553 г., в период тяжелой болезни Ивана IV, нашли, как думается, отражение в грамоте, выданной князем Ферапонтову монастырю в 1552/53 г. (скорее всего, во время болезни царя). Грамота, к сожалению, не сохранилась и упоминается лишь в монастырских описных книгах XVII–XVIII вв., но сведения о ней весьма показательны. Это была грамота «великого князя» Владимира Андреевича, писанная «на харатье, в лист… за красной печатью». Видимо, титул князя описные книги заимствуют из подлинника. Торжественное оформление грамоты: сам материал для письма (пергамен, столь редкий в то время в практике выдачи грамот внутреннего предназначения), красная печать — подтверждает возможность такой интитуляции. Едва ли слово «великого» привнесено в опись ее составителем»{726}. Старицкий князь, как видим, мнил себя великим князям — верховным правителем Московской Руси, присвоив соответствующий титул и его атрибут — красную печать. Косвенное подтверждение притязаниям старицкого князя находим, кажется, в сообщениях летописи, где Владимир Андреевич именуется государем{727}. Амбиции его, помимо прочего, подогревали и конкретные обстоятельства, связанные с болезнью царя. После приведения к присяге Боярской Думы Ивану опять стало плохо, и он снова слег в постель, поручив ближним боярам самим управиться с Владимиром Старицким. Новое ухудшение самочувствия царя, по всей вероятности, окрылило старицкого князя и его сторонников. Отсюда, думается, угрожающий тон Владимира Андреевича в разговоре с князем Воротынским и упорство старицкого князя в нежелании целовать крест, а также попытки отказа княгини Ефросиньи привесить «княжую печать» к крестоцеловальной грамоте. Надо было очень надеяться на смерть царя, чтобы проявлять такое упрямство после присяги «всех бояр», означавшей сдачу позиций мятежниками и, следовательно, крушение плана государственного переворота. Невольно закрадывается мысль, что Владимиром и Ефросиньей управляла не слепая надежда, а знание некой роковой тайны болезни Ивана. Кое-что здесь проясняет, как нам кажется, последующая гибель самого Владимира Старицкого. Надо сказать, что обстоятельства смерти князя Старицкого до сих пор остаются до конца не выясненными. Еще С. М. Соловьев говорил: «В русских летописях нет подробностей о смерти князя Владимира; иностранные свидетельства противоречат друг другу: по одним его отравили, по другим зарезали, по третьим отрубили голову…»{728}. С. М. Соловьеву не был известен так называемый Пискаревский летописец, найденный и опубликованный в середине прошлого, XX века. В Летописце имеется рассказ о том, как в 1569 году «положил князь велики гнев свой на брата своего князя Володимера Андреевича и на матерь его. И посла его на службу в Нижней, а сам поеде на Вологду. И побыв тамо и поеде с Вологды к Москве. А по князя Володимера посла, а велел ему быти на ям на Богону и со княгинею и з детьми. И поиде с Москвы в Слободу и из Слободы, вооружася все, кобы на ратной. И заехал князь велики на ям на Богону и тут его опоил зелием…»{729}. По мнению М. Н. Тихомирова, это известие о Владимире Андреевиче Старицком внесено в летопись «сорок лет спустя после описываемой смерти Владимира, по слухам и с явным намерением очернить Ивана IV»{730}. Историк не ручался за его точность{731}. Однако с версией об отравлении Владимира Старицкого Иваном Грозным мы встречаемся и в других источниках отечественного происхождения, в частности во Временнике дьяка Ивана Тимофеева, согласно которому царь Иван, поверив клеветникам, «порази» кн. Владимира «напоением смертным»{732}. Драму, разыгравшуюся именно в Богане (ямская станция между Троице-Сергиевым монастырем и Переяславлем-Залесским{733}), подтверждает «Синодик опальных царя Ивана Грозного», составленный в 1582–1583 гг. по приказу государя{734}, где читаем: «На Богане благоверного князя Владимира Андреевич со княгинею да з дочерью»{735}. Версия об отравлении Владимира Старицкого представлена и в сочинениях иностранцев. Так, в Послании гетману Я. Ходкевичу (1572) неких И. Таубе и Э. Крузе, попавших в русский плен во время Ливонской войны и благодаря пронырливости своей оказавшихся в опричнине, рассказывается, как царь Иван отправил из Александровой слободы своих поваров за рыбой в Нижний Новгород, где тогда находился Владимир Старицкий, который якобы подкупил одного из этих поваров, дав ему 50 рублей и снабдив ядовитым порошком, чтобы подсыпать его государю в пищу. Учинив соответствующее дознание, Иван Грозный велел самому Владимиру выпить яд{736}. Сходные сведения сообщает А. Шлихтинг, говоря о том, что «тиран» (Иван Грозный) приговорил к смерти своего повара, «оклеветав его, что он получил 50 серебреников от брата Владимира, чтобы извести тирана ядом. Но у этого несчастного никогда не было в душе ничего подобного; наоборот, сам тиран погубил ядом своего двоюродного брата…»{737}. Об отравлении ядом Владимира говорит и датский посол Ульфельд, приезжавший в Россию в 1578 году{738}. Итак, отравление Владимира Старицкого царем Иваном засвидетельствовано различными источниками, как отечественными, так и зарубежными, и потому выглядит вполне правдоподобно{739}. Многие современные историки придерживаются именно этой версии смерти старицкого князя{740}. Владимир принял смерть перед лицом Ивана Грозного и в присутствии, судя по всему, царских слуг, т. е. не в тайной обстановке, а явной — открыто и публично. Вместе с князем Владимиром были умерщвлены его жена и девятилетняя дочь, что подтверждают синодики, упоминающие о гибели удельного князя «с княгинею и со дщерию»{741}. Однако Н. М. Карамзин, следуя сведениям, почерпнутым из Послания И. Таубе и Э. Крузе, писал, дав простор словесной живописи, по части которой был великий мастер: «Ведут несчастного (Владимира Старицкого. — И.Ф.) с женою и с двумя юными сыновьями»{742} к Государю: они падают к ногам его, клянутся в своей невиновности, требуют пострижения. Царь ответствовал: «Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его, Евдокия (родом княжна Одоевская), умная, добродетельная — видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя — отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы, и с твердостию сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от Царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн был свидетелем их терзания и смерти»{743}. Н. М. Карамзин предпочел известия Таубе и Крузе сообщению князя Андрея Курбского о том, что царь Иван, умертвив Владимира, «тогда же разстреляти с ручниц [ружей] повелел жену брата своего Евдокию, княжну Одоевскую <…> и дву младенцев, сынов брата своего <…>: единому было имя Василий, аки десяти лет, а другий мнейши. Запамятовах уже, яко было имя его…»{744}. Н. М. Карамзин считал это сообщение Курбского менее достоверным, чем «сказание» Таубе и Крузе, поскольку названные иностранцы «находились тогда при царе, а Курбский в Литве»{745}. Последующие историки установили, что вместе с Владимиром и его женой были преданы смерти не два сына, как писал Н. М. Карамзин, а одна девятилетняя дочь Евдокия{746}, тогда как сын старицкого князя Василий «прожил еще несколько лет, а старшая дочь Мария в 1573 г. была выдана замуж за датского герцога Магнуса»{747} и умерла лишь в конце XVI века, в 1597 году{748}. Курбский, как видим, недаром «запамятовах» имя второго, младшего сына Владимира Старицкого. Столь серьезные провалы в памяти нашего информатора, странные уже потому, что Владимир вторым браком был женат на двоюродной сестре Курбского, едва ли могут укрепить доверие к его рассказу о гибели Старицких. Скажем больше, этот рассказ выдает стремление беглого князя обвинить Грозного в том, что он не совершал. Видно, Таубе и Крузе действительно сообщали более надежные сведения о способе умерщвления старицких князей, чем пребывающий вдали от России Андрей Курбский, хотя и они не всегда безупречны в передаче фактов{749}. Возникает вопрос, что хотел подчеркнуть царь Иван, принудив Владимира Старицкого принять яд. Свой ответ на этот вопрос дали Таубе и Крузе, приведя слова Грозного: «Ты искал моей жизни и короны, ты приготовил мне яд: пей его сам»{750}. Стало быть, по Таубе и Крузе, Иван Грозный в назидание окружающим привел в исполнение то, что против него замышлял Владимир Старицкий. Современные исследователи находят дополнительные мотивы, объясняющие поступок царя. «После очной ставки с дворцовым поваром и короткого разбирательства «дела», — говорит Р. Г. Скрынников, — Владимир Андреевич и его семья были осуждены на смерть. Из родственного лицемерия царь не пожелал прибегнуть к услугам палача и принудил брата к самоубийству. Безвольный Владимир, запуганный и сломленный морально, выпил кубок с отравленным вином. Вторым браком Владимир был женат на двоюродной сестре беглого боярина Курбского. Мстительный царь велел отравить ее вместе с девятилетней дочерью»{751}. Лицемерие и мстительность вряд ли здесь играли основную роль, поскольку расправа со Старицкими являлась проявлением не бытовой склоки, а политической борьбы, имеющей определенную логику поведения ее участников, которая, как известно, выражается в литой формуле: кто кого. Уводит в сторону от сути события и Б. Н. Флоря, заявляя, будто «соображения престижа, почти сакральный ореол, окружающий членов царского дома, не давали возможности ни устроить суд, ни тем более казнить двоюродного брата царя. Поэтому по приказу Ивана Владимир Андреевич, его жена и девятилетняя дочь 9 октября 1569 года были отравлены»{752}. Напрасно Б. Н. Флоря усложняет картину, поскольку в распоряжении Ивана IV были хорошо опробованные ранее приемы, посредством которых московские великие князья избавлялись от опасных соперников — членов великокняжеского дома, замучивая их до смерти в темницах. Царь, конечно, мог прибегнуть к этой испытанной в прошлом практике. Но Иван избрал именно публичное отравление Старицких. Нам известна официальная точка зрения на причину казни Владимира Старицкого, отраженная в инструкции московским послам, направленным в Литву вскоре после драмы «на Богаче». В случае вопросов относительно того, почему государь положил свою опалу на князя Владимира, инструкция предписывала послам «говорити: князь Володимер был с матерью учал умышляти над государем нашим царем и великим князем и над его государьскими детми всякое лихо, хотели государя и государьских детей испортити, да воры из бояр к ним пристали, и государь наш, сыскав, потому и учинил»{753}. Владимир Старицкий, как видим, «умышлял» не на собственный страх и риск, а в сообществе с противниками русского самодержца, будучи послушным орудием в их руках. Именно такую ситуацию, помимо упомянутой инструкции, рисует хранившийся в Посольском приказе один «статейный список из сыскного из изменного дела», откуда узнаем, что новгородский архиепископ Пимен и другие новгородцы «ссылалися к Москве з бояры с Олексеем Басмановым, и с сыном ево с Федором, и с казначеем с Микитою Фуниковым, и с печатником с-Ываном Михайловым Висковатым, и с Семеном Васильевым сыном Яковля, да с дьяком Степановым, да с Ондреем Васильевым, до со князем Офонасьем Вяземским, о сдаче великого Новгорода и Пскова, что архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдати литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии хотели злым умышленьем извести, а на государство посадити князя Володимера Андреевича…»{754}. Наше внимание останавливает фраза «царя и великого князя Ивана Васильевича злым умышленьем извести», т. е. отравить. Трудно сказать, знал ли об этом преступном замысле Владимир Старицкий{755}. Но само существование князя и особенно претензии его на московский стол, зримо обозначившиеся с памятных мартовских дней 1553 года, порождали у ненавистников Ивана соблазн пойти на крайние меры. Царя, судя по всему, не покидало чувство опасности быть-вместе со своей семьей отравленным врагами. Имел ли он на то основания? Важными в этой связи представляются наблюдения А. А. Зимина. Историк говорил: «6 сентября 1569 г. скончалась вторая жена Ивана Грозного — Мария Темрюковна. С ее смертью могла быть как-то связана гибель князя Владимира. Ведь еще в 1560 г. царь Иван обвинил в отравлении Анастасии Романовой Адашева и Сильвестра. Подобные обвинения могли царем высказываться и в связи со смертью Марии, которую ненавидели в княжеско-боярской среде»{756}. Царь, конечно, мог говорить об отравлении Марии его недоброжелателями{757}. Но это в источниках не отмечено. Зато есть коллективное признание пастырей русской церкви, зафиксированное в Соборном приговоре 1572 года, где записано, что царица Мария, с которой Иван прожил восемь лет, «вражиим злокозньством отравлена бысть»{758}. Перед нами, можно сказать, документальное свидетельство Освященного собора. Поэтому странное впечатление производят слова Р. Г. Скрынникова: «Ходили слухи об отравлении Марии Черкасской. Но эти слухи легендарны»{759}. Современный исследователь располагает не слухами об отравлении царицы Марии, а весьма авторитетным подтверждением этого факта со стороны высших церковных иерархов России. И здесь особую ценность приобретает предположение А. А. Зимина о возможной связи гибели князя Владимира со смертью царицы Марии. Если это так, то отравление Владимира Старицкого стало в определенной мере реакцией Ивана Грозного на смерть своей жены, отравленной, несомненно, врагами государя, к которым на протяжении длительного времени имел то прямое, то опосредованное отношение старицкий удельный князь. Более того, Иван, повелевая князю Владимиру выпить чашу с ядом, помнил, конечно же, о смерти любимой жены своей Анастасии, также отравленной недругами самодержца. В том же Соборном приговоре 1572 года говорится: «Царь и Великий Князь женился первым браком, понял за себя Романову дщерь Юрьевича Анастасию и жил с нею полчевертанатцата лет, и вражиим наветом и злых людей чародейством и отравами Царицу Анастасию изведоша…»{760}. Сам Иван в этом также нимало не сомневался{761}. Уверенно свидетельствует на сей счет и немец-опричник Генрих Штаден{762}. В глубоком сомнении лишь позднейшие историки. Один из них, С. Б. Веселовский, писал: «Анастасия умерла после медленного угасания в том возрасте, когда женщина обыкновенно достигает полного расцвета сил. Об отравлении ее не может быть и речи, да и сам Иван об этом не говорит, а в колдовство и чары мы, люди XX в., не верим. Остается предположить, что здоровье ее было подорвано ранним браком и частыми родами и окончательно расшатано постоянными поездками с мужем на богомолье и потехи»{763}. С. Б. Веселовскому вторит Р. Г. Скрынников: «Частые роды истощили организм царицы, она не дожила до 30 лет»{764}. У нас нет желания оспаривать детородные аргументы названных авторов, поскольку ныне факт отравления Анастасии научно доказан: обнаруженное при антропологическом исследовании ее останков высокое содержание солей ртути в волосах, обрывках погребальной одежды и тлена не оставляют сомнений насчет отравления царицы{765}. На фоне всех этих обстоятельств приобретает особую значимость предположение о связи гибели князя Владимира Старицкого с редакторской работой Грозного над Царственной книгой, в частности с интерполяцией, повествующей о мартовских событиях 1553 года. На эту связь обратил внимание еще С. Б. Веселовский, но истолковал ее, на наш взгляд, неудовлетворительно. Историк полагал, что «династический вопрос, поставленный остро в 1553 г., и казнь близких родственников (Владимира с родичами. — И.Ф.) продолжали тревожить сознание царя и много позже» и «вызывали его на самооправдания»{766}, что нашло отражение в приписке к Царственной книге под 1553 годом. Однако психологические мотивы являлись здесь, по нашему мнению, отнюдь не основными. Главной тут все-таки была, как нам представляется, государственная целесообразность. Поэтому надо согласиться с А. А. Зиминым, который, говоря о распоряжении царя Ивана «внести в официальную летопись новый рассказ о мартовских событиях 1553 г.», уловил в данном распоряжении стремление Грозного «задним числом обосновать государственную необходимость казни Владимира Старицкого»{767}. Это, бесспорно, так, но не все. Ставя в один ряд мартовские события далекого 1553 года с произошедшим в 1569 году «на Богане» и таким образом объясняя избранный способ казни Владимира и некоторых членов его семьи, Иван Грозный как бы утверждал библейский принцип: «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф., 7:2). Тем самым царь намекал на характер своего заболевания в марте 1553 года, вызванного «злокозньством» врагов русского «самодержавства», с которыми тогда «сложился» князь Владимир. Иначе, он намекал на отравление. Так получаем еще одно косвенное указание на рукотворное происхождение болезни Ивана IV в марте 1553 года, сопровождавшейся спланированным заранее дворцовым мятежом, в основе которого лежал преступный заговор. Этот заговор преследовал цель государственного переворота, состоящего в устранении от власти законного государя и его наследника с заменой их на московском троне удельным князем Владимиром Старицким. Следует сказать, что Иван IV и люди, сохранявшие ему верность, догадывались о сути происходившего. Они понимали, что имеют дело с тайным заговором и мятежом, принявшим форму открытого неповиновения, но не переросшим в кровавое столкновение, хотя все реальные предпосылки для такого оборота дела были налицо, включая военную силу, сосредоточенную Старицкими в своем кремлевском дворе. Не надо было обладать особым даром прозрения, чтобы уразуметь все это. Тут даже не требовалось знание деталей, поскольку само поведение заговорщиков во время болезни царя, их поступки и слова были достаточно красноречивы, чтобы представлять для него какую-то загадку. Иван мог также открыть для себя нечто новое относительно Сильвестра и Алексея Адашева. Сильвестр своим расположением к Владимиру Старицкому в столь угрожающей царю ситуации подавал для подобных прозрений прямой повод. Адашев же хотя и был скрытен, но все-таки настораживал, поскольку действия наиболее близких ему людей, отца Федора Адашева и друга Сильвестра, царь Иван не одобрял{768}. Итак, мартовские события 1553 года убедили Ивана IV в том, что против него и сына-наследника был составлен заговор и организован мятеж. Замысел заговорщиков строился на предполагавшейся болезни и смерти Ивана. Поэтому, когда царь, вопреки их расчетам, стал выздоравливать, рассыпался и этот замысел{769}. Можно было ожидать, что Грозный сурово накажет виновников. Но он повел себя по-другому. В этой связи «интересно отметить, что мятежники Дмитрий Федорович Палецкий, Никита Фуников, Дмитрий Иванович Курлятев, Дмитрий Иванович Немой, Петр Михайлович Щенятев еще в 1554 г. (т. е. после мятежа, но до ареста князя Лобанова-Ростовского) занимали почетнейшие места на самых почетных церемониях, точно так же, как они занимали их в 1552 г., т. е. до болезни царя»{770}. Не утратил благосклонности государя и князь И. М. Шуйский, «заваривший кашу» в Думе: уходя в 1555 году в Коломенский поход, царь оставляет его в Москве консультантом при слабоумном брате своем Юрии, доверяя ему управление столицей{771}. Вскоре после событий 1553 года Федор Адашев, перечивший государю в Боярской Думе, получил боярство. Алексей Адашев стал окольничим{772}. На повышение пошли и сторонники партии Адашева — Сильвестра: П. В. Морозов и Л. А. Салтыков. Первый был пожалован в бояре, а второй — в окольничие{773}. Оставался в силе Сильвестр{774}. Старицкие по-прежнему пребывали в чести. Князь Владимир Андреевич, обласканный царем, именуется в летописях того времени «государевым братом»{775}. Поэтому совершенно безосновательным представляется утверждение А. М. Сахарова о том, будто «после эпизода с присягой» подозрительность и жестокость царя Ивана «еще более усилились»{776}. Историки-рационалисты, мыслящие прагматически, проявляют полную неспособность понять мотивы поведения Ивана IV. «Проблема в том, — писал, к примеру, А. И. Филюшкин, — что названные в интерполяции «недоброхоты» царя (кроме Н. А. Фуникова) — Д. И. Курлятев, Ф. Г. Адашев, Сильвестр, Владимир Андреевич, Д. И. Немой-Оболенский, С. В. Ростовский, колебавшиеся А. Ф. Адашев и И. М. Вешняков не только не поплатились в 1553 г. за свои «мятеж» и «предательство», но, наоборот, многие из них в 1533 г. усилили свою реальную роль в политической иерархии (что демонстрирует разряд июньского выхода на Коломну и кадровые перемещения 1553 г.). События 1553 г. не внесли резких изменений в состав Думы, хотя, судя по тональности приписки 1553 г., после таких великих мятежей и крамол чистка правящего аппарата была бы неизбежной»{777}. Отсюда у А. И. Филюшкина недоверие к повествованию Царственной книги{778}. Скепсис этот не нов. В конце 40-х годов прошлого века Д. Н. Альшиц говорил: «Казалось бы, столь резкое выступление против царя группы мятежников, воспользовавшихся его беспомощностью, должно было после выздоровления царя вызвать преследование, наказание хотя бы главных виновников. Между тем ничего подобного не произошло. Никаких опал не последовало»{779}. Значит, заключает Д. Н. Альшиц, и мятежа никакого не было, хотя «тайный заговор группы князей» имел место{780}. Но в историографии есть иное объяснение незлобивости Ивана, хорошо известное Д. Н. Альшицу. Еще Н. М. Карамзин, описав мартовский мятеж, говорил: «Что же сделал Иоанн? Встал с одра исполненный милости ко всем Боярам, благоволения и доверенности к прежним друзьям и советникам <…> не хотел помнить, что случилось в болезнь его, и казался только признательным к Богу за свое чудесное исцеление <…> не мстил никому, но с усилием, которое могло ослабеть в продолжение времени»{781}. По Н. М. Карамзину, следовательно, государь простил вину мятежникам, делая, правда, над собой усилие. Согласно С. М. Соловьеву, у выздоровевшего царя затаились на дне души мрачные чувства подозрения и обиды, но «выздоровление, неожиданное, чудесное избавление от страшной опасности, располагало к чувству иному; радость, благодарность к Богу противодействовали чувству мести к людям»{782}. Впрочем, С. М. Соловьев, в отличие от Н. М. Карамзина, вышел за пределы чувствований царя Ивана и перевел вопрос в политическую плоскость: «С другой стороны, надобно было начать дело тяжелое, порвать все установившиеся уже отношения; тронуть одного значило тронуть всех, тронуть одного из приятелей Сильвестра и Адашева значило тронуть их самих, а это по прежним отношениям было очень трудно, к этому вовсе не были приготовлены; трудно было начать борьбу против вождей многочисленной стороны, обступившей престол, не имея людей, которых можно было бы противопоставить ей; наконец, при явном, решительном действии, что можно было выставить против Сильвестра и Адашева? Они не подавали голоса против Димитрия, в пользу Владимира Андреевича»{783}. Д. Н. Альшица не удовлетворили эти высказанные Н. М. Карамзиным и С. М. Соловьевым объяснения причины отсутствия чувства мести у Ивана IV по отношению к мятежникам. Не удовлетворили потому, что не только не исключали мартовского мятежа 1553 года, но и оставляли его безнаказанным. «Если считать, — пишет Д. Н. Альшиц, — что мятеж 1553 г. имел место, то следует признать, что он прошел не только безнаказанно, но и что самые активные его участники были вскоре после того возвышены царем. Тем самым пришлось бы возвратиться к точке зрения Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, что «радость и благодарность к богу противодействовали чувству мести к людям». Нам это не представляется возможным»{784}. Тут, конечно, ничего не поделаешь, коль «не представляется возможным». Однако же заметим, что Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев в данном случае не одиноки. Так, Н. А. Полевой говорил: «Не боялись ли, не трепетали ль крамольные вельможи, когда болезнь Иоанна постепенно прекращалась, и наконец — он восстал с одра своего в новой силе. Может быть, но их опасения оказались напрасны: Иоанн, по-видимому, забыл все, что происходило во время его болезни. Он являлся милостивым, ласковым по-прежнему; не было ни опал, ни ссылок, ни гнева. Этого мало: отец Адашевых был произведен в бояре, вместе с князем Пронским и Симеоном Ростовским. Выехав на охоту в октябре, царь весело пировал в селе Владимира Андреевича»{785}. Сходные суждения высказывал Н. Г. Устрялов: «Иоанн не мстил ни боярам, ни брату; ласкал, честил его, не редко вверял главное начальство над войском, и дал ему в обмен вместо Вереи, Алексина и Старицы Дмитров, Боровск, Звенигород»{786}. Вспомним, наконец, владыку Иоанна, его проницательные слова: «Царь всех простил! Царь не помнил зла. Царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха»{787}. Думается, митрополит Иоанн дал самое точное объяснение тому, что никак не могли взять в толк историки, чуждые христианскому сознанию и православной этике, а потому не способные понять мотивы поведения глубоко верующего человека, каковым являлся Иван Грозный. Царь не мог поступить иначе не только в силу общих норм христианской морали, но и вследствие некоторых конкретных обстоятельств. Еще во время соборов примирения он заявил о своем намерении царствовать посредством любви и милости к подданным. Естественно было ожидать от него прощения заблудших мятежников, тем более что о многих деталях произошедшего в мартовские дни 1553 года государь не знал. О том, что Иван IV оставался верен провозглашенной им в 1547 году политике мира, согласия и любви, свидетельствует официальная летопись: «Он государь, добрый пастырь, егда възмогл, тогда у Бога милости просил и нас добре хранил, и благоразсудным его утверждением всегда съхранены есмя; и мало время премолче к Богу о нас молениа простирати и нас на благое утвержати…»{788}. К прощению располагал и сам факт чудесного исцеления от, казалось бы, смертельной болезни. Божья милость, снизошедшая на болящего Ивана, не могла, по евангельским заповедям, оставаться безответной. Она требовала и от государя проявления милости. К всепрощению побуждал царя и трагический случай, произошедший в июне 1553 года, о котором надлежит сказать особо. Летописец повествует, как в мае 1553 года во исполнение взятого на себя обета «поехал царь и великий князь Иван Василиевич всея Русии и съ своею царицею и съ своим сыном царевичем Димитрием и з братом князем Юрьем Василиевичем помолитися по монастырем: къ живоначалной Троице, да оттоле въ Дмитров по монастырем, на Песношу къ Николе; да тут государь сел въ суды въ Яхроме-реке, да Яхромою на Дубну, да был у Пречистые въ Медведеве пустыне, да Дубною въ Волгу, да был государь въ Калязине монастыре у Макария чюдотворца, да оттоле на Углечь и у Покрова въ монастыре, да оттоле наусть Шексны на Рыбную, да Шексною вверх къ Кирилу чюдотворцу; да на Кирилове монастыре государь молебная совершив, учредив братию, да ездил един в Ферапонтов монастырь и по пустыням, а царица великая княгиня была въ Кирилове монастыре. И оттоле царь и государь поиде опять Шексною вниз, да Волгою вниз на Романов и вь Ярославль; и вь Ярославле государь был у чюдотворцов, да поехал въ Ростов и был у чюдотворцов, да въ Переславль, къ живоначалной Троице; и приехал государь къ Москве месяца июня»{789}. За приведенным рассказом о поездке Ивана IV на богомолье по заволжским монастырям и пустыням следует сообщение о событии, случившемся во время этой поездки, но обособленном от повествования о ней: «Того же лета, месяца июня, не стало царевича князя Димитрия въ обьезде въ Кириловьском, назад едучи къ Москве; и положили его въ Архаангеле въ ногах у великого князя Василия Ивановича»{790}. Летописец, как убеждаемся, довольно подробно описывает маршрут поездки государя, упоминает места его посещений, названия монастырей, совершенные в них службы и поклонения чудотворцам. При этом он очень скуп по части подробностей смерти царевича Дмитрия и говорит о ней в самой общей форме («не стало царевича князя Димитрия»), не желая, по-видимому, заострять внимание на том, как и при каких обстоятельствах она случилась. «О смерти царевича официальный летописец говорит глухо», — справедливо замечает С. Б. Веселовский{791}. Мало того, сообщение о кончине царевича составитель летописи выносит за скобки своего рассказа о поездке государя по монастырям, разрывая живую ткань событий и, следовательно, затушевывая реальные черты весьма неординарного события. Во всем этом проглядывает определенная заинтересованность. Уместно спросить: чья заинтересованность? По всей видимости, А. Ф. Адашева и К°, поскольку рассказ о поездке царя на богомолье и сообщение о смерти царевича Дмитрия, рассматриваемые сейчас нами, заключены в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», составителем или редактором которого являлся именно он, Алексей Адашев, или лицо, близкое ему{792}. Та же заинтересованность видна и у князя Андрея Курбского, о чем судим по его «Истории о великом князе Московском», где читаем, как царь Иван «поплыл в путь свой Яхромою-рекою аже до Волги, Волгою ж плыл колко десять миль до Шексны-реки великие, и Шексною вверх аже до езера великаго Белаго, на немже место и град стоит. И не доезжаючи монастыря Кирилова, еще Шексною-рекою плывучи, сын ему <…> умре»{793}. Курбский, подобно составителю Летописца, опускает подробности смерти царевича, не желая, очевидно, лишний раз привлекать к этому внимание своих читателей. Его сообщение о смерти царевича Дмитрия, по тонкому наблюдению С. Б. Веселовского, «носит оттенок какой-то недоговоренности»{794}. Но Курбский, в отличие от автора летописной записи, отнесшего «преставление» Дмитрия к моменту возвращения царственных богомольцев из Кириллова монастыря в Москву («назад едучи к Москве»), связал смерть наследника престола со временем на пути к обители («не доезжаючи монастыря Кирилова»). Разумеется, оба информатора не могут быть правы, и кто-то из них либо невольно ошибается, либо сознательно запутывает последовательность событий, чтобы сбить читателя с толку. Полагаем, что А. М. Курбский, писавший свою «Историю о великом князе Московском» если не тридцать{795}, то двадцать лет спустя с момента смерти царевича Дмитрия{796}, был меньше озабочен этим, чем А. Ф. Адашев, имевший непосредственное отношение к созданию «Летописца начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», составленного, можно сказать, по горячим следам трагической кончины царского наследника{797}. Поэтому сообщение Курбского о гибели царевича до приезда в Кириллов монастырь более, по нашему мнению, соответствует действительности, нежели известие Летописца о «преставлении» Дмитрия на пути в Москву. Версия Курбского лучше согласуется и с попытками «кружка Сильвестра» воспрепятствовать поездке царя Ивана в Кирилло-Белозерский монастырь. Но это отнюдь не значит, что Курбский, повествуя о паломничестве государя в заволжские монастыри, был во всем остальном правдив и объективен. Предвзятость — наиболее характерная черта рассказа Курбского о поездке государя на моленье по знаменитым русским монастырям. Он умудряется даже обвинить царя в смерти царевича: «Егоже (Дмитрия. — И.Ф.) своим безумием погубил»{798}. А было это, по Курбскому, так. Царь Иван, выехав из столицы, отправился «первие в монастырь Троицы живоначалные, глаголемый Сергиев, яже лежит от Москвы двадесять миль на великой дорозе, которая идет к Студеному морю»{799}. В ту пору в Троице «обитал Максим преподобный, мних святые горы Афонские, Ватапеда монастыря, грек родом, муж зело мудрый и не токмо в ритарском искустве мног, но и философ искусен…»{800}. Максим обосновался здесь благодаря ходатайству старца-еретика Артемия, бывшего одно время игуменом Троице-Сергиева монастыря, и хлопотам попа Сильвестра. Единомышленник Артемия, друг Сильвестра и учитель Курбского{801}. Максим Грек, возможно, по наущению названных лиц стал отговаривать царя от поездки в заволжские монастыри: «Аще, — рече, — и обещался еси тамо ехати, подвижуще святаго Кирилу на молитву ко Богу, но обеты таковые с разумом не согласуют. А то сего ради: егда доставал еси так прегордаго и силнаго бусурманского царства, тогда и воинства християнскаго храброго тамо немало от поганов падоша, яже брашася с ними крепце по Бозе за православие. И тех избиенных жены и дети осиротели и матери обнищадели, во слезах многих и в скорбех пребывают. И далеко, — рече, — лучше те тобе пожаловати и устроити, утешающе их от таковых бед и скорбей, собравше их ко своему царственнейшему граду, нежели те обещания не по разуму исполняти»{802}. Удивляет настойчивость, с которой Максим убеждал царя Ивана отказаться от поездки в заволжские монастыри: «И аще, — рече, — послушавши мене, здрав будеши и многолетен, со женою и отрочатем. И иными словесы множайшими наказуя его, воистину сладчайшими, паче меда, каплющего ото усть его преподобных»{803}. Но Ивана, пережившего недавно столько душевных потрясений, чудом выздоровевшего и обещавшего в благодарение Господу совершить паломничество в Кириллов монастырь, доводы Грека не убедили. Государь решил продолжить свой путь. Курбский приписал это упрямству Ивана Васильевича и рекомендациям «мнихов», по всей видимости троицких, с которыми государь, несколько, вероятно, смущенный беседой с Максимом Греком, советовался, как ему поступить, и которые укрепили его в подвижничестве: «Он же, яко гордый человек упрямяся, толико: «Ехати да ехати, — рече, — ко святому Кирилу». Ктому ласкающе его и поджигающе миролюбцем и любоименным мнихом и похваляюще умиление царево, аки богоугодное обещание. Бо те мнихи боготолюбные не зрят богоугоднаго, а ни советуют по разуму духовному, чему были должны суще паче в мире живущих человеков, но всячески с прилежанием слухают, чтобы угодно было царю и властем, сиречь чем бы угодно бы выманити имения к монастырем или богатство многое и жити в сладострастиях скверных яко свиньям питающеся, а не глаголю, в кале валяющеся»{804}. Курбский, как видим, не отказал себе в удовольствии лишний раз уколоть ненавистных врагов своих — иосифлян. Но суть не в этом удовольствии, а в том, что Максим, удостоверившись в твердом, вопреки всему, намерении царя ехать «ко святому Кирилу», пустился в прорицания, представляющие для современного исследователя весьма существенный интерес: «Егда же видев преподобный Максим, иже презрел его совет и ко еханию безгодному устремился царь, нисполнився духа пророческаго, начал прорицати ему: «Аще, — рече, — не послушавши мене, по Бозе советующаго, и забудеши крови оных мучеников, избиенных от поганов за правоверие, и презриши слезы сирот оных и вдовиц, и поедиши со упрямством, ведай о сем, иже сын твой умрет и не возвратится оттуды жив. Аще же послушавши и возвратишися, здрав будеши яко сам, так и сын твой»{805}. Любопытная деталь: свое пророчество Максим передает Грозному через посредников. «И сия словеса, — рассказывает Курбский, — приказал ему четырмя нами: первый — исповедник его, презвитер Андрей Протопопов, другий — Иоанн княжа Мстиславский, а третий — Алексей Адашев, ложничей его, четвертым — мною. И те слова слышав от святаго, исПоведахом ему по ряду»{806}. Приведенные факты ставят перед историком два вопроса: 1) чем объяснить противодействие Максима Грека и, надо полагать, его сотоварищей поездке Ивана IV в Кириллов монастырь и другие заволжские обители; 2.) почему Максим Грек предрек смерть царевича не сразу, а с некоторой паузой, воспользовавшись при этом для передачи государю своего пророчества услугами посредников. При обращении к первому вопросу можно подумать, что ответ на него уже дан в рассказе Курбского о встрече Ивана с Максимом Греком, который, как явствует из этого рассказа, призывал царя, не тратя даром времени, вернуться в «царственнейший град» и позаботиться о матерях, женах и детях воинов, погибших в Казанском походе. Но этот призыв не мог побудить самодержца немедленно прервать богомолье и воротиться в Москву, поскольку война с Казанью закончилась много месяцев назад, и попечительские меры относительно вдов, сирот и матерей, потерявших на войне сыновей, уже, по всему вероятию, стали осуществляться. Что касается личного попечения государя, то оно, прерванное на короткий срок (месяц-два) богомолья, снова должно было возобновиться без нанесения особого ущерба нуждающимся в нем. Следовательно, Максим Грек, отговаривая царя Ивана от путешествия в заволжские края, выдвигал скорее благовидный предлог, нежели формулировал действительную причину своего отрицательного отношения к этому путешествию. Вот почему некоторые историки пытались по-своему объяснить скрытые помыслы Максима. Так, по мнению Р. Г. Скрынникова, родичи царицы Захарьины, обеспокоенные «значительным влиянием» попа Сильвестра на личность царя, стремились ослабить это влияние и поэтому «стали искать поддержку у осифлян старшего поколения, находившихся не у дел со времени боярского правления. По их совету царь, едва оправившись от болезни, предпринял путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь. Там жил на покое Вассиан Топорков, престарелый советник Василия III и братанич Иосифа Санина. Вассиан прославился жестокими гонениями против нестяжателей и их главного идеолога Максима Грека. Встревоженный этим обстоятельством, кружок Сильвестра пустил в ход все средства, чтобы воспрепятствовать свиданию царя с Топорковым»{807}. В частности, «Алексей Адашев и Андрей Курбский противились поездке, но, в конце концов, приняли в ней участие»{808}. К сожалению, Р. Г. Скрынников здесь, как и в ряде других случаев, небрежен в изложении фактов. Он говорит, что царь предпринял путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь по совету (даже по настоянию{809}) Захарьиных, тогда как Курбский довольно внятно извещает об обете самого Ивана совершить богомольную поездку в эту обитель: «Егда же уже оздравел, обещался, скоро по недузе оном, и умыслил ехати сто миль от Москвы да единаго монастыря, глаголемаго Кирилова»{810}. У нас нет оснований не доверять князю Андрею, непосредственному участнику царской поездки, и верить на слово Р. Г. Скрынникову. Историк ошибается и тогда, когда утверждает, будто в Кирилло-Белозерском монастыре имело место свидание царя Ивана с бывшим коломенским епископом Вассианом Топорковым. Это свидание состоялось, но не в Кирилловом монастыре, а на пути к нему в Песношском монастыре, где тогда находился Вассиан, о чем и сообщает Курбский{811}. Возможно, это свидание было непреднамеренным{812}. Во всяком случае, ему не придавалось то значение, о котором говорит Р. Г. Скрынников. Но что касается догадки исследователя насчет встревоженности «кружка Сильвестра» поездкой Ивана в заволжские монастыри, то она заслуживает пристального внимания. Чем была вызвана подобная тревога? Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно вспомнить о той религиозно-политической роли, какую играли заволжские монастыри в конце XV — середине XVI века. Они были не только оплотом нестяжательства, но и прибежищем еретиков. Сюда в начале XVI века сбегались и находили здесь укрытие преследуемые властями отступники от православной веры. Сюда ссылали вождей придворной еретической партии, таких как, скажем, Вассиан Патрикеев, поселенный в Кирилло-Белозерском монастыре. В эти места бежал в. середине XVI века знаменитый еретик Феодосий Косой со своими единомышленниками. Отсюда на игуменство в Троице-Сергиев монастырь был взят стараниями Сильвестра старец Артемий, обвиненный вскоре в ереси и осужденный соборным судом вместе с некоторыми его учениками. Заволжье стало своеобразным заповедником, где еретики чувствовали себя в безопасности. Для того чтобы понять меру озабоченности «кружка Сильвестра» поездкой государя в заволжские монастыри и пустыни, надо также вспомнить особенность момента, когда царь Иван отправлялся на богомолье. Это было время, когда на Руси, по выражению летописца, «прозябе ересь и явися шатание в людех в неудобных словес о божестве». Можно представить, что тогда творилось в Заволжье, — этой, так сказать, кузнице еретических кадров. Вожди Избранной Рады, покровительствовавшие еретикам, не хотели, по-видимому, дать царю возможность увидеть все собственными глазами. Они решили помешать царской поездке, пустив в ход «тяжелую артиллерию» в лице Максима Грека, связанного с попом Сильвестром и через него с Избранной Радой. Ими, похоже, был разработан еще один план, касающийся царевича Дмитрия. Так позволяет думать рассказ Курбского и дополнительные летописные сведения, проливающие свет на обстоятельства гибели царственного младенца. Важно отметить, что Максим «начал прорицать» насчет смерти царевича не сразу, ограничившись сперва намеками на возможный для Дмитрия печальный исход дальнего путешествия («Максим начал советовати ему, да не едет на так далекий путь, но и паче же со женою и с новорожденным отрочатем»; «послушавши мене, здрав будеши и многолетен со женою и отрочатем»). Максим Грек говорил так, будто знал об опасности, грозившей царскому наследнику, и пытался предупредить об этом Ивана. И на том ему спасибо! Но царь, по всей видимости, не понял намека и заявил о своем решении продолжить путь. Тогда-то Максим и стал пророчествовать, причем не лично государю, а через посредников. Если предполагать план, задуманный недругами Ивана IV, этот ход «святогорца» приобретает ясность. Становится понятен подбор Максимом посредников, в число которых вошли протопоп Благовещенского собора Андрей, ближний боярин Иван Мстиславский, Алексей Адашев и Андрей Курбский. Привлекая к посредничеству царского духовника Андрея и сохранившего верность царю во время мартовских событий 1553 года князя Ивана Мстиславского, Максим Грек и стоявший за ним «кружок Сильвестра» могли думать, что Иван Грозный с доверием и полной серьезностью воспримет акцию посредников. Вхождение в число посреднической группы Д. Адашева и А.Курбского должно было, видимо, отвести подозрения в причастности к предрекаемой гибели Дмитрия как их самих, так и партии Сильвестра — Адашева, т. е. создать им, так сказать, алиби. В этом, пожалуй, был главный смысл участия в посредничестве Алексея Адашева и Андрея Курбского. Такой ответ напрашивается на поставленный нами выше второй вопрос. Резонность подобного ответа доказывают обстоятельства смерти наследника, замалчиваемые, как мы убедились, летописцами и свидетелями этой смерти, как, например, князь Курбский. «Вероятно, и летописцу и Курбскому, — замечает С. Б. Веселовский, — было неприятно говорить о нелепых обстоятельствах гибели младенца»{813}. Но так ли нелепы на самом деле эти обстоятельства? В одном летописном источнике С. Б. Веселовский обнаружил известие о том, что «царевич был обронен мамкой в Шексну при пересадке из одного судна в другое»{814}. Это известие представлялось С. Б. Веселовскому более вероятным, нежели «сообщение, будто царевича обронила в воду сонная мамка»{815}. По Р. Г. Скрынникову, «придворные следили за строгим соблюдением церемониала. Когда нянька шла на струг с царевичем на руках, ее поддерживали под руки братья царицы. Во время одной остановки на Шексне сходни не выдержали тяжести и перевернулись. Участники процессии оказались в реке. Младенца выхватили из воды, но он был уже мертв»{816}. Б. Н. Флоря рисует несколько иную картину: «…произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий — кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно»{817}. При некотором расхождении в деталях историки сходятся в мысли о случайности смерти царевича Дмитрия, отмечая ее нелепость{818}, неожиданность{819}, нечаянность{820}, внезапность{821}. Думается, тут больше подошло бы слово «загадочность» и выражение «загадочная смерть», ибо очень трудно уразуметь, как могла мамка (кормилица) уронить вдруг в реку младенца или как могли перевернуться сходни, не выдержав тяжести. Ведь речь идет не о простом ребенке, а «царском корени», монаршем сыне и наследнике престола, путь которого всегда тщательно готовился, не раз проверялся, как говорится, вылизывался детьми боярскими, сопровождавшими государя. Вероятность случайности тут сведена к нулю, т. е. практически исключена. Отсюда вывод: кто-то из свиты Ивана IV очень постарался, чтобы царевича не стало. Конечно, в жизни всякое бывает. И все же нельзя отвергать полностью возможность преднамеренного убийства царевича, смерть над которым витала с памятных дней марта 1553 года. «Младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити…», — скажет много позже Иван Грозный, вспоминая эти дни{822}. Вопреки распространенному в историографии мнению о том, будто эти слова Грозного суть плод воспаленной фантазии, заметим: в них есть реальный смысл. Смерть Дмитрия следует, на наш взгляд, рассматривать как подтверждение обоснованности подозрений царя Ивана. Каковы возможные мотивы людей, организовавших убийство царевича? Надо полагать, они хотели любой ценой помешать поездке самодержца в Заволжье. Авторитет Максима Грека, мобилизованный ими, оказался здесь бессилен. Тогда сработал более радикальный вариант плана, предусматривающий физическое устранение царевича Дмитрия. Важно отметить, что злодейство было осуществлено на подъезде к Кириллову монастырю, как об этом сообщает князь Курбский. Расчет тут очевиден: заставить царя прервать поездку и воротиться в Москву. Но государь превозмог личное горе и не свернул с пути. Он приехал в Кириллов монастырь, затем отправился в Ферапонтов монастырь и совершил объезд заволжских пустынь. Этот объезд особенно примечателен. Он свидетельствует о том, что не только ради богомолья, посещения святых мест и поклонения чудотворцам ездил в «пределы Белозерскиа» царь Иван Васильевич. Наслышанный, вероятно, о скопище еретиков в тамошних местах, государь решил сам убедиться, насколько верна дошедшая до него информация. Увиденное и услышанное им на Белозерье произвело на него, судя по всему, столь сильное впечатление, что по возвращении в Москву он распорядился о начале суда над еретиками{823}. Следовательно, убийство царевича не возымело того действия, на которое рассчитывали его организаторы. Но некоторых результатов они все же достигли. Во-первых, они лишили Ивана законного наследника, усилив возможность политических интриг вокруг царского трона. Во-вторых, им удалось оттеснить от власти Захарьиных, взвалив на них вину за то, что те не уберегли царевича. «В соперничестве за влияние на молодого государя, — пишет Р. Г. Скрынников, — верх взяли Сильвестр и Адашев, тогда как Захарьиным пришлось пожать плоды своих неудач»{824}. Предложенная версия смерти царевича Дмитрия — не более чем догадка, причем не обязательная, хотя она, по нашему убеждению, имеет основания, чтобы быть принятой исследователями во внимание. Бесспорно лишь то, что смерть Дмитрия потрясла царя Ивана. И он, будучи глубоко религиозным человеком, воспринимал ее, несомненно, как наказание Господне за грехи. А это, конечно же, возбуждало в нем чувства милости и всепрощения, которые распространялись и на участников мартовских событий 1553 года. Именно о прощении Иваном «мятежников» мы должны говорить, поскольку он не только догадывался, но и знал о сути происходившего в марте 1553 года, располагая некоторыми конкретными фактами. Об этом судим по сообщению Царственной книги, согласно которому боярин Иван Петрович Федоров «сказывал» царю Ивану Васильевичу, что «говорили с ним бояре, а креста целовати [Дмитрию] не хотели, князь Петр Щенятев, князь Иван Пронский, князь Семен Ростовский». Свое нежелание присягать царевичу они, по свидетельству Ивана Петровича, подкрепляли следующим рассуждением: «Ведь де нами владети Захарьиным, и чем нами владети Захарьиным, а нам служити государю малому, и мы учнем служити старому — князю Володимеру Ондреевичу»{825}. Помимо И. П. Федорова-Челяднина, «государю же сказывал околничей Лев Андреевич Салтыков, што говорил ему, едучи на площади, боярин князь Дмитрей Иванович Немово: «…а как де служити малому мимо старого? а ведь де нами владети Захарьиным»{826}. Бояре П. М. Щенятев, И. И. Пронский, С. В. Ростовский и Д. И. Немой пели ту же песню, какую заводил на заседании Боярской Думы окольничий Ф. Г. Адашев. Нетрудно сообразить, что то была согласованная позиция большинства Думы, или сговор противников самодержца. Важно установить, хотя бы приблизительно, время, когда Иван Федоров и Лев Салтыков «сказывали» Ивану Васильевичу о речах упомянутых бояр. В летописи об этом говорится глухо: «после того», то есть, как явствует из летописного текста, после присяги бояр, проявлявших несговорчивость и строптивость. Фраза «после того» означала, очевидно, вскоре после окончания боярского мятежа. Стало быть, до поездки царя Ивана на богомолье в Кириллов монастырь и уж точно до 1554 года, когда в ходе следствия по делу о бегстве в Литву князя Семена Ростовского обнаружились новые подробности мартовских событий 1553 года. Вот почему мы не можем согласиться с Д. Н. Альшицем в том, что царь Иван и его окружение узнали о тайном сговоре бояр в марте 1553 года «лишь через год после того, как он существовал, узнали от Семена Лобанова-Ростовского, который признался в этом под пыткой»{827}. Данный вывод Д. Н. Альшица основан главным образом на том, что приписка к Синодальному списку Лицевого свода, повествующая о попытке отъезда в Литву князя Семена Ростовского, была сделана раньше, чем приписка к Царственной книге, рассказывающая о боярском мятеже в марте 1553 года. Но первенство во времени той или иной интерполяции не может служить решающим аргументом в вопросе о характере заключенных в ней сведений. Итак, если во время мартовских событий 1553 года Иван IV лишь догадывался, что имеет дело с тайным заговором враждебных русскому самодержавству сил, то вскоре после этих событий он получил от боярина И. П. Федорова-Челяднина и окольничего Л. А. Салтыкова некоторые факты, подтверждающие его догадку. В дальнейшем эти факты множились, и постепенно у Ивана складывалась полная картина произошедшего в начале марта 1553 года. Многое раскрылось во время следствия по делу князя Семена Лобанова-Ростовского, о «подвигах» которого царь уже кое-что слышал от боярина Ивана Федорова-Челяднина. Из приписки к Синодальному списку Лицевого свода, составленной на документальной основе (следственном деле), узнаем, что боярин князь С. В. Ростовский, чувствуя свою вину за происшедшее в марте 1553 года и опасаясь наказания, задумал бежать в Литву. Но начал он с прямой измены, связавшись с литовским послом Станиславом Довойной, находившимся в Москве на исходе лета 1553 года. Ростовский передал Довойне секретные сведения, касающиеся решений Боярской Думы{828}, отговаривал посла заключать с русскими соглашение о перемирии («чтобы они с царем и великим князем не мирилися»), ссылаясь на трудности, переживаемые якобы Московским государством: «А царство оскудело, а Казани царю и великому князю не здержати, ужжо ее покинет»{829}. Вспоминая о государственной измене Семена Ростовского, царь потом скажет: «Своим изменным обычаем литовским послом пану Давойну с товарыщи нашу думу изнесе»{830}. Предательством государственных интересов Русии князь Семен надеялся заслужить расположение к себе польского короля Сигизмунда II Августа, в чем, кажется, преуспел. Где-то через полгода (если не больше) после встреч с послом Довойной Семен Лобанов-Ростовский «послал к королю человека своего Бакшея опасной просить». При этом, как выяснилось затем, в письме к польскому королю князь Семен «писал хулу и укоризну на государя и на всю землю», что опять-таки превращало замышляемый им отъезд в государственную измену. Затем в июле 1554 года С. В. Ростовский направил к Сигизмунду сына своего Никиту{831} «сказати про собя, что он к королю идеть, а с ним братиа его и племянники»{832}. Но на границе с Литвой, в Торопце, Никиту Лобанова-Ростовского «поймали дети боярьские и привели к царю и великому князю». Измена раскрылась. Князя Семена государь велел арестовать и допросить («поймать и выпросить»). На допросе тот изворачивался, как уж между вилами, говорил, что «хотел бежати от убожества и от малоумсьства, понеже скудота у него была разума и всякым добрым делом, туне и в пустошь изъедающи царьское жалование и домашняя своя». «Пойманный» князь показал, что с ним хотели «ехати такие же палоумы Ростовские князи, Лобановы и Приимковы, и иные клятвопреступники»{833}. Здесь же в приписке упомянут князь Андрей Катырев-Ростовский{834}. Царь распорядился создать «следственную бригаду» из 11 человек, куда вошли бояре Иван Федорович Мстиславский, Иван Васильевич Шереметев, Дмитрий Иванович Курлятев, Михаил Яковлевич Морозов, Дмитрий Федорович Палецкий, Даниил Романович и Василий Михайлович Юрьевы, окольничий Алексей Федорович Адашев, постельничий Игнатий Вешняков, казначей Никита Фуников, дьяк Иван Михайлович Висковатый{835}. Персональный состав этой «бригады» вконец запутал А. И. Филюшкина: «Картина оказывается еще более запутанной: в комиссии оказываются лица, названные в приписке 1553 г. мятежниками (Д. И. Курлятев, Н. А. Фуников, Д. Ф. Палецкий, колебавшиеся А. Ф. Адашев, И. М. Вешняков)»{836}. Однако никто из названных лиц в приписке 1553 года прямо мятежником не назван. Тут у А. И. Филюшкина явный перегиб. Но, даже согласившись с ним, мы не увидим в перечне участников следственной комиссии 1554 года «запутанной картины», зная, что монарх простил «мятежников», не держал на них зла и поэтому включил в следственную группу. Вместе с тем Иван, возможно, хотел проверить их и проследить за тем, как они поведут себя при расследовании новой измены. Расследование выявило немало подробностей мартовского мятежа 1553 года. Семен Лобанов-Ростовский рассказал, как во время болезни государя к нему на подворье приезжали «ото княгини от Офросиньи и от князя Володимера Ондреевича, а чтобы… [он] поехал ко князю Володимеру служити да и людей перезывал, да и со многими есмя думали бояре, толко нам служити царевичю Дмитрею, ино нами владети Захарьиным, и чем нами владети Захарьиными, ино лутчи служити князю Владимеру Андреевичу. А были в той думе многие бояре и княз Петр Щенятев, и княз Иван Турунтай Пронской, и Куракины родом, и княз Дмитрей Немой, и княз Петр Серебряной, княз Семен Микулинский и иные многие бояре, и дети боярские, и княжата, и дворяне с ними в той думе были…»{837}. Д. Н. Альшиц, комментируя данное показание князя Семена, замечал: «Кто имеется в виду под этими «иными многими» — неизвестно. Ясно лишь, что в числе их не может быть никто из тех лиц, которые поименованы тут же в качестве приближенных царя, пытавших Семена Ростовского и вскрывших факт заговора»{838}. Другими словами, по логике Д. Н. Альшица, участники заговора 1553 года не могли находиться среди тех, кто пытал Семена Ростовского и вскрыл факт этого заговора. Историк, наверное, не был бы столь категоричен, если бы допускал возможность христианского прощения царем Иваном виновников мартовского «мятежа» 1553 года. И уж, конечно, он как исследователь должен был бы осмыслить то обстоятельство, что «лица, поименованные в качестве приближенных царя» («судная комиссия»), пытали Семена Ростовского не по факту заговора 1553 года, а в связи с его попыткой бегства в Литву, о чем с полной определенностью сказано как в основном тексте Синодального списка, так и в приписке к нему{839}. И только в процессе дознания всплыли обстоятельства, связанные с мартовскими событиями 1553 года. Однако знать заранее, какие конкретные показания даст Семен Лобанов-Ростовский, никто, разумеется, не мог. Поэтому (заметим еще раз) следственная комиссия создавалась лишь по случаю приготовления князя Семена Ростовского к бегству за рубеж, и принцип ее формирования не соответствовал тому, о чем пишет Д. Н. Альшиц. Нельзя согласиться с Д. Н. Альшицем и тогда, когда он утверждает, будто «перечисленные 11 лиц в июле 1554 г. впервые узнали от Семена Лобанова-Ростовского о том, что за год до этого, во время болезни царя, существовал заговор, имевший целью возвести на престол Владимира Андреевича»{840}. Мы иначе представляем, как у Ивана IV и преданных ему людей формировался взгляд на события начала марта 1553 года. Сопоставление приписок к летописным текстам под 1553 и 1554 гг. показывает, что первоначально (как явствует из приписки к летописной записи под 1553 годом) царь и его ближайшее окружение лишь догадывались о существовании тайного заговора придворных, преследующего цель смены правителя на московском троне. Это более или менее ясно было из мобилизации старицкими князьями служилых людей, отказа Владимира Андреевича целовать крест наследнику престола и, конечно же, из нежелания большинства Боярской Думы присягать «пеленочнику» Дмитрию. По некоторым данным можно было догадаться и о причастности к заговору конкретных лиц. Уже тогда было известно о двурушничестве боярина князя Д. Ф. Палецкого. Тогда же ходили слухи о связях с Ефросиньей и Владимиром Старицкими князя Д. И. Курлятева и печатника Н. А. Фуникова. Подозрительным могло казаться поведение Сильвестра, доброхотствующего Владимиру Андреевичу. Недоверие внушали боярин князь И. М. Шуйский и окольничий Ф. Г. Адашев, распалявшие страсти в Боярской Думе{841}. По действиям Ф. Г. Адашева, отца Алексея Адашева, и Сильвестра, друга Алексея, можно было судить о помыслах самого Алексея Адашева. Чуть позже царь Иван получил информацию, компрометирующую князей Дмитрия Немого-Оболенского, Ивана Пронского, Семена Ростовского и Петра Щенятева. Отсюда следует, что государь, как и близкие ему люди, изначально не заблуждался насчет смысла мартовских (1553) событий. Они сразу же поняли, что имеют дело с тайным заговором и попыткой государственного переворота. «Ино то у вас иной государь есть», — говорил больной царь мятежникам. В этих словах как нельзя лучше отразилось понимание сути происходящего. Были известны, как мы убедились, и отдельные лица, причастные к заговору. Предположения и догадки насчет тайного заговора, некоторые единичные факты, относящиеся к нему, получили подтверждение в показаниях князя Семена Лобанова-Ростовского, арестованного и допрошенного по другому делу. Таким образом, одно из значений приписки к Синодальному списку, помеченной 1554 годом, заключалось в том, что с момента появления приписки к Царственной книге под 1553 годом она стала служить дополнением последней, т. е. дополнением, подтверждающим существование тайного заговора против Ивана IV и расширяющим круг заговорщиков{842}. Если же свести воедино сведения Царственной книги и Синодального списка, получится длинная вереница лиц, состоявших в заговоре против царя и царевича: княгиня Ефросинья Старицкая, князь Владимир Андреевич Старицкий, поп Сильвестр, думный дворянин и постельничий Алексей Адашев, князья и бояре И. М. Шуйский, Д. Ф. Палецкий, Д. И. Курлятев, С. В. Ростовский, И. И. Пронский-Турунтай, Д. И. Немой-Оболенский, П. М. Щенятев, П. С. Серебряный, С. И. Микулинский, окольничие Федор Адашев и Семен Морозов, печатник Н. А. Фуников. В приписке к Синодальному списку после персонального перечисления бояр, не желавших целовать крест царевичу Дмитрию, следует, как мы знаем, глухая фраза «и иные многие бояре». По А. А. Зимину, «среди «многих» бояр, возможно, были князь Ф. И. Шуйский, князь П. И. Шуйский, князь А. Б. Горбатый и князь Ю. В. Темкин-Ростовский (родичи И. М. Шуйского)», а также «брат П. С. Серебряного — князь В. С. Серебряный»{843}. Князя Владимира Андреевича, полагает А. А. Зимин, поддерживал, очевидно, «его «свойственник» Ф. М. Нагой, который входил в группу бояр, выступивших против Глинских во время восстания 1547 г. Окольничий И. И. Колычев также скорее всего держался ориентировки на князя Старицкого в силу связи Колычевых с двором этого князя. Михаил и Гаврила Ивановичи Колычевы были племянниками князя К. И. Курлятева»{844}. Ценность приписки к Синодальному списку заключается не только в том, что она расширяет сравнительно с припиской к Царственной книге круг участников мартовской крамолы 1553 года, но еще и в том, что эта интерполяция раздвигает социальные рамки мятежа, указывая на причастность к нему, помимо княжеско-боярской знати, дворян и детей боярских («и дети боярские и дворяне с нами в той думе были»). Благодаря показаниям Семена Ростовского, отраженным в приписке к основному тексту Синодального списка, стали известны новые свидетельства неблаговидной активности Ефросиньи и Владимира Старицких, перезывавших к себе на службу государевых людей{845}. В результате вырисовывается более полная картина событий начала марта 1553 года, чем это изображено в приписке к Царственной книге. Следовательно, приписки к Синодальному списку и Царственной книге не противоречат друг другу, а дополняют одна другую, создавая целостное описание мартовских событий 1553 года{846}. Полагаем, что мысль об их несовместимости, принадлежащую Д. Н. Альшицу{847}, следует отбросить. Приписка 1554 года к Синодальному списку примечательна еще и тем, что позволяет судить о том, понесли ли кару участники мятежа 1553 года. Из ее содержания (в дополнение к сказанному уже выше) можно еще раз сделать вывод о том, что крамольники благополучно избежали каких-либо наказаний. Иначе трудно понять, почему на следствии Семен Ростовский столь подробно рассказывал о собственной причастности к мартовскому мятежу 1553 года. Во всяком случае, вряд ли потому, что не хотел облегчить свою участь. Напротив: ему, наверное, казалось, что, связывая свое последнее преступление с происшествием, не повлекшим наказание его участников, он может и на сей раз рассчитывать на снисхождение и милость государя. Весьма показательно и то, что князя Семена судили не по совокупности преступлений (за участие в мартовском мятеже 1553 года и за последующую измену), а только по обвинению в государственной измене, выразившейся в передаче секретной информации зарубежному послу и намерении бегства к иноземному властителю. Отсюда ясно, что вина за мятеж 1553 года была царем Иваном прощена, наказанию за нее никто не подвергался, почему она и не была предъявлена Лобанову-Ростовскому. Касаясь вопроса о судебном расследовании по делу Семена Ростовского, Р. Г. Скрынников пишет: «Боярский суд вел дело весьма осмотрительно и осторожно. Судьи намеренно не придавали значения показаниям князя Семена насчет заговора княгини Евфросиньи и знатных бояр»{848}. По нашему мнению, боярский суд не придал значения показаниям Ростовского о мартовском заговоре 1553 года не потому, что вел дело осмотрительно и осторожно, а потому, что по велению Ивана IV вопрос об этом заговоре был закрыт, а его участники прощены. Едва ли Р. Г. Скрынников прав и тогда, когда говорит, будто «показания Ростовского на суде скомпрометировали многих знатных бояр, составивших заговор в целях передачи трона удельному князю»{849}. Большая часть бояр, названных Семеном Ростовским при допросе, вызвала подозрения (а в отдельных случаях — определенную уверенность) в заговоре еще во время мартовских событий 1553 года. Поэтому князь Ростовский вряд ли мог скомпрометировать этих бояр. Он лишь подтвердил обоснованность догадок государя и преданного ему окружения относительно их принадлежности к заговорщикам. Однако Р. Г. Скрынников настаивает на том, что «судебное дознание скомпрометировало многих знатных персон», отмечая при этом старания «руководства» замять дело{850}. На наш взгляд, следовало бы говорить не о «руководстве», а о «судной комиссии». Надо думать, что на работе комиссии не могло не отразиться вхождение в нее А. Ф. Адашева, Д. И. Курлятева, Д. Ф. Палецкого, Н. А. Фуникова — лиц, причастных к мартовскому заговору 1553 года и в этом отношении являющихся сотоварищами С. В. Лобанова-Ростовского. Названные лица, особенно могущественный и влиятельный Алексей Адашев, за которым стоял не менее могущественный и влиятельный Сильвестр, сумели убедить «судную комиссию» в том, что князь Семен совершил измену не по злому умыслу, а по своему ничтожеству и глупости — «убожеству», «малоумству» и «скудоте разума»{851}. Эту явно искусственную версию Адашев поместил в официальную летопись. В данной связи Б. Н. Флоря замечает: «Алексей Адашев, работавший в конце 50-х годов над официальным продолжением «Летописца начала царства», записал в нем признания князя Семена, что тот «хотел бежати от убожества и от малоумьства, понеже скудота у него была разума». Царский советник не был заинтересован в том, чтобы предавать гласности обнаружившиеся в связи с делом князя Семена Ростовского разногласия в среде правящей элиты»{852}. «Царский советник», думается, был главным образом заинтересован в облегчении участи Семена и потому всячески выгораживал его, выдавая совершенную им государственную измену за дурацкую затею выжившего из ума старика. Не без стараний Адашева эта выдумка превратилась в официальную точку зрения. Так, согласно инструкции, данной русским послам, отъезжавшим в Польшу осенью 1554 года, на вопросы о Лобанове-Ростовском следовало отвечать, что он «малоумством шатался», что вместе с ним «воровали его племя такие же дураки»{853}. Данная инструкция, как видим, проходила по ведомству (Посольский приказ), руководителем которого являлся И. М. Висковатый, бывший, как и А. Ф. Адашев, членом следственной комиссии, образованной для суда над С. В. Ростовским. Стало быть, Висковатый присоединился к Адашеву, стремившемуся смягчить вину князя Семена. Не являлось ли это одним из проявлений начавшегося сближения Ивана Висковатого с группой Сильвестра — Адашева? Старания Алексея Адашева и других доброхотов Семена Ростовского не были напрасны, хотя внешне судебный приговор соответствовал тяжести преступления князя: «И царь и великий князь поговорил з боляры, по его делом и по его словом осудил его казнити смертию…»{854}. Но «митрополит Макарей со владыками и архимариты отпросил его от смертные казни; и послал [царь] его на Белоозеро в тюрму»{855}. Недолго князь Семен сидел в тюрьме. Вскоре он вышел из заключения, «получил земли и служил воеводой». Князь же Катырев-Ростовский, заподозренный в сообщничестве с князем Семеном, через три года после осуждения последнего произведен в бояре{856}. Перед нами все та же политика прощения и примирения, провозглашенная Иваном IV в 1549 году. Нельзя, конечно, здесь не учитывать поддержку и помощь, которую оказывали С. В. Ростовскому как своему «единомысленнику» Сильвестр и Адашев. Иван Грозный рассказывает, что после суда над ростовским князем Семеном, «собакой и изменником старым», поп Сильвестр «того собаку учал в велице брежении держати и помогати ему всеми благими и не токмо ему, но и всему его роду»{857}. Эти слова Грозного, справедливо полагает Р. Г. Скрынников, не являлись преувеличением, а тем более — домыслом{858}. По мнению исследователя, «кружок Сильвестра принял самое непосредственное участие в судьбе боярина князя С. В. Ростовского»{859}. После сказанного не покажутся преувеличением или домыслом другие слова Ивана Грозного из послания Андрею Курбскому, касающиеся боярского мятежа 1553 года: «Та же нам пришедшим в царствующий град Москву. Богу же милосердие свое к нам множащу и наследника нам тогда давшу, сына Димитрия. Мало же времени минувшу, еже убо в человеческом бытии случается, нам же немощию одержымым бывшим и зельне изнемогшим, тогда убо еже от тебе нарицаемыя доброхотны возшаташася, яко пиянии, с попоп Селивестром и начальником вашим Алексеем Адашовым, мневше нас небытию быти, забывше благодеяний наших, ниже своих душ еже отцу нашему целовали крест и нам, еже кроме наших детей иного государя себе не искати; они же хотеша воцарити, еже от нас разстояшася в коленех, князя Володимера; младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити (и како бы им не погубити!), воцарив князя Владимира… Та же Божиим милосердием, нам узнавшим и уразумевшим внятельно, и сии совет их рассыпася»{860}. Во второй редакции данного послания Грозного последнее предложение читается иначе: «Та же Божиим милосердием, нам оздравившим, и тако сии совет разсыпася…»{861}. Обе формулировки не исключают, по-видимому, друг друга. Взятые вместе, они показывают, что замысел бояр, возглавляемых Сильвестром и Адашевым, провалился вследствие выздоровления Ивана, который вскоре узнал и ясно понял суть случившегося («узнавшим и уразумевшим внятельно»{862}). Рассказ царя Ивана примечателен тем, что определяет мартовскую 1553 года акцию бояр как заговор («совет»), вдохновляемый и руководимый Алексеем Адашевым и Сильвестром. «Возшаташася, яко пиянии», — так говорится в рассказе о поведении бояр. За этим образным выражением скрывался, по нашему мнению, боярский мятеж. Перед нами, как видим, общая характеристика событий марта 1553 года, не требующая детализации. Иной взгляд у Д.Н.Альшица. «В словах царя, — замечает он, — отсутствует как раз то, что нам было бы всего желательнее в них найти. В них нет как раз указаний на то, как происходили события. Рассказ царя может одинаково подтверждать оба известных нам противоречивых варианта (приписка к Синодальному списку и приписка к Царственной книге. — И.Ф.). В самом деле, выражение письма об участниках событий «возшаташася яко пьяни» в образной форме лишь указывает на факт измены, брожения, шатания ряда лиц, но ничего не говорит ни в пользу версии о тайном заговоре, ни в пользу версии об открытом мятеже. Дальнейший текст письма, говорящий о том, что изменники, забыв присягу, «хотеша воцарити» Владимира Андреевича, также указывает лишь на цель измены, но ничего не говорит, в какой из двух обсуждаемых нами форм она имела место. Наконец, то, что когда царь поправился, «сии совет разсыпася», — одинаково верно для обоих случаев. Как и когда вскрылось дело: потом, в 1554 г., или же все происходило открыто — также неясно из письма. Не давая, таким образом, подтверждения ни тому, ни другому рассказу приписок, письмо вносит новое противоречие. Грозный пишет, что Алексей Адашев стоял во главе изменников. Благодаря этому, о роли Адашева в событиях 1553 г. имеются три взаимно исключающие друг друга версии. Согласно первой, Адашев узнал о заговоре 1553 г. в 1554 г., когда пытал Семена Лобанова-Ростовского. Царское письмо рассказывает, что, напротив, он сам был во главе изменников. Приписка к Царственной книге сообщает, что в момент открытого мятежа он в числе первых добровольно целовал крест на верность царю и царскому сыну. Уже из одного этого видно, что царь, автор трех этих рассказов, обращался с фактами самовластно, передавая их каждый раз так, как ему это казалось наиболее подходящим в каждом случае»{863}. Что можно сказать по поводу этих заявлений Д. Н. Альшица? Когда исследователь сетует на отсутствие в послании Грозного указаний на то, как происходили мартовские события 1553 года, он забывает о жанре анализируемого памятника. Жанр послания, письма не предусматривает обязательной детализации описываемых событий. Автор того или иного послания может ограничиться общим взглядом и оценкой упоминаемых им событий, не входя при этом в подробности. Иное дело летописный жанр, требующий внимания к частностям. Поэтому в данном случае важнее было бы установить, насколько рассказ Ивана Грозного, содержащийся в послании Андрею Курбскому, соответствует по смыслу припискам к Царственной книге и Синодальному списку. К сожалению, у Д.Н.Альшица тут ясности нет. С одной стороны, он полагает, что «рассказ царя может одинаково подтверждать оба известных нам противоречивых варианта», т. е. приписки к Царственной книге и Синодальному списку. С другой стороны, ему представляется, что письмо Грозного не дает подтверждения «ни тому, ни другому рассказу приписок» и «вносит новое противоречие». Д.Н.Альшицу кажется, будто письмо царя «ничего не говорит ни в пользу версии о тайном заговоре, ни в пользу версии об открытом мятеже». С этим трудно согласиться. Желание бояр «воцарить» Владимира Старицкого возникло, несомненно, в результате их взаимных консультаций и общей договоренности — совета, по терминологии Ивана Грозного. Надо полагать, желание и договоренность свою они держали втайне. Можно ли это назвать иначе, чем тайным сговором или тайным заговором? По-видимому, нельзя. Следовательно, письмо Грозного, вопреки заявлению Д.Н.Альшица, все-таки говорит в пользу версии о тайном заговоре. Этот заговор, как явствует из царского послания, обнаружил себя в открытых действиях бояр, которые Иван, склонный к художественным образам, уподобил пьяному разгулу («возшаташася, яко пиянии»). Д.Н.Альшиц тут видит, как мы знаем, «брожение», «шатание». Но ничто не мешает назвать боярские действия, направленные против воли государя, непослушанием, неповиновением и, наконец, мятежом. Следовательно, письмо Грозного, опять-таки вразрез утверждению Д.Н.Альшица, свидетельствует в пользу версии об открытом неподчинении царю, т. е. о мятеже. Стало быть, боярская измена, о которой в данном случае говорит Иван Грозный, приобрела форму тайного заговора, переросшего в открытый мятеж. Именно такой ход событий запечатлен, по нашему убеждению, посланием Грозного князю Курбскому. Нет оснований для утверждения Д. Н. Альшица, что «о роли Адашева в событиях 1553 г. имеются три взаимно исключающие друг друга версии». Мы не располагаем данными, свидетельствующими о том, будто Адашев узнал о заговоре 1553 года только во время допроса Семена Лобанова-Ростовского в 1554 году. Приписка к Синодальному списку позволяет заключить лишь следующее: Алексей Адашев в 1554 году услышал показания Семена Ростовского о мартовских событиях 1553 года. Но это отнюдь не означает, что Адашев тогда же узнал о заговоре 1553 года. Поэтому приписка к Синодальному списку никоим образом не противоречит царскому письму, говорящему об Адашеве как «начальнике» изменников. Что касается приписки к Царственной книге, то сообщаемый ею факт «добровольного», по выражению Д. Н. Альшица, целования креста Адашевым «на верность царю и царскому сыну» не решает существа вопроса. Ведь «добровольно» целовал крест и боярин князь Д. Ф. Палецкий. Но это нисколько не помешало ему тут же снестись с Ефросиньей и Владимиром Старицкими. Неизвестно, насколько искренно присягал царю с наследником и А. Ф. Адашев. Мы не знаем, что было у него в душе. Судя по поведению его отца Ф. Г. Адашева и близкого ему Сильвестра, не все там было столь однозначно и ясно, как представляется Д. Н. Альшицу. На наш взгляд, исследователю не удалось установить правильное отношение толкуемого нами сейчас текста из письма Ивана Грозного к соответствующим интерполяциям Синодального списка и Царственной книги. Со временем сам Д. Н. Альшиц убедился в непрочности своих построений и стал развивать другие идеи. Он увидел содержательное «родство приписок к Синодальному списку и письма Грозного к Курбскому»{864}. Аналогичное родство Д. Н. Альшиц обнаружил, сопоставляя послание царя Ивана Грозного князю Андрею Курбскому с припиской к тексту Царственной книги под 1553 годом. Следовательно, приписки к Синодальному списку и Царственной книге, а также послание царя Ивана князю Андрею представляют собой единый в плане содержания комплекс источников по истории мартовских событий 1553 года. Взятые вместе и выстроенные в определенном порядке, они дают возможность проследить за тем, как у Грозного мало-помалу складывалась картина боярской крамолы, происшедшей в марте 1553 года. Но при этом необходимо помнить, что все три рассказа о боярском мятеже 1553 года, содержащиеся в летописных интерполяциях и в письме Ивана Грозного к Андрею Курбскому, появились тогда, когда Грозный имел более или менее полное представления о мартовских событиях 1553 года. Признание данного обстоятельства требует иного, чем у Д. Н. Альшица, подхода к систематизации упомянутых рассказов, т. е. замены принципа хронологического принципом содержательным. Таким образом, не время появления рассказов о боярском мятеже 1553 года в летописях и царском послании, а их содержание должно быть положено прежде всего в основу изучения данной проблемы. С этой точки зрения поздние приписки могут содержать более ранние сведения, чем приписки, составленные прежде. И здесь первой надо назвать приписку к тексту Царственной книге под 1553 годом{865}. В этой приписке отражены первоначальные впечатления Ивана Грозного, вызванные событиями 1553 года. Они еще преимущественно основаны на предположениях и догадках, вполне правомерных, но не вполне доказанных. Некоторые факты, ставшие известными царю Ивану во время мятежа и вскоре после него, еще недостаточны, чтобы явить полную картину случившегося в марте 1553 года. Таков характер приписки к Царственной книге. Но составлялась эта приписка, как установлено наукой, значительно позднее 1553 года{866}, собственно, тогда, когда Иван Грозный знал все, что можно было знать о мартовских событиях названного года, во всяком случае, намного больше того, что заключено в данной приписке. Казалось бы, весьма осведомленный составитель приписки должен был воспользоваться случаем, чтобы внести в летопись (Царственную книгу) по возможности исчерпывающий рассказ о боярском мятеже 1553 года. Однако он так не поступил, оставив многое за скобками своего повествования. Возникает вопрос: почему? Полагаем, не потому что обращался с фактами, как считал Д. Н. Альшиц, «самовластно, передавая их каждый раз так, как это ему казалось наиболее подходящим в каждом случае». Напротив, автор приписки, демонстрируя приверженность исторической правде, воспроизвел мартовские события 1553 года такими, каковыми они были в действительности и как они виделись ему в тот момент. Тот же принцип приверженности исторической правде лег в основу составления приписки к Синодальному списку. Ее сведения, дополняющие рассказ Царственной книги, основаны, как известно, на документальном материале — судном деле боярина князя Семена Ростовского 1554 года{867}. Необходимо отметить, что эта приписка в изложении фактов боярского мятежа 1553 года не выходит за рамки показаний, добытых в процессе следствия. Для определения правдивости приписки это особенно важно, если учесть, что она составлялась в то время, когда Ивану Грозному стали известны факты, не показанные Лобановым-Ростовским, в частности такой фундаментальный факт, как тайное руководство боярским мятежом 1553 года со стороны Сильвестра и Адашева. Никто не мог помешать Ивану Грозному рассказать об этой роли своих бывших фаворитов в приписке к Синодальному списку. Но он не стал править показания Ростовского и воспроизвел их без изменений, следуя принципу исторической правды. И только через десять лет, когда тайное стало явным, когда обнаружилось, кто управлял мартовским мятежом 1553 года, царь назвал имена Сильвестра и Адашева в своем разящем послании Андрею Курбскому. Здесь же он дал общую оценку тому, что случилось в марте 1553 года. Таким образом, понимание подлинной сути мартовских событий 1553 года пришло к царю Ивану не сразу, а постепенно, по мере обнаружения неизвестных ему ранее обстоятельств и появления новых свидетельств. Приписки к Царственной книге и Синодальному списку, послание Грозного князю Курбскому следует рассматривать как отражения этапов прозрения Ивана IV относительно действительного смысла события марта 1553 года. Как они видятся современному исследователю — вот вопрос, на который пришла пора ответить. Среди новейших историков, пожалуй, один И. И. Смирнов приблизился к пониманию подлинной сути мартовских событий 1553 года, воспринимая их как «попытку реакционных княжеско-боярских кругов произвести государственный переворот и захватить власть в свои руки»{868}. Тут все, на наш взгляд, верно, за исключением «княжеско-боярских кругов», поскольку состав участников государственного переворота выходил за рамки отдельных общественных категорий{869}. Тем не менее, И. И. Смирнов выгодно отличается от тех исследователей, которые стараются упростить проблему, сводя случившееся в 1553 году то к «боярскому брожению»{870}, то к «толкам в Боярской думе»{871}, то к «самым общим разговорам»{872}, то к «спорам или просто каким-то разговорам», ставшим впоследствии известным царю{873}. Не обошлось без попыток изобразить происшедшее в марте 1553 года как заурядный дворцовый эпизод, типичный не только для Руси, но и для государств Западной Европы. «Следует отметить, — говорил Б. Н. Флоря, — что для русского двора середины XVI века, как и для любого другого европейского двора того времени, была характерна постоянная борьба отдельных групп знати за степень участия во власти и за влияние на государя. В условиях, когда монарх уверенно выступал в традиционной роли верховного арбитра в отношениях между этими группами, такая борьба протекала в скрытой форме, но когда монарх (по тем или иным причинам) не мог выполнить эту роль, трения вырывались наружу. Это и произошло во время царской болезни»{874}. То была, по мысли Б. Н. Флори, «банальная история из сферы дворцовых интриг», «не имевшая никаких серьезных последствий»{875}. С этими положениями исследователя невозможно согласиться, ибо в марте 1553 года решался вопрос не о степени участия отдельных дворцовых групп во власти и о мере влияния их на царя, а об узурпации власти и передаче ее новому монарху с целью изменения государственно-политического строя Руси. Нельзя согласиться также и с Р. Г. Скрынниковым, когда он утверждает, будто «перемена лица на троне едва ли изменила бы главные тенденции политического развития государства, тем более что сторонник реформ А. Адашев и его сотоварищ Сильвестр ориентировались скорее на Старицких, чем на Захарьиных»{876}. В марте 1553 года решался вопрос отнюдь не о простой перемене лица на троне, перемене, не затрагивающей религиозно-политические основы власти московского государя. Одно дело — возведенный на царский трон Дмитрий, являющийся прямым наследником российского самодержца, восприемником всей полноты самодержавной власти, дарованной Богом. Другое дело — Владимир Старицкий, оказавшийся на троне не по «Божьему изволению, а по человеческому хотению». В случае с ним власть московского правителя теряла в значительной мере ореол божественного происхождения, а значит, и сакральный характер. Тем самым наносился непоправимый урон теократическому самодержавию, едва возникшему на Руси. Кроме того, переход трона к Старицкому таил опасность, угрожающую чистоте и незыблемости православной веры. Достаточно вспомнить, что ересь, снова поднявшая голову на Руси в середине XVI века, «свила себе гнездо… при дворе княгини Ефросиньи Старицкой»{877}. Известно также о том, что «Ефросинья охотно покровительствовала иноземцам, что двое ближних ее боярынь были немками…»{878}. Нетрудно догадаться, перед какой незавидной перспективой оказалось бы Святорусское царство, взойди на трон Владимир Старицкий, находившийся под сильным влиянием своей матери — женщины властной, всеми фибрами души ненавидевшей московское самодержавство. «Перемена лица на троне» влекла за собой и очень важные политические последствия, касающиеся прерогатив власти московского государя. Ставленник придворной клики Владимир Старицкий уже по этому своему качеству не мог быть полновластным правителем, независимым от тех, кто посадил его на царский престол. Не исключено, что у старицкого князя с партией Сильвестра — Адашева состоялась некая договоренность относительно условий, на которых предстояло ему править. И, конечно же, то были условия, связанные с ослаблением самодержавных прав московского властителя и усилением значения советников, что, как мы знаем, соответствовало установкам Избранной Рады. Тем самым создавалась реальная почва для применения положений статьи 98 Судебника 1550 года, предусмотрительно введенной в законодательство Избранной Радой и являющейся, по определению многих авторитетных исследователей, конституционным актом, ограничивающим самодержавную власть. Но это не все. «Перемена лица на троне», обусловленная волей большинства Боярской Думы, есть в сущности избрание верховного правителя. Поэтому «воцарение» Владимира Старицкого создавало прецедент, открывая возможность установления нового порядка замещения царского стола, основанного не на наследовании, а на избрании, т. е. порядка, схожего с тем, который существовал тогда в Польско-Литовском государстве{879}. Андрей Курбский, как известно, отрицал замысел мятежников посадить на царство Владимира Старицкого. В третьем послании Грозному он писал: «А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его хотели на государство; воистину, о сем не мыслих, понеже и не достоин был того»{880}. Если Курбский говорил здесь правду, то не всю, а лишь касающуюся князя Старицкого. У бояр, похоже, имелся еще один вариант плана передачи царского стола. Иван Грозный, обращаясь к Андрею Курбскому, говорит: «Тако же убо и вы… похотеста в царствии царей достойных истребити, да еще и не от наложницы, но от царствия разстоящеся колена, и хотеста воцарити. И се ли убо доброхотны есте и души за мя полагаете, еже, подобно Ироду, сущего млеко младенца моего смертию погубною хотесте света сего лишити, чюжого же царя в царство ввести?»{881} Нет сомнений, что Грозный в данном случае имел в виду мартовские события 1553 года, во время которых, как явствует из его слов, крамольники хотели «воцарити» Владимира Старицкого — дальнего родственника («от царствия разстоящеся колена»){882} царя Ивана. Но они разрабатывали и второй вариант плана, предусматривающий передачу московского престола «чужому царю», которого не следует смешивать с князем Владимиром Андреевичем Старицким. «Нам кажется трудным предположить, — писал В. Д. Королюк, — что под «чюжаго же царствия царем» Грозный понимал удельного князя Владимира Андреевича Старицкого»{883}. В. Д. Королюк ищет «чужого царя» на Западе, в Литве и Польше, полагая, что появление его на московском престоле означало бы нечто подобное унии Руси с Польско-Литовским государством{884}. Так открывается иноземный элемент в мартовском мятеже 1553 года. В этой связи существенное значение приобретает догадка А. Л. Хорошкевич о том, что «конфликт 1553 г.» был инспирирован «агентами Сигизмунда Августа»{885}. Возможно, А. Л. Хорошкевич несколько преувеличивает роль польских агентов в событиях марта 1553 года, но без их работы вряд ли могла возникнуть идея «чужого царя в царство ввести». Не исключено, что эту идею поддерживал князь С. В. Ростовский и те, кто собирался вмести с ним бежать в Литву, где знали об их пособничестве и готовы были предоставить им укрытие от преследований на Родине. Таким образом, «перемена лица на троне» была бы не столь безобидной, как кажется Р.Г.Скрынникову. Произойди она, существенным образом изменился бы вектор религиозной и политической истории России. Мартовские события 1553 года в данном отношении являют собою нечто вроде развилки истории русской государственности, открывающей два пути дальнейшего ее развития. Один путь, указываемый Избранной Радой, направлял Русь в сторону западных религиозных реформации и вел московское «самодержавство» к ограниченной монархии, а другой, обозначенный венчанием Ивана IV на царство, — к укреплению союза русской церкви с государством и восстановлению самодержавных начал, поколебленных Избранной Радой. Если говорить о непосредственных результатах мартовского мятежа 1553 года, необходимо отметить, что этот мятеж, несмотря на неудавшуюся попытку смены властителя на троне, заметно ослабил власть царя Ивана, а власть так называемых советников его, деятелей Избранной Рады, напротив, усилил. Подтверждение тому находим в одной, казалось бы, неприметной летописной записи, повествующей об отправке осенью 1553 года русского войска в поход на Астрахань. Как свидетельствует летописец, окончательное решение по данному вопросу принимали Алексей Адашев с Иваном Висковатым: «И по цареву и государеву велению и по приговору околничей Алексей и диак Иван приговорили на том, что царю и государю великому князю послати Дербыша-царя на Асторохан да воевод своих в судех Волгою многих и с нарядом <…> и нечто, даст Бог, възмут Астороханьской юрт и царевых и великого князя воеводам посадить на Асторохань царя Дербыша»{886}. По словам А. Л. Хорошкевич, «в этой летописной записи авторами «приговора» наряду с самим царем называются Адашев и Висковатый. Они выступают в двоякой роли: то равных государю (вынося «приговор»), то распорядителей его воли (решая дело в соответствии с его «велением» и «приговором»). Парадоксальность этой ситуации — лучшее доказательство причастности Адашева и соответственно Избранной рады к решению внешнеполитических задач»{887}. Не все в данном комментарии А. Л. Хорошкевич, на наш взгляд, убедительно. Так, вызывает сомнение ее мысль насчет «парадоксальности ситуации», представленной в интересующей нас сейчас летописной записи. Эта запись, судя по всему, запечатлела возникшее в результате мартовского мятежа 1553 года реальное соотношение властных возможностей Алексея Адашева «и соответственно Избранной Рады», с одной стороны, и царя Ивана IV — с другой. И тут важно отметить, что «приговор» Адашева и Висковатого обращен не только к царским воеводам, превосходящим родовитостью как окольничего, так и дьяка, но и к самому государю («приговорили на том, что царю послати»). Кроме того, «приговор» предписывает воеводам, в случае взятия Астрахани, посадить на ханский стол «царя Дербыша». Все это нельзя рассматривать иначе, как покушение на верховную власть и явное ущемление самодержавной власти Ивана. Следует оценить тот факт, что разбираемая нами летописная запись внесена в известный Летописец начала царства, к составлению которого, как не раз уже отмечалось выше, имел прямое отношение Алексей Адашев. Данный факт делает еще более очевидными притязания Адашева «и соответственно Избранной Рады» на высшую власть в России. По верному наблюдению А. А. Зимина, «вскоре после событий 1553 г. позиции Адашевых и их сторонников усиливаются»{888}. Однако с историком трудно согласиться, когда он говорит, что «влияние Сильвестра и его нестяжательского окружения с 1553 г. резко падает»{889}. Нельзя, на наш взгляд, отрывать Сильвестра от Адашева. Эти деятели находились в тесном единстве до самого конца своей политической карьеры, являясь лидерами одной придворной партии. Поэтому укрепление позиций Адашева косвенно указывает на упрочение положения Сильвестра и наоборот. Показателем ослабления власти царя Ивана после мартовских событий 1553 года служат также факты, свидетельствующие о возросшей политической силе Владимира Старицкого. В исторической литературе высказывалось мнение, что «около 1554–1556 гг. Иван IV пошел на известные уступки князю Владимиру Андреевичу. Вероятно, к этому времени относится передача старицкому князю ряда волостей в Дмитровском уезде, в бывших владениях князя Юрия Ивановича, на которые давно претендовал Владимир»{890}. Но особенно примечательно то, что в крестоцеловальной записи Владимира Андреевича на имя царя Ивана и царевича Ивана (1554) старицкий князь фигурирует в качестве регента при малолетнем наследнике{891}, тогда как в крестоцеловальной записи на имя государя и царевича Дмитрия (1553) этого нет{892}. Д. Н. Альшиц, обративший внимание на данную особенность крестоцеловальных записей, увидел здесь свидетельство о росте доверия царя Ивана к Владимиру Андреевичу{893}. Вряд ли это так, поскольку мартовские события 1553 года навсегда поселили в Ивана настороженность в отношении Владимира Старицкого. Вот почему появление в крестоцеловальной записи 1554 года старицкого князя в роли опекуна при несовершеннолетнем наследнике престола говорит, по нашему мнению, не столько о росте доверия Ивана IV к Владимиру, сколько о возросшей политической силе последнего, а точнее сказать, о возросшей власти придворной группировки Сильвестра — Адашева, поддерживающей стремление удельного правителя сесть на московский трон. Итак, приведенные факты рисуют довольно сложную ситуацию, сложившуюся в высшем эшелоне власти после мартовского мятежа 1553 года, а лучше сказать, после выхода на историческую сцену в конце 40-х годов XVI века Избранной Рады. Противникам царя Ивана в ходе хитрой политической игры и ожесточенной борьбы удалось в определенной мере если не ограничить, то потеснить самодержавие московского государя. Как выражается В. М. Панеях, «самодержавные амбиции первого русского царя при данном раскладе политических сил оказывались не во всем удовлетворенными»{894}. Установилось в некотором роде неустойчивое равновесие самодержавной власти и враждебных ей сил. Было неясно, какая чаша перевесит. Перевесило все же русское самодержавие как более других государственных форм соответствующее «реальным социально-экономическим и политическим условиям развития страны»{895}. К сожалению, из-за отсутствия соответствующих источников современный исследователь не может проследить, какие конкретные обстоятельства склонили чашу весов в его пользу. Но зримым рубежом перелома в соотношении сил двух враждебных сторон следует, по всему вероятию, считать начало Ливонской войны. * * *По словам С. Ф. Платонова, «московские умы, занимавшиеся вопросами внешней политики, должны были в то время держаться двоякой «ориентации». Для одних главною задачею момента было укрепление за Москвою сделанных ею завоеваний и оборона, по возможности активная, южных границ. Для других очередным делом представлялось приобретение торговых путей на западе и выход на Балтийское море. Первые считали главным врагом Москвы крымцев, а за ними турецкого султана. Вторые считали своевременным удар на Ливонию, которой не могли в данную минуту помочь ни Швеция, ни Литва, только что связавшие себя мирными трактатами с Москвой. Первых следует считать более осторожными политиками, чем вторых; вторые же, без сомнения, были более чуткими и смелыми людьми. К первым принадлежали Сильвестр и его друзья — рада; на сторону вторых стал сам Грозный»{896}. С. Ф. Платонов, впрочем, затрудняется сказать, куда настойчивее в тот момент «звало время» — на Ливонию или Крым. Но ему ясно, что поход с большим войском на Крым «представлял величайшие трудности, а Ливония была под рукою и явно слаба. Наступать через Дикое поле на Перекоп тогда надобно было с тульских позиций, так как южнее Тулы уже «поле бе», то есть начинались необитаемые пространства нынешней черноземной полосы, и в них не было еще таких опорных пунктов, какими в свое время против Казани стали Васильсурск и Свияжск. Активная оборона южной окраины и ее постепенное заселение были делом исполнимым и целесообразным, и поскольку это дело занимало раду Сильвестра, постольку рада была права. Но фантастический проект перебросить через Дикое поле всю громаду московских полевых войск на Черноморское побережье был, вне всякого сомнения, неисполним. Он являлся вопиющим нарушением осторожной последовательности действий. Только через двадцать лет после этого проекта Москва достигла заметных результатов в деле заселения и укрепления Дикого поля и перенесла границы государственной оседлости с тульских мест приблизительно на р. Быструю Сосну. В начале XVII века с Быстрой Сосны, от Ельца и Ливен, первый самозванец предполагал начать свой поход против татар и турок. Но и этот поход был, конечно, политическою мечтою авантюриста, а не зрелым планом государственного дельца. В исходе XVII века с еще более южной базы пробовал атаковать Крым князь В. В. Голицын, но, как известно, безо всякой удачи. Позднейшие и более удачные походы в Черноморье Петра Великого и Миниха столь же наглядно, как и походы Голицына, показали громадные трудности дела и послужили тяжким, но полезным уроком для последующих операций»{897}. С. Ф. Платонов полагал, что Сильвестр с Избранной Радой толкали Ивана Грозного «на рискованное, даже безнадежное дело», тогда как «время звало» Москву «на запад, к морским берегам»{898}. К этому надо добавить, что внушаемая Избранной Радой царю Ивану идея мира на западе и войны на востоке вполне соответствовала дипломатии Габсбургов и папской курии, отводивших Москве роль застрельщика в осуществлении задач антитурецкой лиги. Прозападная внешняя политика Избранной Рады шла, таким образом, вразрез с национальными интересами Русского государства. К чести Ивана Грозного нужно сказать, что он, обладая гениальной прозорливостью, поднимался до осознания враждебности России не отдельных западных стран, а всей Западной Европы в целом. Поэтому его не раз посещала мысль о создании русско-турецкой антиевропейской лиги{899}. Он хотел, чтобы турецкий султан бы с ним «в братстве и любви и заодин был бы на цесаря римского и на польскаго короля и на чешскаго и на французского и на иных королей и на всех государей италийских»{900}. Отсюда ясно, что время действительно звало Москву на запад, но отнюдь не только к морским берегам. Между тем в историографии, в особенности советской, утвердилось мнение, согласно которому «очень важное значение для Русского государства имело разрешение прибалтийского вопроса, установление нормальных экономических связей с Западной Европой. Правительство Ивана IV правильно поняло насущность этой внешнеполитической проблемы и начало упорную двадцатипятилетнюю борьбу за выход и утверждение на Балтике. Программа борьбы за Прибалтику отвечала интересам не только русского дворянства, но и посадской верхушки. Дворянство рассчитывало на новые поместные раздачи земель в Прибалтике. Кроме того, все больше втягивающееся в рыночные отношения дворянское хозяйство нуждалось в установлении систематических торговых отношений со странами Восточной и Западной Европы. Особенно большое значение торговля через Прибалтику имела для растущих русских городов. Русское купечество стремилось к тому, чтобы открыть русским товарам европейские рынки. Поэтому вполне естественно, что дворянство и посадские верхи поддерживали это направление русской внешней политики»{901}. Сравнительно недавно В. М. Панеях подверг сомнению это укоренившееся в историографии мнение. Причину Ливонской войны, говорит он, «обычно связывают с интересами внешней торговли, нуждавшейся в выходе на Балтику. Однако власть вряд ли это осознавала. Когда в результате успешной кампании весны — лета 1558 г. русское войско вышло на берега Финского залива, здесь даже не приступили к строительству торговых портов, а стали раздавать земли в поместья»{902}. Усомнилась в данном мнении и А. Л. Хорошкевич: «В советской историографии, как правило, подчеркивались внешнеторговые перспективы присоединения Прибалтики. Действительно, расширение границ на запад и завоевание морских портов сулило России свободу торговли, открывало то окно в Европу, в котором в наибольшей степени нуждалось русское купечество и, в первую очередь, сам царь — крупнейший поставщик русской пушнины на мировой рынок и потребитель сукон и предметов роскоши, поступавших с запада. Поддержка русским крупнейшим купечеством Ивана IV в его стремлении к Балтике и создала превратное представление у историков нашего времени, будто царь не только ясно и четко осознавал пользу прямых торговых контактов со странами Северной, Западной и отчасти Центральной Европы, но именно торговые интересы и толкали его к войне с Ливонским орденом. Этот, с нашей точки зрения, объективный фактор был, возможно, не главным в ряду причин, приведших к началу Ливонской войны. Для государя России середины XVI в. мог быть более весомым «субъективный» фактор — стремление обладать «всею вселенною», гипертрофированное желание утвердить себя в качестве истинного и законного преемника и наследника Пруса. Кроме того, достаточно уверенно в литературе того времени звучит тема России как последнего православного царства и его главы как наследника православного императора. Даже если доктрина «Москва — третий Рим» не стала политическим обоснованием нападения на Ливонию и вообще внешних акций Российского государства, то она, как и «Сказание о князьях владимирских», создавала базу для развития и поддержания идеи о божественном происхождении и назначении главы Российского царства. Одна из функций его — поддержание истинного христианства, а посему ему надлежало вести борьбу с ересями как в пределах России, так и вне ее»{903}. А. Л. Хорошкевич устанавливает «еще один объективный фактор, способствовавший эскалации войны Россией — присоединение двух ханств — Казанского и Астраханского — и подчинение одной орды — Ногайской. Большая часть населения этих государственных образований привыкла добывать пропитание и одежду путем грабежа и захвата. Перестройка хозяйств новоприобретенных земель, разумеется, не произошла. Вхождение их в состав Российского царства поставило перед его главой задачу обеспечения знатной верхушки покоренных ханств средствами существования. Иной альтернативы, кроме войны, в то время у России объективно не было»{904}. Наконец, по А. Л. Хорошкевич, существенное значение в выборе Иваном IV направления военных действий «сыграл Посвольский договор 15 сентября 1557 г. Великого княжества Литовского и Ордена, создавший угрозу установления литовской власти в Ливонии»{905}. Трудно согласиться со всеми мыслями А.Л.Хорошкевич, но ее заключение о том, что выход к морским берегам и внешнеторговые интересы России не являлись главными «в ряду причин, приведших к Ливонской войне», представляется нам плодотворным. Оно позволяет несколько иначе взглянуть на события того времени, чем принято в историографии, включая, впрочем, и труд А.Л.Хорошкевич. Завоевание Казанского и Астраханского ханств заметно улучшило безопасность южных границ России. Это позволяло русским повернуться на запад и сосредоточиться на главном и наиболее опасном противнике, олицетворяемом Польшей, Литвой и Ливонским орденом. Если со стороны мусульманского Востока Русскому государству угрожали разорительные военные набеги и домогательства по части уплаты даней, не затрагивающие основ его внутренней жизни, то со стороны католического и протестантского Запада шла политическая и религиозная экспансия, ставящая под сомнение само существование Святой Руси с ее важнейшими институтами — самодержавием, православной верой и церковью. Именно Запад принимал и укрывал изменников и государственных преступников; прямо или косвенно поддерживал политические интриги, направленные против самодержавной власти Ивана IV, превращенного западной пропагандой в кровавого тирана. Именно с Запада накатывались на Русь волны папской агрессии; оттуда же проникали в Россию и ереси, разрушавшие православную веру и апостольскую церковь, следовательно, — русскую государственность. Навредив порядком на Руси, еретики, спасаясь от справедливого наказания, бежали (и это — факт!) на Запад, в соседние Литву и Польшу, находя там надежное укрытие. Вот почему Иван Грозный, начиная Ливонскую войну, старался защитить свое царство с наиболее опасного западного рубежа, а отнюдь не стремился, как наивно считает А. Л. Хорошкевич, «обладать «всею вселенною», чтобы удовлетворить свое «гипертрофированное желание утвердить себя в качестве истинного и законного преемника и наследника Пруса». Хотя Иван и был отчасти мечтателем, но не до такой степени, как полагает А. Л. Хорошкевич. И уж совсем несправедливо корить Россию за эскалацию войны, как это делает А. Л. Хорошкевич. Война была неизбежной{906}. «Вина» царя Ивана состояла лишь в том, что он сумел выбрать самый благоприятный для России момент начала похода на Ливонию{907}. Итак, «время звало» Москву на запад, но не только к морским берегам, а к достижению таких жизненно важных для России геополитических перемен, которые позволили бы ей сохранить свою национальную, государственную, религиозную независимость и самобытность. В условиях ползущей из западных стран экспансии этого можно было добиться, лишь сдвинув границы Руси на запад и взяв под контроль важнейшие портовые города, расположенные, кстати сказать, на землях, находившихся раньше в сфере русского влияния, утраченного в результате управляемого папской курией германского «натиска на Восток»{908}. Сопротивление такой политике, шедшее со стороны Избранной Рады и ее лидеров являлось предательством национальных интересов России{909}. Иван IV преодолел это сопротивление, что свидетельствовало о приближающемся конце всевластия Сильвестра и Адашева. Но пока партия Сильвестра — Адашева была еще сильна. И царю Ивану было, по-видимому, очень не просто заставить замолчать в Думе горластых противников военной кампании на западе. Говоря о противниках и сторонниках войны с Ливонским орденом вообще, не следует, на наш взгляд, делить их по социальному признаку: бояре — противники, дворяне и богатые торговцы — сторонники. Линия раздела между ними проходила не в общественной, а религиозно-политической сфере, характеризуемой положительным или отрицательным отношением к самодержавию Ивана, соблюдением или нарушением чистоты православия и незыблемости православной церкви. За Иваном IV шла часть боярства, причем, похоже, большая часть, если судить по возобладанию решения воевать с Ливонским орденом, а не с Крымским ханством. Несомненно и то, что в числе противников войны на западе были, помимо бояр, и дворяне, так или иначе связанные с княжеско-боярской знатью{910}. Несмотря на свое поражение, противники войны с немцами не складывали оружия, перейдя к скрытым методам борьбы, переходящей нередко в прямую измену и предательство. А. Л. Хорошкевич описывает примечательный в данной связи случай. «Началу военных действий, — говорит она, — предшествовал весьма любопытный эпизод. Павел Петрович Заболоцкий, «знатый боярин», названный гонцом фогта Нейшлосса «Bawick», предупреждал о грозящем Ливонии нападении царского войска из Пскова, причем в этом походе он должен был участвовать и сам. «Bawick» советовал свезти весь хлеб в замок, пока войско еще не покинуло Пскова. 11 января 1558 г. фогт передал новость ливонскому магистру, позднее аналогичное сообщение поместил Й. Реннер в своей хронике, добавив, что русский воевода был очень хорошо настроен по отношению к немцам («gut deutsch»)»{911}. П. П. Заболоцкий, по всему вероятию, принадлежал к партии Сильвестра — Адашева. Главой войска, выступавшего из Пскова в поход на Ливонию, был назначен, как известно, бывший казанский хан Шигалей (Шах-Али){912}. По некоторым известиям, татарин не обрадовался такому назначению и, согласно многочисленным слухам, не хотел воевать с немцами{913}. Его нежелание сражаться с ливонцами во многом объяснялось влиянием А. Ф. Адашева, с которым он, по догадке некоторых исследователей, находился в близких отношениях{914}. По-видимому, эти отношения завязались во время пребывания Шигалея в конце 40-х годов при царском дворе в Москве{915}, когда к власти пришла Избранная Рада со своими вождями Сильвестром и Адашевым. Впрочем, у Шигалея имелись и свои резоны: будучи наследником ханов Большой Орды, Шах-Али враждовал с крымскими Гиреями, претендовавшими на Казань{916}. Этим также объясняется его заинтересованность «в проведении восточной политики»{917}. Важно, однако, отметить согласие Шигалея и Адашева относительно внешнеполитических приоритетов Русского государства середины XVI века, их общее стремление воевать с Крымом, а не с Ливонским орденом. Не потому ли и не по инициативе ли Адашева Шигалей был поставлен командовать царским воинством в походе на Ливонию?. В январе 1558 года Шигалей во главе сорокатысячного войска{918}, сконцентрированного в районе Пскова, перешел ливонскую границу. Орден оказался бессилен перед лицом русских войск, которые «Немецкую землю повъевали и выжгли и людей побили въ многих местех и полону и богатства множество поймали»{919}. Были взяты Новгородок, Алыст, Корслов, Костер{920}. Казалось, следовало бы развивать успех. Но Шигалей ни с того ни с сего ушел из Ливонии и, «вышедчи» из нее, отправил послания ливонскому магистру, рижскому архиепископу и дерптскому епископу, наивно предлагая им «исправитца», начать переговоры с Иваном IV и покориться ему. Произошло это, по всему вероятию, не без стараний Сильвестра и Адашева. У нас нет причин подозревать Ивана Грозного в неправде, когда он рассказывает: «Како убо, егда начася брань, еже на германы, тогда посылали есмя слугу своего царя Шихалея и боярина своего и воеводу князя Михаила Васильевича Глинсково с товарыщи германы воевати и от того времени от попа Силивестра и от Алексея и от вас каковая отягчения словесная пострадах, ихже несть мощно подробну изглаголагати! Еже какова скорбная ни сотворится нам, то вся сия герман ради случися!»{921}. И еще: «Како же убо воспомяну о германских градех супротисловия попа Селивестра и Алексия Адашова и всех вас на всяко время, еже бы не ходити бранию…»{922}. Историки по-разному рассматривают прекращение военных действий русскими зимой 1558 года. «Первое вторжение русской армии в пределы Ливонии, — говорит В. Д. Королюк, — не преследовало цели осады и захвата городов и замков. В его задачи входило разведать силы противника и настроение местного населения»{923}. Вместе с тем «параллельно в Русском государстве велись приготовления к организации планомерного завоевания Прибалтики»{924}. И вот для того, чтобы скрыть эти приготовления и «усыпить бдительность встревоженных январским походом 1558 г. Литвы, Польши, Швеции и Дании», Шигалей прервал столь успешно начатую кампанию и вернулся в Псковскую область{925}. Январский поход 1558 года Б. Н. Флоря назвал «скромным военным предприятием», представлявшим собою «военную демонстрацию, которая должна была принудить Орден отказаться от своей тактики саботажа финансовых претензий царя»{926}. По мнению Б. Н. Флори, русское правительство, посылая войска в Ливонию, «еще не приняло решения о войне. Речь шла о мерах давления, которые должны были заставить Орден выполнить взятые на себя обязательства. Не случайно, возвращаясь из похода, командующий войсками касимовский хан Шах-Али призывал власти Ордена, «будет у вас есть хотения перед государем исправитца», прислать в Москву послов, обещая в этом случае вместе с боярами ходатайствовать за них»{927}. Сходным образом рассуждает И. Граля. Он пишет: «Учитывая военный потенциал Ордена, сближение Ливонии с Польско-Литовским государством и назревающий конфликт с Данией, зимнее наступление царский войск было задумано лишь как демонстрация силы с целью вынудить ливонцев сесть за стол переговоров, которые в конечном итоге могли привести к подчинению Ливонии власти Ивана IV. Об этом свидетельствуют и два послания-манифеста, которые командующий московским войском Шах-Али направил магистру Ордена и церковным иерархам Ливонии, уговаривая их положиться на царскую милость, выплатить задолженность, но прежде всего — возобновить переговоры»{928}. Более убедительной нам представляется догадка А. Л. Хорошкевич, по словам которой «уже на первом этапе Ливонской войны дали знать о себе разные подходы к этому военному начинанию царя. Задуманный с огромным размахом, поход разбился о подводные камни внутриполитических разногласий, которые сопровождали Ливонскую войну на протяжении почти всего ее хода»{929}. Что касается посланий Шигалея, то царь Иван, «уступая боярской оппозиции, возглавляемой или вдохновляемой Сильвестром и Алексеем Адашевым», «приказал направить эти послания ливонским властям»{930}. Отдавая в данном случае должное исторической интуиции А.Л.Хорошкевич, следует все же заметить, что она сглаживает остроту ситуации, говоря о «разных подходах к военному начинанию царя» и «внутриполитических разногласиях» по данному вопросу в правящей верхушке, тогда как, по нашему убеждению, речь должна идти о предательстве России придворной партией Сильвестра — Адашева, способствующей успеху противника и военному поражению своей страны. Это предательство выступало в разной форме, в том числе в виде саботажа и нерадивости. Иван Грозный, вспоминая о возобновлении военных действий летом 1558 года, говорит Андрею Курбскому: «Егда же вас послахом на лето на германские грады, — тебе бо тогда сущу в нашей вотчине, во Пскове, своея ради потребы, а не нашим посланием, — множае убо седми посланников послали есмя к боярину нашему и воеводе, ко князю Петру Ивановичу Шуйскому, и к тебе; вы же егда поидосте с малейшими людьми, и нашим многим посланием напоминанием множае пятинадесять градов взясте. Ино, се ли убо тщание разума вашего, еже нашим посланием напоминанием грады взясте, а не по своему разуму»{931}. Все это не похоже на выдумку. И что же мы видим? Мы видим одного из виднейших военачальников, занятым в военное время своими нуждами и, следовательно, не радеющим о воинских делах. Мы видим двух воевод, игнорирующих приказы государя, которому приходится неоднократно («множае убо седми») отдавать эти приказы, пока воеводы изволят подчиниться им, а точнее — имитировать послушность. Мы, наконец, видим безынициативных командиров, действующих на территории врага не по собственному желанию и разумению, а по принуждению и указаниям из Москвы. Трудно все это именовать иначе, чем неисполнение долга и нарушение присяги, данной государю. А. Л. Хорошкевич, комментируя цитированный текст из письма Грозного Курбскому, замечает: «Оппозиционные настроения по отношению к Ливонской войне… дали о себе знать уже накануне ее. Должно быть, у Ивана IV имелись основания для жалоб на П. И. Шуйского и А. М. Курбского, которым он якобы направил семь посланий…»{932}. Слово «якобы» выдает недоверчивое отношение исследовательницы к свидетельствам Ивана Грозного. И все же она вынуждена признать обоснованность высказанных царем претензий к Шуйскому и Курбскому. Вряд ли стоит называть их жалобами, как это делает А. Л. Хорошкевич. Грозный не жаловался, а обвинял! Не следует также, на наш взгляд, прибегать к неопределенному выражению «оппозиционные настроения», когда налицо, если называть вещи своими именами, неповиновение государю, правда завуалированное и скрытое. Эту и ей подобные акции на Западе могли только приветствовать. Надо сказать, что уже первый поход на Ливонию зимой 1558 года вызвал настоящий переполох в Европе, став предметом толков на имперских, региональных и ганзейских съездах, во множестве летучих листков и в частной корреспонденции{933}. Из одного безымянного конспективного обзора международной конъюнктуры в начальный период Ливонской войны, хранящегося во флорентийском архиве Медичи, узнаем о том, что «польский король, герцог саксонский, свободные города Северной Германии (del mare di Germania) совместно решили потребовать от «Московита», чтобы он отступил в пределы своей земли и покинул Ливонию. «Московит» ответил на это, что он так и сделает, но сначала возвратит те земли, которые ливонцы оккупировали. И после того, как ливонцы пообещают, что в будущем не будут менять границ, строить укрепления, они останутся в пределах своей страны»{934}. Короли и государи, получившие такой ответ, «стали помышлять о войне, но не для того, чтобы помочь Ливонии, а чтобы удержать этого «варвара»{935}. Западная пропаганда превращала Ивана Грозного «в «наследственного врага христианства» (Erbfeind der Christenheit), а его подданных в «кровавых собак московитов»{936}. Цивилизованному Западу мерещилось, будто на него с востока надвигается нечто громадное и опасное. Один французский протестант, Юбер Лангэ, проживавший в саксонском Виттенберге, в таких гиперболических выражениях писал Кальвину: «Московский государь опустошил почти всю Ливонию и взял города Нарву и Дарбат [Дерпт]. Говорят, что совсем недавно он занял Ревель [!], большой приморский город с очень удобной и безопасной гаванью. В Любеке снаряжается флот на средства саксонских городов для подания помощи ливонцам. Но это больше ничего, как приготовление легкой добычи Мосху, который собирает до 80 или 100 тысяч конницы. Король польский остается праздным зрителем этой трагедии; но Мосх выбьет из него эту лень, если займет Ливонию, потому что Литва, Пруссия и Самогития граничат с нею. Да и не похоже, чтобы властитель Московитский успокоился: ему двадцать восемь лет, он с малого возраста упражнялся в оружии и по натуре очень свиреп, причем эта воинственность еще усилилась благодаря ряду удачных войн с татарами, которых он, говорят, побил до 300 или 400 тысяч. Он постоянно возит за собою трех пленных царей, между ними того, у которого он вырвал Казань. В недавнем времени он жестоко напал на шведского короля, который только ценой денег смог купить себе мир. Если суждено какой-либо державе в Европе расти, так именно этой»{937}. Все это показывает, что война России с Ливонским орденом имела не региональное, а общеевропейское значение, что, стало быть, Ливония являлась одновременно и форпостом Запада в его продвижении на Восток, и оборонительным валом, защищающим европейские государства от России, и в некотором роде буфером, отделяющим «просвещенную» Европу от «варварской» Руси. По сути, то была война двух цивилизаций: католико-протестантского Запада, отошедшего от истинного христианства и погрязшего в ересях, с православным Востоком, хранящим в чистоте святоотеческую веру. Вот почему Сильвестр и Адашев со своими сторонниками, выступая против войны с Орденом и чиня затем всяческие помехи ее ведению, действовали в угоду интересам Запада и во вред интересам России. К весне 1558 года царю Ивану удалось, надо полагать, преодолеть сопротивление группы Сильвестра — Адашева и возобновить военные действия. И опять — большой успех. В мае названного года русским сдалась Нарва, а в июле пал Дерпт. В итоге весной и летом 1558 года русские овладели всей восточной частью Эстонии{938}. Однако вскоре русские рати прекратили наступление, дав возможность орденским войскам в октябре — ноябре 1558 года попытаться перейти в контрнаступление{939}. Не исключено, что и здесь поработали Сильвестр с Адашевым. В январе 1559 года наступление нашей армии возобновилось. «Крупные русские силы были двинуты под Ригу. Под Тирзеном (Тирзе) были разгромлены войска рижского архиепископа. Русские войска доходили до самой Риги. У Дюнамюнде (Даугавгриве) были сожжены рижские корабли. Военными действиями была охвачена северная часть Латвии. Русские войска проникали в Курляндию и доходили до границ Восточной Пруссии и Литвы»{940}. В результате Ливонский орден в январе — феврале 1559 года оказался на грани полного разгрома. И вот «при таких, казалось бы, необычайно благоприятных для Русского государства обстоятельствах, буквально накануне полного разгрома и подчинения Ливонии, в военных и политических планах русского правительства произошел неожиданный поворот. Ливонии было предоставлено продолжительное перемирие — с марта по ноябрь 1559 г.»{941}. По справедливому мнению В. Д. Королюка, чьи слова только что приведены, «перемирие 1559 г. было заключено под влиянием группировавшихся вокруг Алексея Адашева участников Избранной рады, в руках которых в это время все еще оставалось практическое руководство военными и политическими делами»{942}. Стало быть, «вместо того, чтобы продолжать успешно начатое наступление против Ливонии, московское правительство, по настоянию Адашева, предоставило Ордену перемирие»{943}. Это было «алогичное с военной и политической точки зрения перемирие»{944}. Следует со всей определенностью подчеркнуть, что «перемирие 1559 г. было невыгодно для Русского государства. Ливонские феодалы получили совершенно необходимую им в военном отношении передышку{945}. Это прекрасно понимал и сам Грозный, когда писал Курбскому: «Лето цело даете безлепа фифлянтом збиратися»{946}. Но не менее важными оказались военно-политические последствия этого «перемирия». 31 августа 1559 года в Вильно (Вильнюсе) между Ливонским орденом и Польско-Литовским государством было заключено соглашение, по которому польский король Сигизмунд II Август принимал в свою «клиентелу и протекцию» Орден, обещая защищать ливонских рыцарей от Русии. Очень скоро (15 сентября) королевский протекторат распространился и на рижское архиепископство. Стратегическая победа ускользала из рук русских. И виной тому были Сильвестр и Адашев с подельниками. Иван Грозный, имея в виду перемирие 1559 года, скажет потом Андрею Курбскому: «И аще не бы ваша злобесная претыкания была, и з Божиею помощию уже бы вся Германия была за православием»{947}. Или: «К сему же и Ливонская брань учинилася вашею изменою и недоброхотством и нерадением безсоветным»{948}. Царь был тут, конечно, прав{949}. Становится также ясно, что не он являлся инициатором заключения перемирия, нанесшего русским национальным интересам, можно сказать, непоправимый вред. «Виленские соглашения 31 августа и 15 сентября 1559 г. Литовского княжества и Ливонии, — говорит А. Л. Хорошкевич, — полностью переломили ситуацию в Ливонии. Сигизмунд Август принимал под свою протекцию и клиентелу Ливонский орден и рижского архиепископа, получив в залог юго-восточную часть орденской территории вдоль Двины, которая тотчас была занята литовскими войсками. Ливонская война грозила превратиться в русско-литовско-датско-крымскую»{950}. По словам другого исследователя, «виленское соглашение круто изменило ход Ливонской войны. Для русской дипломатии оно было тяжелым поражением. Теперь России противостояло не слабое, раздробленное государство, а мощное Литовско-Польское государство»{951}. Больше того, «война между Русским государством и немецко-ливонскими сословиями превратилась в борьбу за ливонское наследство между всеми заинтересованными в балтийском вопросе государствами»{952}. Помимо Польши и Литвы, то были Дания и Швеция. Так война с одним противником переросла в войну с рядом европейских государств, а по существу с Западной Европой{953}. Это произошло опять-таки по вине Избранной Рады и ее лидеров — Сильвестра и Адашева, предоставивших возможность Западу произвести, пользуясь перемирием, перегруппировку сил и поставить Россию перед необходимостью вести войну на несколько фронтов. «Та же оттоле, — говорил царь Иван, — литаонский язык и готфейский и ина множайшая воздвигосте на православие»{954}. Трудно согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он, вопреки своим прежним утверждениям о роли Адашева в выборе направления главного удара, заявляет, будто «в Москве, наконец, осознали, какими опасностями грозит одновременная война в Прибалтике и в ордынских степях. Чтобы избежать распыления сил, русское правительство предоставило Ордену перемирие и предприняло выступление против Крыма»{955}, поскольку, полагает исследователь, «в глазах опытных политиков главную угрозу для России представляли степные кочевники»{956}. Согласно мнению другого исследователя, А. И. Филюшкина, Алексей Адашев как «опытный и талантливый дипломат, видимо, понимал опасность для России перспектив развития Ливонской войны. Начавшись как локальный конфликт, она быстро обнаружила тенденцию к перерастанию в большую войну европейского масштаба. А к такому крупному масштабному конфликту Россия была явно не готова. На наш взгляд, пониманием Адашевым этих обстоятельств можно объяснить его настойчивое стремление к перемирию и поиску компромисса с противником, его отзывчивость на частые просьбы дипломатов «склонить царя на мир»{957}. Вряд ли это так: московское правительство, управляемое Адашевым и стоящим за ним Сильвестром, предоставило перемирие Ордену отнюдь не потому, что стремилось «избежать распыления сил», и не потому, что понимало «опасность для России перспектив Ливонской войны» или быстро обнаружило тенденцию к ее перерастанию «в большую войну европейского масштаба», а потому, что желало спасти Ливонский орден от полного разгрома. Кстати сказать, именно Адашев своей «миролюбивой» дипломатией способствовал такому перерастанию. В. Д. Королюк справедливо квалифицирует перемирие с Орденом, заключенное правительством Адашева, как «предательство русских государственных интересов»{958}. Вот почему трудно согласиться с Б. Н. Флорей, который характеризует заключение перемирия с Орденом в качестве одной из ошибок Алексея Адашева{959}. Перед нами отнюдь не случайная ошибка, а осознанное стремление спасти Орден от катастрофы военного поражения, что нельзя именовать иначе, чем изменой Русскому государству и его главе — российскому самодержцу{960}. Имеют место попытки некоторых историков вставить предательское перемирие 1559 года с Орденом в ряд неуспехов внешней политики России. Так, А. И. Филюшкин утверждает, будто «неудачи русской дипломатии были очевидными: ей не удалось предотвратить вмешательства в конфликт Польско-Литовской стороны. И они были в первую очередь связаны с именем Алексея Федоровича Адашева»{961}. Но это как посмотреть: с точки зрения интересов Русского государства или же со стороны тайных замыслов Алексея Адашева «со товарищи». В последнем случае вряд ли стоит говорить о неудаче Алексея. Напротив, надо вести речь об удаче Адашева, озабоченного положением находящегося на грани ликвидации Ордена и сумевшего дать ливонцам передышку. Иное дело, если исходить из русских государственных интересов. Здесь им был нанесен несомненный урон, предопределивший в известной мере поражение России в Ливонской войне. Следует также заметить, что после завоевания русскими Казани и Астрахани главную угрозу для России представляли не столько степные кочевники, в частности Крымское ханство, сколько Запад. Это с особой наглядностью показала Смута начала XVII века. Что касается «выступления против Крыма», предпринятого «русским правительством» в летний период 1559 года, то оно было организовано, по всей видимости, с целью перевода внимания царя Ивана с западного фронта на южный фронт, с целью прекращения войны с Орденом, чего упорно добивалась придворная партия Сильвестра — Адашева, болевшая за Ливонию — «сирую вдовицу», по жалостливому выражению благовещенского попа. Поэтому, надо полагать, Адашев и его советники намеревались увлечь в это предприятие самого царя, который, по их плану, должен был возглавить поход на Крым. Началась даже соответствующая подготовка. Так, князю М. И. Воротынскому был отдан приказ идти за города Тулу и Дедилов «на Поле мест розсматривать, где государю царю и великому князю и полком стоять»{962}. Личным участием царя в южной экспедиции Сильвестр, Адашев и Ко хотели придать войне с Крымским ханством первостепенное значение сравнительно с Ливонской войной. Государь, однако, в поход не пошел. Крымский же поход брата А. Ф. Адашева, окольничего Д. Ф. Адашева, не принес существенных успехов{963}. Больше того, война с Крымом нанесла непоправимый вред Русскому государству: «Военные операции против Крыма, поглотившие немало средств и сил, не принесли результатов, обещанных Адашевым, а благоприятные возможности победы в Ливонии были безвозвратно упущены»{964}. Однако, вопреки всему этому, официальная летопись, к составлению которой Алексей Адашев имел непосредственное отношение, всячески расхваливала поход Даниила Адашева{965}. Столь же хвалебен и князь Андрей Курбский, по словам которого Данила Адашев с «другими стратилаты» «немалу тщету учиниша во Орде: яко самых побита, такоже жен и детей их немало поплениша, и христианских людей от работы освободили немало, и возвратишася восвояси здравы»{966}. По справедливому мнению Р. Г. Скрынникова, ближе к истине был царь Иван, «указывавший на полную безрезультатность похода»{967}. Грозный писал Курбскому: «Что же убо и ваша победа, еже за Днепром и Доном? И колико убо злая истощения и пагуба християном содеяшася, супротивным же ни малыя досады!»{968}. Вряд ли перед нами поздние впечатления монарха. Это скорее оценка результатов крымского похода, относящаяся к тому времени, когда он состоялся. Поэтому Иван не поддался на уговоры Адашева и его друзей, увлекавших государя заманчивыми перспективами борьбы с Крымской ордой. Курбский свидетельствует: «Мы же паки о сем (войне с Крымом. — И.Ф.), и паки царю стужали и советовали: или сам потщился итъти, или бы войско великое послал в то время (после возвращения Даниила Адашева из крымского похода. — И.Ф.) на Орду. Он же не послушал…»{969}. Нежелание царя Ивана слушать советы Адашева и других представителей Избранной Рады еще больше накалило между ними и без того не простые отношения. К тому же Иван мог ощутить горькие плоды внешнеполитического курса своих бывших любимцев. Перемирие, предоставленное Ордену, позволило ливонским рыцарям собрать военные силы и напасть на русских, не ожидая окончания времени перемирия. «За месяц до истечения срока перемирия орденские отряды появились в окрестностях Юрьева и обратили в бегство воеводу З. И. Плещеева. 11 ноября 1559 г. магистр Кетлер нанес московским войскам второе поражение, разгромив близ Юрьева отряды З. И. Плещеева и З. И. Сабурова. Ливонцы осаждали Юрьев в течение всего ноября»{970}. На фоне этих поражений «в декабре 1559 г. литовский посол А. И. Хоружий проводил сепаратные переговоры с дипломатической комиссией Боярской думы — А. Ф. Адашевым, Ф. И. Сукиным, И. М. Висковатым. Речь шла о необходимости найти способ повлиять на Ивана IV, склонить его к прекращению войны. В январе 1560 г. посол М. Володкевич передал российской стороне ультимативное требование немедленно прекратить войну в Ливонии. Он также пытался добиться частной встречи с А. Ф. Адашевым и И. М. Висковатым»{971} Подобные «сепаратные переговоры» и «частные встречи» с иноземными послами не были случайными. К ним нередко прибегали дипломаты Избранной Рады, проводившие «свой курс вопреки воле царя»{972}. Возможно, под впечатлением этого дерзкого своеволия, а также военных неудач осени 1559 года царь Иван послал Алексея Адашева на Ливонский фронт в качестве одного из воевод. Впрочем, вполне вероятна и еще одна причина удаления А. Ф. Адашева из Москвы, связанная с царицей Анастасией. Дело в том, что об осеннем 1559 года поражении русских войск и об осаде ливонцами Юрьева царь узнал в Можайске, будучи там на богомолье. Сильвестр и Адашев настаивали на срочном возвращении Ивана в Москву. Государь, всерьез обеспокоенный их призывами, прервал богомолье и с тяжело больной царицей отправился в обратный путь, несмотря на жестокую осеннюю распутицу, превратившую дороги в труднопроходимые болота. По свидетельству летописца, ехать «невозможно было ни верхом, ни в санех: беспута была кроме обычая на много время. А се грех ради наших царицы не домогла»{973}. Каково же было удивление и негодование царя, когда он, воротившись в столицу, обнаружил, что зря спешил, что для столь срочного его возвращения в Москву не было никакой надобности{974}. Потом Грозный с досадой и раздражением скажет: «Како убо воспомяну, иже во царствующий град с нашею царицею Анастасиею с немощною от Можайска немилостивное путное прехождение? Едина ради мала слова непотребна!»{975}. Царь имел все основания и в данном случае быть недовольным Адашевым и Сильвестром, мог даже подозревать своих советников, понудивших его отправиться в столь трудную дорогу, в желании навредить «немощной» Анастасии, чтобы ускорить ее кончину. Но как бы то ни было, посылка Адашева на Ливонский фронт являлась знаковой. Она свидетельствовала о немилости Ивана Грозного по отношению к своему недавнему фавориту, будучи, в сущности, началом царской опалы{976}. Что касается самого Адашева, бывшего главой московского правительства{977}, то отрешение от этой должности и отъезд из столицы означали начало конца его политической карьеры. Вряд ли это было полной неожиданностью, свалившейся, как снег, на голову Алексея. Предвестником падения могущественного правителя можно считать уход в монастырь старшего Адашева — Федора Григорьевича, который постригся в монахи (около 1555–1556 гг.{978}) под именем Арсения. Не уловил ли Ф. Г. Адашев начавшуюся перемену в отношении царя Ивана к своему сыну Алексею? И не потому ли он счел за благо укрыться в монашеской келье? Утвердительный ответ здесь весьма возможен. Однако вернемся опять на ливонский театр военных действий. Летом 1560 года война в Ливонии распространилась на значительную территорию{979}. Русская армия, возглавляемая И. Ф. Мстиславским и А. Ф. Адашевым, перешла в наступление. В результате, несмотря на мощные укрепления, пал город Мариенбург (Алуксна). Затем московские рати двинулись на Феллин (Вильянди), слывший лучшей крепостью Ливонии. На пути к этому городу стала орденская армия, которую наши наголову разгромили в битве 2 августа 1560 года. Вскоре русское войско под командованием А. М. Курбского осадило Феллин и взяло его. Среди взятых в плен рыцарей оказался также престарелый магистр Ордена Фюрстенберг, отправленный к царю Ивану и милостиво принятый им. Военный успех Москвы не был, однако, безоблачным: русские потерпели неудачу под Вейссенштейном (Пайде). Тем не менее В. Д. Королюк резонно говорит, что «военные действия 1560 г. в целом нельзя не признать удачными. Главным результатом их был полный разгром Ордена как военной силы»{980}. И все же, по словам В. Д. Королюка, «царь не был доволен поведением своих командующих и впоследствии упрекал своих бывших сотрудников по Избранной раде во главе с Адашевым в нерасторопности, считая успехи 1560 г. явно недостаточными»{981}. Действительно, Грозный писал Курбскому: «Потом же послахом вас с начальником вашим Алексеем и зело со многими людьми, вы же едва один Вельян взясте, и туто много наряду нашего погубисте. Како же убо тогда от литовские рати детскими страшилы устрашистеся. Под Пайду же нашим повелением неволею пойдосте, и каков труд воином сотвористе и ничтоже успеете!»{982}. В. Д. Королюк, толкуя данные упреки Ивана Грозного, замечает: «Возможно, что причиной недовольства царя был отказ воевод двинуться под Ревель (Таллин), на чем настаивал Грозный. Вместо того была предпринята неудачная осада Вейссенштейна (Пайде)… В поведении обоих воевод (Алексея и Даниила Адашевых. — И.Ф.) царь, по-видимому, угадывал теперь сознательное стремление ограничить в Прибалтике успехи русского оружия»{983} От исследователя ускользнула одна существенная деталь в словах государя, а именно то, что воеводы под Феллином «много наряду нашего погубисте». Царь, очевидно, хотел этим указать на ничем не оправданное, чрезмерное расходование воеводами воинского снаряжения{984}, а сказать конкретнее — на потери в орудийном парке{985}. Учитывая саботаж военачальников, о котором догадывался В. Д. Королюк, можно предположить намеренное с их стороны небережливое отношение к армейскому снаряжению, к важнейшей его пушечной части с тем, чтобы затруднить дальнейшее ведение военных действий. Царь Иван понимал реальность подобных нежелательных последствий, осознавал их пагубность для русских войск в войне с Орденом и потому вспомнил в своем послании Курбскому предосудительное поведение воевод под Феллином. И, тем не менее, успехи летнего наступления 1560 года открывали «возможность быстрого завершения войны с Ливонией. Военные силы Ордена были сокрушены, по всей Эстонии крестьяне восстали против немецкого дворянства. Однако русское командование в Ливонии, во главе которого оказался тогда А. Ф. Адашев, не использовало благоприятной обстановки». Адашев «противился расширению военных действий против ливонцев»{986}. Сопровождавшие войну в Ливонии бесконечные интриги, нерадивость, саботаж и предательство воевод, связанных с Алексеем Адашевым и попом Сильвестром, переполнили чашу терпения царя Ивана. Последней каплей, выплеснувшей его гнев наружу, стала кончина царицы Анастасии 7 августа 1560 г{987}. * * *Летописец сообщает: «Преставися благовернаго царя и великого князя Ивана Василиевича вся Русии царица и великая княгиня Анастасия и погребена бысть въ Девичье монастыре у Вознесения Христова въ городе у Фроловских ворот. Та бысть первая царица Русская Московского государьства, а жила со царем и великим князем полчетвертанатцата году, а осталися у царя и великаго князя от нее два сына: царевичь Иван 7 лет, а царевич Федор на четвертом году. Бе же на погребении ея Макарей митрополит всея Русии и Матфей епископ Крутицкий и архимандриты и игумены и весь освященный собор, со царем же и великим князем брат его Юрьи Василиевич и князь Володимер Ондреевич и царь Александр Сафа-Киреивич и бояре и велможи. И не токмо множество народу, но и все нищии и убозии со всего града приидоша на погребение, не для милостыни, но со плачем и рыданием велием провожаше; и от множества народу въ улицах едва могли тело ея отнести въ монастырь. Царя и великаго князя от великаго стенания и отъ жалости сердца едва под руце ведяху. И роздаде же по ней милостыню доволну по церквам и по монастырем въ митрополие и во архиепископиах, и во всех епископиях, не токмо по градцким церквам, но и по всем уездом, много тысящь Рублев; и во Царьград и во Ерусалим и во Святую гору и в ыные тамошние страны и во многие монастыри многую милостыню посла. Бяше о ней плачь не мал, бе бо милостива и беззлобна во всем»{988}. Как видим, смерть и похороны Анастасии вылились в событие огромного общественного значения. Москва погребала первую русскую царицу и добрую, милостивую женщину, готовую всегда прийти на помощь ближнему. Тем тяжелее вина людей, возможно, повинных в ее смерти. Надо сказать, Иван Грозный был уверен в насильственной смерти своей супруги. Современная наука подтвердила эту уверенность{989}. Он также нимало не сомневался в том, среди кого надо искать виновников этой трагедии. Царь говорил Курбскому: «А из женою вы меня про что разлучили? Толко бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было»{990}. Грозный был уверен, что Анастасия погибла вследствие заговора Адашева, Сильвестра и К°. Не случайно также за повествованием государя о тяжком пути из Можайска в Москву с больной царицей, предпринятом по вине Сильвестра, за рассказом о том, что из-за неожиданного отъезда в «царствующий град» пришлось прервать богомолье и тем лишиться покрова Божьего и, следовательно, защиты Господа, за словами об отсутствии врачебной помощи Анастасии и «чадам» ее следует такое заявление Грозного: «И сице убо нам в таковых зелных скорбех пребывающим, и понеже убо такова отягчения не могохом понести, еже нечеловечески сотвористе, и сего ради, сыскав измены собаки Алексея Адашева со всеми его советники, милостивно ему свой гнев учинили; смертные казни не положили»{991}. Иван, как видим, поставил в прямую связь судьбу царицы Анастасии с изменой «собаки Алексея Адашева». Однако, когда государь проявлял «милостивный» гнев по отношению к своему недавнему любимцу, ему, судя по всему, не было еще известно о причастности Адашева к смерти Анастасии. Вскоре эта причастность вскрылась. И теперь уже ничто не могло его спасти. Р. Г. Скрынников отмечает, что «в дни отставки Адашева в Москве не было влиятельных членов Избранной рады. Д. И. Курлятев с весны находился в Туле, откуда его перевели в Калугу. И. Ф. Мстиславский и М. Я. Морозов сражались в Ливонии»{992}. Д. И. Курлятев, кстати сказать, тоже находился в Ливонии, сидя в Юрьеве, куда в 1558 году царь послал его на год воеводой{993}. Но, будь даже эти влиятельные люди в Москве, они все равно не сумели бы защитить Алексея Адашева, судьба которого царем Иваном была уже решена бесповоротно. Несмотря на пришедшее к государю в августе 1560 года известие от воевод об одержанных победах и, следовательно, о заслугах Адашева, являвшегося во время этих побед помощником главнокомандующего{994}, тот был снят с должности третьего воеводы Большого полка и определен воеводой в Феллин{995}. Надо заметить, это произошло через три недели после смерти царицы Анастасии, что косвенно свидетельствует о связи данных событий. Назначение Адашева в Феллин, пусть даже воеводой, означало отстранение назначенца от руководства Ливонской кампанией. Царь явно не доверял своему прежнему фавориту. Однако посылка Адашева в Феллин не являлась в строгом смысле слова отставкой, как считает Р. Г. Скрынников{996}, или почетной отставкой, как об этом пишут А. А. Зимин и А. Л. Хорошкевич{997}. Правильнее, на наш взгляд, было бы рассматривать назначение А. Ф. Адашева воеводой в Феллин как резкое понижение по службе. Согласно Р. Г. Скрынникову, Феллин — «замок, стоявший на острие русского копья, направленного в глубь Ливонии»{998}. То была «самая опасная точка»{999}. Но опасность здесь грозила Адашеву не столько от ливонцев, сколько от своих. Едва он появился в Феллине, как один из дворянских голов О. В. Полев, не имевший ни думного, ни воеводского чина, затеял тяжбу с ним о местах, бив челом государю, что ему, Полеву, «меньши Алексея Одашева быть невместно»{1000}. В этом местническом споре царь Иван стал на сторону Полева, не отказав себе в удовольствии лишний раз показать, что взял и возвысил Адашева «из гноища». В Феллине Адашев навлек, по-видимому, на себя со стороны Ивана Грозного новое серьезное подозрение. Князь Андрей Курбский, рассказывая о пребывании Алексея Адашева в Феллине, говорит о том, будто «не мало градов вифлянских, еще не взятых, хотяще податись ему, его ради доброты…»{1001}. Трудно поверить в такую готовность «градов вифлянских»{1002}. Но, быть может, в приведенном рассказе Курбского заключена завуалированная информация о контактах Адашева с ливонцами, что и насторожило царя Ивана. Понятным тогда становится перевод его в Дерпт (Юрьев) под начало и надзор боярина князя Дмитрия Хилкова. Юрьев — последнее пристанище Алексея Адашева. Здесь вкусил он горечь лишений и унижений. Отсюда он ушел на тот свет. О предсмертных днях Адашева узнаем из Истории о великом князе московском А. М. Курбского и Пискаревского летописца. В Истории Курбского читаем: «И абие повелел (Царь Иван. — И.Ф.) оттуду (из Феллина. — И.Ф.) свести в Дерпт и держан быти под стражею. И по дву месяцех потом в недуг огненный впаде, исповедався и взяв святыя Христа Бога нашего тайны, к нему отъиде. Егда же о смерти его услышавше, клеветницы возопиша цареви: «Се твой изменник сам себе здал яд смертоносный и умре»{1003}. Другой источник, Пискаревский летописец, сообщает: «И как почал множитца грех земской и опришнина зачинатися, и князь велики его послал на службу в Юрьев Ливонской к воеводе ко князю Дмитрею Хилкову, а велел ему быти в нарядчиках. И князь Дмитрей ему быти в нарядчиках не велел, и он ему бил челом многожды, и он не велел быти… И послал его убити князь велики. Пригнал гонец убити, а он преставился за день и лежит в гробу. И послали о нем государю»{1004}. А. А. Зимин, оценивая приведенные известия, замечал: «Обстоятельства последней ссылки Адашева неясны. Курбский пишет, что царь его «повелел оттуду свести в Дерпт, и держан бысть под стражею». По словам автора Пискаревского летописца, царь «его послал на службу в Юрьев Ливонский, а велел ему быти в нарядчиках. И князь Дмитрей ему быть в нарядчиках не велел, и он ему бил челом многажды, и он не велел быти»{1005}. Историк, похоже, усматривал в Истории о великом князе московском и Пискаревском летописце источники, освещающие последнюю ссылку Алексея Адашева разноречиво и несогласованно, тогда как они, на наш взгляд, не противоречат друг другу, а скорее, дополняют друг друга. Из них явствует, что перевод А. Ф. Адашева из Феллина в Юрьев означал окончательное падение временщика, хотя внешне могло показаться, что он еще остается при деле. Ведь царь велел Адашеву быть в Юрьеве «нарядчиком», т. е. командиром крепостной артиллерии{1006}. И это было в порядке вещей. Известно, например, по летописи, что в один из моментов Ливонской войны «нарядчиком» выступал брат Алексея Адашева Даниил Адашев: «А у наряду околничей и воевода Данило Федорович Адашев да Дмитрей Пушкин да с ними дети боярские многие и головы стрелецкие»{1007}. Назначался на ту же должность и Г. Нагой: «А у наряду Григорий Нагой»{1008}. Так что назначение Адашева в Юрьев на роль «нарядчика» вряд ли могло вызвать у Алексея особые опасения. Правда, это назначение сравнительно даже с его положением воеводы Феллина, не говоря уже о предшествующих постах, являлось существенным понижением по служебной лестнице. Трагический поворот в собственной судьбе Адашев в полной мере осознал, вероятно, по прибытии в Юрьев в распоряжение воеводы князя Д. И. Хилкова, который обошелся с недавним своим начальником самовластно, запретив ему быть «нарядчиком». Как понимать поведение Хилкова? Так ли, что тот нарушил повеление государя? По-видимому, нет. И вот, надо думать, почему. На наш взгляд, Грозный о посылке Адашева в Юрьев «нарядчиком» распорядился устно: он велел, а не указал быть ему при «наряде». О том, что слово велел в рассказе Пискаревского летописца употребляется в смысле устного распоряжения, говорит текст, относящийся к Хилкову, который Алексею «быти в нарядчиках не велел, и он бил ему челом многажды, и он не велел быти». Едва ли воевода оформлял свой запрет письменно. И здесь Хилков, конечно, следовал примеру царя. Но, если бы существовал письменный указ Ивана Грозного о назначении Алексея Адашева «нарядчиком» в Юрьев, воевода вряд ли посмел нарушить его. Не исключено также и то, что Иван, передав через гонца устный приказ Адашеву, одновременно через другого посланца инструктировал Дмитрия Хилкова, как обращаться с Адашевым. Грозный играл с Адашевым как кошка с мышью. Подобные игры были в духе его артистической натуры. О негласной инструкции царя Ивана воеводе Хилкову свидетельствует, по нашему мнению, арест Адашева, о котором сообщает Курбский, и реальность которого признают современные исследователи{1009}. Жизнь свою Алексей Адашев закончил в тюрьме. Причина его смерти остается до сих пор не выясненной, и исследователи высказывают по этому поводу разные версии. Например, А. А. Зимин говорит о том, что Адашев умер «неожиданной смертью» от непонятного «огненного недуга»{1010}. С. Г. Шмидт, не касаясь подробностей кончины Адашева, пишет: «В 1560 г. был заключен под стражу в Юрьеве (Тарту), где и умер»{1011}. Столь же немногословен А. Г. Кузьмин: «В 1560 г. умерла Анастасия. В том же году умер в Юрьеве и Адашев»{1012}. Согласно Р. Г. Скрынникову, «Адашев не выдержал свалившихся на его голову бед и «в огненный недуг впал». Он умер от нервной горячки»{1013}. По догадке В. Б. Кобрина, Адашев умер накануне ареста, должно быть оттого, что «сердце не выдержало тяжелых переживаний, связанных с падением Избранной рады»{1014}. Сразу после смерти Адашева возникли слухи, что он сам покончил с собой, приняв яд. По-видимому, проявления «огненного недуга» походили на отравление. Однако князь Курбский отрицал самоубийство Адашева, называя эти слухи клеветническими{1015}. Поступить иначе Курбский не мог. В противном случае Адашев предстал бы как великий грешник, совершивший богопротивное дело — самоубийство. К тому же это самоубийство легко истолковывалось людьми того времени как признание самоубийцей своей виновности. Курбский, изображавший Адашева человеком, который «ангелом подобен»{1016}, ни под каким видом не мог принять версию о его самоубийстве. Но это не значит, что данная версия должна быть отброшена как несостоятельная. Нам она кажется вполне допустимой. По всему вероятию, Алексей Адашев совершил самоубийство после собора 1560 года, признавшего его виновным в смерти царицы Анастасии{1017}. Воображение внушало ему, что теперь от жизни ждать нечего, кроме страшных мучений. И он решился на крайнюю меру. Нельзя, конечно, исключать и того, что князь Хилков или его люди заставили Адашева принять яд, выполняя приказ Грозного. Если это так, то царь «отмеривал мерой», какою «мерили» его противники, пытавшиеся отравить государя. И в этом отношении смерть Алексея Адашева предвосхищает смерть Владимира Старицкого. И последнее замечание относительно судьбы Алексея Адашева. Возникает вопрос, почему Иван Грозный не захотел доставить Адашева для разбирательства в Москву. Думается, потому, что, во-первых, он не сомневался в его виновности и, во вторых, в столице у Адашева было еще немало сторонников, по терминологии царя Ивана, «единомышленников», которые могли вступиться за опального. Это показали ближайшие события после падения Адашева. Но, прежде чем говорить об этом, предельно кратко об уходе Сильвестра с политической сцены. Грозовые тучи, нависшие над Алексеем Адашевым, убедили Сильвестра в безвыходности собственного положения. Он счел за благо ретироваться и просил царя Ивана отпустить его на покой в монастырь. У исследователей нет твердой уверенности, в каком монастыре оказался Сильвестр. Одни из них называют местом его пребывания Кирилло-Белозерский монастырь{1018}, другие — Соловецкий{1019}, третьи говорят, что Сильвестра постригли в монахи и «отправили сначала в Кирилло-Белозерский, а потом еще дальше — в Соловецкий монастырь»{1020}, наконец, четвертые колеблются, упоминая в данной связи то Соловецкий, то Кириллов монастырь{1021}. Для нас неважно, в каком монастыре поселился Сильвестр. Более существенно то, что Грозный, положив опалу на Адашева и Сильвестра, обошелся с ними сравнительно милостиво. Напомним, как Иван сам говорил об этом: «Сыскав изменщ собаки Алексея Адашева со всеми его советники, милостивно ему свой гнев учинили; смертные казни не положили, но по розным местом розослали. Попу же Сильвестру, видевше своих советников ни во что же бывше, и сего ради своею волею отоиде, нам же его благословне отпустившим, не яко устыдившеся, но яко не хотевшу ми судитися здесь, но в будущем веце, пред агньцем Божиим, еже он повсегда служа и презрев лукавым своим обычаем, злая сотвори ми; но в будущем веце хощу суд приятии, елико от него пострадах душевне и телесне… И того ради убо попу Селивестру ничего зла не сотворих»{1022}. Царь не тронул и Анфима — сына Сильвестра: «Того ради и чаду его сотворих и по се время во благоденстве пребывати; точию убо лица нашего не зря»{1023}. Государь пощадил Сильвестра даже после того, как собор признал его вместе с Адашевым виновным в смерти царицы Анастасии. Преставился Сильвестр, по предположению исследователей, где-то около 1570 года{1024}. Как видим, Иван IV, проявляя «милость к падшим», еще не убедился в необходимости «Кроновых жертв». Примечательно, что царь мирно обошелся с «единомысленниками» и «советниками» Адашева и Сильвестра, приведя их к новой присяге на верность престолу, но, увы, напрасно: «Исперваже убо казнию конечною ни единому коснухомся; всем же убо, иже к ним (Адашеву и Сильвестру. — И.Ф.) не приставше, повелехом от них отлучитися, и к ним не приставати, и сию убо заповедь положивше и крестным целованием утвердихом». Однако, продолжает Иван, «наша заповедь ни во что же бысть и крестное целование приступивше, не токмо отсташа от тех изменников, но и болми начаша им помогати и всячески промышляти, дабы их на первый чин возвратити и на нас лютейшее составляти умышление…»{1025}. Измены, следовательно, не прекратились и после падения Сильвестра и Адашева. Можно сказать больше: они, судя по всему, даже умножились. Для этого были свои причины. Главная из них состояла в том, что «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады, в которой они были ключевыми фигурами»{1026}. Это крушение затрагивало «интересы влиятельных политических сил»{1027}, прежде всего тех, что стремились переделать самодержавство Ивана IV в ограниченную монархию наподобие королевской власти в Польско-Литовском государстве. Именно Избранная Рада, возглавляемая Сильвестром и Адашевым, пыталась «утвердить в Русском государстве систему ограниченной монархии, где царь «почтен» лишь «председанием», обладает лишь номинальной властью, в то время как власть реальная находится в руках его советников»{1028}. С падением Избранной Рады рушились и планы переустройства Русского государства на западный манер. Становилось ясно, что парламентаризм в России Ивана Грозного не пройдет{1029}. Но оставшиеся при власти члены упраздненной Избранной Рады, а также их сторонники не расставались с надеждой изменить политическую систему на Руси в соответствии с западными образцами. Скомпрометированные участием в политике Избранной Рады, враждебной русскому самодержавию, лишенные опоры в Избранной Раде, ликвидированной Грозным, они вынуждены были перейти от легальной борьбы к борьбе нелегальной, воплотившейся в разного рода изменах. * * *Эти измены нередко принимали форму побегов от царя в Литву, к польскому королю Сигизмунду II Августу. То были отнюдь не безобидные «перелеты», как может показаться с первого взгляда. В бегство обычно пускались те, кто обладал ценной информацией о Русии, часто информацией секретной. Ценой измены престолу и выдачи государственных секретов беглецы покупали благорасположение к себе короля и безбедную жизнь в Польско-Литоском государстве. Сохранилась крестоцеловальная Запись князя Василия Михайловича Глинского, родича государя по материнской линии, составленная в связи с чрезвычайным обстоятельством, произошедшим с ним. О том, что этот случай имел место, удостоверяет начальный текст Записи: «Се яз князь Василей Михайлович Глинский, что есми перед своим Государем перед Царем и Великим князем Иваном Васильевичем всеа Русии проступил, и яз за свою вину бил челом Государю своему Царю и Великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, отцем его, господином своим, Макарием Митрополитом всеа Русии и его детми, своими господами…»{1030}. Глинский не уточняет своей вины перед Иваном. «В чем состоял проступок Глинского, — говорит А. А. Зимин, — сказать трудно. Возможно, князь Василий, как и многие в придворной среде, выражал недовольство браком царя с «бусурманкой», т. е. с Марией Темрюковной{1031}. Но из содержания Записи, толкующей в первую очередь о недопустимости отъезда князя в Литву{1032}, с полной очевидностью, как нам представляется, следует, что провинность его связана с неудавшейся попыткой бегства за рубеж или, во всяком случае, с замыслом этого бегства. Польский король, тамошние князья и паны часто провоцировали такого рода побеги, посылая к потенциальным беглецам через лазутчиков{1033}, соблазнительные грамоты и речи{1034}. Они замышляли лихо и на русского государя, засылая к нам исполнителей лихих дел — «лиходеев», по терминологии крестоцеловальной грамоты. Это следует из таких ее слов: «А к лиходеем ми Государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии в здешней земле, и в иных землях (выделено нами. — И.Ф.) ни в которых никак не приставати никакими делы, никоторую хитростию. А хто мне учнет говорити какие речи на Государя моего лихо Царя и Великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, и о его Царице и Великой Княгине Марье, и о Государя моего детех и о их землях, Русин, или Литвин, или Лях, ино иной хто ни буди: и мне ко Государю своего лиходеем не приставати никакими делы, никоторую хитростью…»{1035}. Следовательно, измена таких людей, как В. М. Глинский, таила опасность не только Русскому государству, но также лично Ивану Грозному и всей его семье. И все же царь, идя навстречу просьбе митрополита Макария и Освященного собора, простил князя и «вину ему отдал»{1036}. Это прощение приобретает особую значимость, если учесть, что В. М. Глинский приходился родным племянником боярину Д. И. Немому, являвшемуся сторонником князей Старицких{1037}, доставивших царю Ивану массу неприятностей. По весьма вероятному предположению Р. Г. Скрынникова, «Глинский через свою родню боярина князя Немого не раз «износил» Старицким царскую думу»{1038}. И все же царь не держал зла на Глинского. Напротив, он «возводит его в бояре (в конце 1561 — начале 1562)… Осенью 1562 г. князя Василия Михайловича мы встречаем третьим в «навысшей раде» (Ближней думе), после И. Д. Бельского и И. Ф. Мстиславского, и вторым (после Бельского) в комиссии бояр, ведших переговоры с литовским посольством»{1039}. Аналогичный происшествию с В. М. Глинским случай был у князя И. Д. Бельского, тоже царского родственника, но дальнего. В отличие от Глинского, «Бельский был не заподозрен, а уличен в измене и намерениях бежать в Литву»{1040}. Согласно летописи, в январе 1562 года «царь и великий князь положил опалу свою на боярина на князя Ивана Дмитриевича Бельского за его измену, что преступил крестное целование и клятвенную грамоту, а царю и великому князю изменил, хотел бежати в Литву и опасную грамоту у короля взял; а с князем Иваном хотели бежать дети боярские царя и великого князя Богдан Посников сын Губин, Иван Яковлев сын Измайлов да голова стрелецкий Митка Елсуфьев: тот ему дорогу на Белую выписывал. И царь и великий князь князя Ивана посадил за сторожи на Угрешском дворе, а животы его велел запечатати, а з двора возити их не велел; а Митке Елсуфьеву велел вырезати язык зато, что князя Ивана подговаривал в Литву бежати он; а Ивана Михайлова и Богдана Посникова велел казнити торговою казнью, бити кнутьем по торгу, и сослал их с Москвы на заточение в Галичь»{1041}. Помимо летописи, сведения об «измене» князя Ивана Бельского сохранились в крестоцеловальной Записи, составленной в апреле 1562 года с учетом материалов его допроса, на котором он повинился, признав, что изменил царю Ивану: «Преступил есми крестное целованье и свое обещанье, по которой есми грамоте положил на себя клятву и неблагословение, и, забыв жалованье Государя своего, Государю есми своему Царю и Великому Князю Ивану изменил, з Жигимонтом Августом Королем есми ссылался, и грамоту есми от него себе опасную взял, что мне к нему ехати, и хотел есми бежати от государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии к Жигимонту Королю…»{1042}. Бельский присягнул на том, что «к Жигимонту Августу Королю Польскому и Великому Князю Литовскому, или иной хто Государь будет на Литовской земле, и мне к ним не отъехати; также ми и к иным Государем ни к кому не отъехати и до своего живота… А которые дети Государя моего на уделех, и мне к ним не отъехатиж; также ми и к удельным князем ни к кому не отъехати, и не приставати ми к удельным князем ни в какове деле никоторую хитростию; и с ними ми не думати ни о чем, и с их бояры и со всеми их людьми не дружитеся, и не ссылатися с ними ни о каком деле»{1043}. В поручной грамоте бояр, поручившихся за князя Бельского, среди возможных мест, куда он мог бежать, называется еще и Крым: «Ему [Бельскому] за нашею порукою от Государя нашего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, и от его детей от Царевича Ивана да от Царевича Федора не отъехать в Литву, ни в Крым, ни в иные никоторые государства ни в уделы»{1044}. Поручная запись «по тех бояр, кои поручилися по Князе Иване Дмитриевиче Бельском», содержит тот же перечень мест княжеского отъезда{1045}. Вряд ли приходится сомневаться в том, что иноземные правители, принимавшие беглецов, были настроены враждебно по отношению к русскому царю. Довольно симптоматичны с точки зрения политической ситуации в Русском государстве начала 60-х годов XVI века другие клятвенные обязательства И. Д. Бельского и, в частности, следующее: «а к лиходеем ми Государя своего Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии никак не приставати никакими делы, никоторую хитростию. А хто ни буди учнет мне говорити какие речи на Государьское лихо Царя и Великого Князя Иваново, и его Царицы и Великие Княгини, и их детей, и о их землях: и мне к Государскому лиходею не приставати ни какими делы, никоторую хитростью; а которые речи учнет мне говорити, и мне речи их сказати своему Государю Царю и Великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и его детем в правду, безо всякие хитрости. Или где которого лиходея Государя своего Царя и Великого Князя Иванова изведаю, или услышу думаючи на Государя своего лихо, или от кого ни буди что изведаю или услышу о Государя своего Царя и Великого Князя Иванова, и о его Царице и Великой Княгине, и о их детех и о их землях о добре или о лихе: и мне то сказати Государю своему Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и его детем в правду безо всякие хитрости, по сей укрепленной грамоте»{1046}. Существенный интерес представляет обязательство Бельского, в соответствии с которым он клятвенно обещает: «Иноземцев мне никаких к себе не приимати, и с ними не говорити ни о каком деле, ни приказывати ми к ним ни с кем никакова слова. А хто мне иноземцы учнут говорити, или ко мне что прикажут с каким человеком ни буди: и мне те их речи все сказати Государю своему безо всякие хитрости, а не утаити мне у Государя никакова слова никакою хитростью, по сему крестному целованью»{1047}. Это обязательство, сходное с тем, которое давал князь В. М. Глинский, свидетельствует об актуальности вопроса, связанного с политическими происками иностранцев, приезжающих со «спецзаданиями» в Россию. Какие наблюдения и выводы можно вывести из летописи и крестоцеловальной грамоты, где заключены известия об «измене» князя Дмитрия Ивановича Бельского, о попытке его бегства за рубеж к польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу? Первое, о чем надлежит сказать, заключается в том, что за годы правления Избранной Рады измена русскому самодержцу и, следовательно, самодержавному государству пустила длинные корни, пронизавшие всю толщу господствующего класса от княжеско-боярской знати до низших слоев служилого люда{1048}. Недаром к измене князя Бельского пристали дети боярские Б. Ф. Губин-Маклаков (Богдан Посников), И. Я. Измайлов (Иван Яковлев), а с ними стрелецкий голова Н. В. Елсуфьев (Митька Елсуфьев){1049}, причем то были дети боярские царя и великого князя Ивана, а что касается Елсуфьева, то еще пуще, поскольку перед нами не рядовой служилый человек, а один из начальников трехтысячного корпуса стрельцов — личной охраны царя{1050}, дислоцированной в «Воробьевской слободе»{1051}. Этот Елсуфьев, имевший поместье в Белой, расположенной поблизости от литовского рубежа{1052}, не только подговаривал Бельского бежать в Литву, но и составил для него, как свидетельствует летопись, подорожную роспись до границы, проявив тем самым деятельное участие в подготовке побега. Показательна причастность к измене князя Бельского и Б. Ф. Губина-Маклакова, отец которого Постник Федор Губин-Маклаков во время правления Алексея Адашева служил в Посольском приказе, принадлежал к числу самых влиятельных приказных дельцов{1053} и, по-видимому, был связан с вождями Избранной Рады. Вот почему участие его сына в измене Бельского приобретало для государя особый смысл. «В глазах царя, — справедливо замечает Р. Г. Скрынников, — заговор Бельского, вероятно, был связан с семенами «измены», посеянными Избранной Радой»{1054}. Следует только добавить, что так оно и было в действительности. Если изменники находились в ближнем служилом кругу Ивана Грозного, то можно представить, сколько их было среди детей боярских, служивших княжеско-боярской знати и прочно связанных с ней. А это означает, что угроза русскому «самодержавству» исходила не только от боярства, но и от определенной части дворянства. Вспомним хотя бы детей боярских старицкого князя Владимира, приготовлявшихся в 1553 году к захвату власти в пользу своего сюзерена, что, несомненно, привело бы к уничтожению московского «самодержавства». Вспомним также сына боярского Матвея Башкина и группировавшихся вокруг него детей боярских, которые уже вследствие приверженности еретическим воззрениям являлись противниками теократического самодержавия, выпестованного православным учением о высшей земной власти. Вспомним еще и о том, что «первые опалы царя Ивана поразили главным образом рядовых дворян, и в особенности родственников и «согласников» павших вельмож…»{1055}. Поэтому принятая в советской историографии мысль о том, будто дворянство, в отличие от боярства, являлось главной опорой самодержавия{1056}, нуждается, по крайней мере, в оговорках. Иван IV жил в постоянной тревоге за безопасность собственную и своей семьи. Отсюда, надо полагать, требование к И. Д. Бельскому сторониться «лиходеев», замышляющих зло в отношении царя и его домашних, а также извещать государя о подобных «лиходеях». Это требование согласуется со словами Грозного о том, что после падения Сильвестра и Адашева их сторонники начали «на нас лютейшее составляти умышление»{1057}, т. е. искать случая, чтобы совершить цареубийство и произвести замену на троне. Эти помыслы соответствовали интересам удельного княжья, в первую очередь интересам старицкого князя Владимира Андреевича. Поэтому Запись требует от князя Бельского не отъезжать и не «приставать» к удельным князьям, ни в каком деле и думе с ними не быть, с их людьми и боярами не дружить и «не ссылатися с ними ни о каком деле». По Р. Г. Скрынникову, данный «запрет имел в виду удельных князей Старицких, Воротынских, Вишневецких и т. д.»{1058}. Возможно, это так. Но главная опасность все-таки исходила от Владимира Старицкого и его матери княгини Ефросиньи. Поэтому, несмотря на широкую формулировку этого запрета, включающую всех удельных князей (даже не существующих, но могущих появиться в будущем), он прежде всего подразумевал, на наш взгляд, старицких князей. Вскоре жизнь снова подтвердила названную опасность. Непосредственно царю Ивану грозили не только враги внутренние, но и внешние. Здесь весьма характерен запрет, налагающий на князя И. Д. Бельского обязанность никаких иноземцев у себя не принимать, никакие дела с ними не обсуждать, ничего им не «приказывать» и «приказов» их не слушать, а обо всех их речах докладывать государю «безо всякие хитрости». Последнее обстоятельство указывает на государственную важность вопросов, поднимаемых иноземными вояжерами. Значит, иностранцы, приезжающие в Россию, вмешивались во внутреннюю жизнь Русского государства, действуя через влиятельных в Москве людей в интересах правительств своих стран. Деятели типа князя Бельского, сотрудничающие с враждебными Русии иностранцами, являют собой яркий пример изменников и предателей. И таких тогда было немало. Недаром в польском сейме существовало преувеличенное, но не беспочвенное мнение о том, что при одном появлении королевского войска на территории Русского государства «много бояр московских, много благородных воевод, притесненных тиранством этого изверга (Ивана Грозного. — И.Ф.), добровольно будут приставать к его королевской милости и переходить в его подданство со всеми своими владениями». Р. Г. Скрынников, характеризуя случай с И. Д. Бельским, говорит: «На допросе Бельский во всем повинился и признал, что изменил государю <…>. Несмотря на признание, следствие по делу Бельского вскоре зашло в тупик. Слишком много высокопоставленных лиц оказалось замешанным в заговоре. Среди подозреваемых оказался Вишневецкий. Причастность этого авантюриста к заговору не вызывает сомнения. Бельский получил тайные грамоты из Литвы к январю 1562 г. Обмен письмами с королем должен был отнять не менее одного-двух месяцев. Следовательно, тайные переговоры начались не позднее ноября-декабря 1561 г. Но именно в это время в Москву приехал Вишневецкий, уже имевший охранные от короля грамоты. Нити измены тянулись в Белевское удельное княжество и, возможно, в другие, более крупные уделы. В такой ситуации правительство сочло благоразумным вовсе прекратить расследование»{1059}. С князем Бельским Иван Грозный поступил милостиво, тем более что Освященный собор во главе с митрополитом Макарием ходатайствовал за него. За Бельского поручились влиятельные члены Боярской Думы и «более сотни княжат, дворян и приказных»{1060}. Это солидарное поручительство выдает в некоторой мере умонастроения поручителей, причем отнюдь не лучшего свойства. Однако ради прошения и челобитья отцов церкви государь простил Ивана Бельского{1061}. После освобождения князь «вернулся к исполнению функций официального руководителя Боярской Думы, хотя доверие Ивана он надолго потерял{1062}. По-другому он обошелся со своими детьми боярскими, вина которых усугублялась тем, что они были царскими служилыми людьми. Стрелецкому голове Елсуфьеву царь «велел вырезати язык» за то, что подговаривал Бельского бежать в Литву. Остальных было приказано подвергнуть торговой казни и отправить в заточение в Галич. Важно отметить, что ни один из изменников не был казнен смертною казнью. Тут опять-таки проявился нрав Ивана IV, отнюдь не кровожадный, как об этом принято думать. На первых порах Грозный не хотел прибегать к репрессиям{1063}. Однако класть голову в песок и не замечать «изменных дел» своих недругов царь уже не мог, так как слишком опасными и рискованными для Русского Православного Царства они становились. В конце июля 1562 года царь Иван, будучи в Можайске, узнал об измене князя Д. И. Вишневецкого. Летописец сообщает: «Приехали ко царю и великому князю Ивану Васильевичи) всеа Русии в Можаеск с Поля з Днепра Черкасские казаки Михалко Кирилов да Ромашко Ворыпаев и сказали, что князь Дмитрей Вишневецкой государю царю и великому князю изменил, отъехал с Поля з Днепра в Литву к Полскому королю со всеми своими людьми, которые с ними были в Поле; а людей его было триста человек». Вишневецкий взял также с собой в Литву «казацкого Московского атамана Водопьяна с его прибором, с полскими (службу несущими в Поле. — И.Ф.) казаки, а казаков с ним было с полтораста человек». Часть казаков перебежчик пытался увести к польскому королю принудительно, но не сумел: «А которые Черкасские Каневские атаманы служат царю и великому князю полскую службу, а живут на Москве, а были на Поле со князем Дмитреем же Вишневецким, Сава Балыкчей Черников, Михалко Алексиев, Федка Ялец, Ивашко Пирог Подолянин, Ивашко Бровко, Федийко Яковлев, а с ними Черкасских казаков четыреста человек, — и князь Дмитрей имал их в Литву к королю Полскому с собою силно, и они со князем Дмитреем в Литву не поехали и королю служити не похотели и приехали ко царю и великому князю со своими приборы, со всеми Черкасскими казаки, на Москву служити государю царю и великому князю всеа Русии»{1064}. Князь Д. И. Вишневецкий, как видим, привел к Сигизмунду Молодому пятьсот пятьдесят воинов, т. е. за малым вычетом целый полк. Это — существенное воинское прибавление к королевскому войску. Мало того, он оголил важный участок русской обороны на юге. Однако была еще одна очень важная (быть может, самая главная) услуга, оказанная Вишневецким польскому королю. Оправдываясь перед «Жигомонтом» за свой прежний отъезд к русскому царю на Русь, он писал польскому властителю, что хотел «годне» ему служить, «справы того неприятеля (Ивана IV. — И.Ф.) выведавши»{1065}. Вероятно, с этими «справами» (московскими государственными секретами) Вишневецкий и ехал в Литву. Комментарии здесь, как говорится, излишни. Новая царская опала обрушилась на князей Воротынских. В сентябре того же года «царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии положил свою опалу на князя Михаила да князя Олександра на Воротынских за их изменные дела, и вотчину их Новосиль и Одоев и Перемышль и в Воротынску их доли велел взяти на себя, и повеле князя Михаила посадити в тюрму со княгинею на Белеозере, а князя Александра и со княгинею велел посадити в тыне в Галиче за сторожи»{1066}. Важный штрих, дополняющий картину, содержится в описи царского архива, в котором, как явствует из нее, находился «сыскной список и расспросные речи боярина князя Михаила Ивановича Воротынского людей 71-го году»{1067}. Дознание показало, что Михаил Воротынский «пытался околдовать («счаровать») царя и добывал на него «баб шепчущих»{1068}. Тогда это было равносильно покушению на жизнь государя, бывшему по тем временам наиболее тяжким преступлением. Если сюда добавить подозрение Грозного (по всей видимости, обоснованное) о приготовлении Воротынских к отъезду в Литву{1069}, то станет ясно, что Иван Грозный не без основания опалился на них{1070}. Тем удивительнее обращение царя с М. И. Воротынским. В тюрьму «опальному боярину было разрешено взять с собой 12 слуг и 12 черных мужиков и «женок». На содержание семьи опального князя отпускалось ежегодно около 100 рублей. В июне 1563 г. опальному были присланы из Москвы шубы, кафтаны, посуда и т. д. Только в счет за 1564 г. Воротынский получил в следующем году «жалованье» три ведра рейнского вина, 200 лимонов, несколько пудов ягод (изюма), а также 30 аршин бурской тафты, 15 аршин венецианской на платье княгине и т. д.»{1071}. Одним словом, не тюрьма, а курорт какой-то. Однако наши историки продолжают уныло твердить о злобном, жестоком и злопамятном нраве царя Ивана IV. Но справедливо ли? А. А. Зимин, а вслед за ним и Р. Г. Скрынников, как бы смягчая действительную вину Воротынских, замечают, что на князя А. И. Воротынского царь со времени свадьбы своей с Марией Темрюковной «косо смотрел» и даже «на него гнев великой держал»{1072}. «Причиной раздора, — полагает Р. Г. Скрынников, — был, вероятно, вопрос о выморочной трети Новосильско-Одоевского удельного княжества, перешедшего после смерти князя А. И. Воротынского (1553) в руки его вдовы княгини Марьи. Земельное уложение 1562 г. начисто лишало двух младших братьев Воротынских права на выморочный «жеребей», включающий лучшие земли удела. Новый закон обсуждался в Боярской думе в январе 1562 г., и Воротынские, надо думать, выразили свое отношение к нему. Обсуждение затрагивало имущественные интересы, и бояре не выбирали выражений. Официальная версия сводилась к тому, что «князь Михаиле государю погрубил», что и явилось причиной опалы на Воротынских. Помимо того, власти подозревали, что Воротынские намерены идти по стопам Бельского и Вишневецкого и готовят почву для отъезда в Литву. Опасения подкреплялись тем, что Новосильско-Одоевское удельное княжение расположено было на самой литовской границе»{1073}. С нашей точки зрения, личные стычки царя Ивана с князьями Воротынскими нельзя считать основной причиной их опалы и ареста. Таковой были «изменные дела» удельных князей, включавшие, судя по всему, покушение на жизнь государя со стороны Михаила Воротынского, который посредством «чар» и «шепчущих баб» старался извести его. Перед нами еще одно свидетельство правдивости Ивана Грозного, говорившего в послании Курбскому о том, что после отставки Сильвестра и Адашева бояре не только не исправились, но стали «составляти» на самодержца «лютейшее умышление». Веским основанием для изоляции Воротынских послужило также подозрение насчет подготовки ими почвы для отъезда в Литву на службу к «Жигимонту». Здесь благодушие и выжидательность могли обернуться крупными потерями для Русии, и лучше было перестараться, нежели дать свершиться измене. Ведь владетельные князья уходили к новому сюзерену вместе с людьми, над которыми властвовали. В условиях Ливонской войны такого рода потери были для Русского государства совершенно нежелательны. Что касается неприятия удельными князьями, в частности Воротынскими, земельного уложения 1562 года, то за этим неприятием надо видеть отвержение самодержавия Ивана Грозного, распоряжающегося по собственному усмотрению и в интересах государства земельными владениями своих вассалов. Поэтому за официальным сообщением о том, что при обсуждении земельного уложения 1562 года «князь Михаиле государю погрубил», скрывалось раздражение самодержавными приемами властвования царя Ивана. Воротынские боролись против русского «самодержавства». На фоне наших суждений странно звучат слова С. Б. Веселовского, размышлявшего над причиной наказания Воротынских. «На этот раз, — говорит он, — дело шло не о побеге, и неизвестно, были ли Воротынские в чем-либо уличены. Летописец говорит коротко, что за «изменные дела» царь положил опалу на Воротынских…»{1074}. Летописец, на самом деле, говорит кратко. Но это не значит, что «дело шло не о побеге», что «неизвестно, были Воротынские в чем-либо уличены». Летописец недвусмысленно заявляет об их «изменных делах», оставляя нас, правда, догадываться относительно конкретного содержания этих дел. Но о самой измене удельных князей он заявляет ясно и прямо. Однако мы знаем, что измена князей в рассматриваемое время главным образом состояла в бегстве к иностранному правителю. Вот почему в поручной записи бояр «по князе Александре Ивановиче Воротынском» речь идет только о гарантиях поручителей относительно такого бегства и ни о чем другом: «Ему [А. И. Воротынскому] за нашею порукою от Государя нашего Царя Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, и от его детей от Царевича Ивана, да от Царевича Федора, да от Царевича Василья не отъехати в Литву, ни в Крым, ни в иные ни в которые государства, ни в уделы»{1075}. Поручная за князя А. И. Воротынского была составлена по случаю прощения Иваном Грозным преступления удельного правителя. Царь простил, в конце концов, и Михаила Воротынского, который в специальной поручной (1566) признал, что «проступил» против государя, и тот своего «холопа пожаловал» и «вины ему отдал»{1076}. 29 октября 1562 года Иван положил опалу на близкого друга, соратника Сильвестра и Адашева боярина князя Д. И. Курлятева, бывшего в Избранной Раде ключевой фигурой, одним из «подлинных вершителей дел при Адашеве», по выражению Р. Г. Скрынникова{1077}. Для Грозного это было, безусловно, отягчающим вину опального боярина обстоятельством. «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, — сообщает летописец, — положил свою опалу на князя Дмитрея Курлятева за его великие изменные дела; а велел его и сына его князя Ивана постричи в черньцы и отослати в Коневец в монастырь под начало; а княгиню княже Дмитрееву Курлятева и дву княжон велел постричи в Оболенску, а, постригши их, велел вести в Каргополе в Челмъской монастырь»{1078}. По словам С. О. Шмидта, отдаленность от столицы Коневецкого Рождественского монастыря, расположенного на острове Коневец на Ладожском озере, «и соответственно известная независимость ссыльных и монастырских властей от правительства допускали возможность — реальную или кажущуюся царю — облегчения участи осужденных. Кроме того, местонахождение монастыря недалеко от западной границы государства могло вызвать опасения, что Курлятев снова предпримет попытку бегства…»{1079}. Для подобных опасений у царя Ивана были основания. Дело в том, что после суда над Сильвестром Д. И. Курлятева назначили воеводой в Смоленск. Оттуда вскоре Курлятев прислал в Москву грамоту, которая хранилась в государевом архиве в «коробочке 187» со следующей пометой: «Да тут же грамота князя Дмитреева Курлятева, что ее прислал государь, а писал князь Дмитрей, что поехал не тою дорогою; да и списочек воевод смоленских, в котором году, сколько с ними было людей»{1080}. Р. Г. Скрынников по этому поводу ставит ряд правомерных вопросов (он их называет «недоуменными») и дает на них, по нашему мнению, правильный ответ: «Зачем сосланному в Смоленск Курлятеву понадобилось оправдываться перед царем за то, что он поехал не тою дорогой? Куда мог заехать опальный боярин, если иметь в виду, что Смоленск стоит на самом литовском рубеже? Для какой цели царю нужны были сведения о воеводах, служивших в Смоленске до Курлятева, о численности их вооруженных свит и т. д.? Все эти вопросы получают объяснения в том случае, если предположить, что во время пребывания в Смоленске Курлятев предпринял попытку уйти за рубеж в Литву, но был задержан и оправдался тем, что заблудился. То обстоятельство, что он «заблудился» со своим двором и вооруженной свитой, вызвало особое подозрение у правительства и служило уликой против опального»{1081}. Следует поставить еще два вполне уместных в данном случае вопроса. Почему Курлятев был назначен в порубежный город, откуда легко было уйти в Литву? Как такое назначение могло состояться? По свидетельству Ивана Грозного, уже приводимому нами, «приятели» Адашева и Сильвестра после отставки этих «изменников» начали им всячески помогать и «промышляти, дабы их воротить на первый чин». Нет ничего невероятного в том, что друзья Сильвестра и Адашева, а значит и Курлятева, позаботились об опальном боярине и сумели добиться его посылки в Смоленск, чтобы облегчить ему бегство в Литву. И Курлятев попытался бежать, но был задержан. Данное предположение приобретает еще большую убедительность при сопоставлении с другим событием, связанным с Дмитрием Курлятевым. Известно, что постриженного в монахи Курлятева отправили в Коневецкий монастырь, расположенный, как отметил С. О. Шмидт, неподалеку от западной границы России{1082}. Оттуда хотя сложнее и труднее, чем из Смоленска, но все-таки можно было бежать за рубеж. Облегчало побег и то обстоятельство, что Курлятев, несмотря на пребывание в Коневецком монастыре «под началом», находился там в качестве чернеца, а не узника. Возможно, московские друзья Курлятева помогали ему и здесь. Царь, по-видимому, понял это и распорядился перевести «изменника» в другой монастырь. В описи Посольского приказа 1626 года читаем: «Столпик, а в нем государева (Ивана IV. — И.Ф.) грамота из Троицы из Сергиева монастыря к Москве, к дияку к Ондрею Васильеву, да другая ко князю Дмитрею Хворостинину да к дияку к Ивану Дубенскому, писана о князе Дмитрее Курлетеве, как велено ево вести в монастырь к Спасу на Волок…»{1083}. Надо полагать, то был Иосифо-Волоколамский монастырь, хотя абсолютной уверенности тут у исследователей нет{1084}. Но если это так, то перед нами знаковое событие. По замечанию Р. Г. Скрынникова, «именно этот монастырь служил тюрьмой для наиболее опасных государственных преступников»{1085}. Следует добавить: Иосифо-Волоколамский монастырь «служил тюрьмой для наиболее опасных государственных преступников», поврежденных, как правило, ересью. По всей видимости, не являлся здесь исключением и Курлятев, так как другие руководящие деятели Избранной Рады, насколько мы знаем, не отличались чистотой православной веры. Если верить А. М. Курбскому, князь Д. И. Курлятев и его сродники через какое-то время («по коликих летех) были погублены («подавлено их всех»){1086}. В деле Курлятева внимание С. Б. Веселовского привлекло то, что можно, как он полагает, «нередко наблюдать в опалах царя Ивана, это — тесное сплетение политических мотивов опалы с личными счетами царя»{1087}. Поэтому исследователь предлагает двойственное определение причины расправы с Курлятевым и его семьей. Он пишет: «Из послания царя Ивана к Курбскому видно, что кн. Дмитрий Курлятев был «единомысленником» Сильвестра и Алексея Адашева, т. е. в числе бояр, которые, по представлению царя, отняли у него всю власть. Можно думать, что Д. Курлятев продолжал держать себя независимо и высказывать непрошеные и неугодные царю советы, и в этом была вся суть его вины. Но оказывается, что дело было не только в этом. В том же послании <…> царь с большой горечью вспоминает такие интимные подробности своих ссор с боярами, которые нам совершенно непонятны, но очень характерны: «А Курлятев был почему меня лучше? Его дочерям всякое узорочье покупай, — благословно и здорово, а моим дочерям — проклято да за упокой. Да много того, что мне от вас бед, всего того не исписати»{1088}. Весьма сомнительно, что князь Курлятев после опалы своих друзей Сильвестра и Алексея Адашева «продолжал держать себя независимо и высказывать непрошеные и неугодные царю советы». Не такой он был простак, чтобы не чувствовать заколебавшейся под собою почвы. Внимательное прочтение приведенного отрывка из послания Грозного Курбскому убеждает в том, что царь действительно вспоминает непонятные современному исследователи интимные подробности, но ничего не говорит о ссорах с боярами. Из слов Ивана следует, по нашему мнению, лишь одно: «единомышленники» вождей Избранной Рады вели себя недостойно, обидно и оскорбительно по отношению к государю; он это запомнил и по прошествии многих лет выказал свою обиду Курбскому. Но то была обида не столько на самого Курлятева, сколько на тех, кто унижал государя. Поэтому при объяснении опал Ивана Грозного не стоит столь усердно сплетать политические мотивы с личными счетами царя, хотя отвергать последние полностью тоже не следует. Вопрос в том, что превалировало в решениях Ивана Грозного. По нашему убеждению, Иван IV, будучи, как сейчас выражаются, государственником, исходил, прежде всего, из государственных интересов страны, которой правил. Вот почему, говоря о Курлятеве, необходимо сказать, что он подвергся опале по совокупности преступлений перед самодержавным государством и поплатился за все «изменные дела», содеянные им в период правления Избранной Рады и несколько позже, за близость к Сильвестру и Адашеву — недругам российского самодержца и Святорусского царства. Громкую известность приобрело бегство к польскому королю князя А. М. Курбского, в недавнем прошлом видного деятеля Избранной Рады{1089}, ставшего главнокомандующим русскими войсками в Ливонии и наместником ее{1090}. Было это в конце апреля 1564 года{1091}. Бежал Курбский под покровом ночи из Юрьева, куда царь его направил на годичную службу после полоцкого похода. Князь, вероятно, воспринял приказ государя как дурное предзнаменование{1092}. Он мог вспомнить, что «Юрьев послужил местом ссылки «правителя» Алексея Адашева. Не прошло и трех лет с того дня, как Адашев после победоносного похода в Ливонию отбыл к месту службы в Юрьев, где он был заключен в тюрьму и умер в опале»{1093}. Это, наверное, побудило его замыслить побег. Однако не следует думать, будто Курбский неожиданно снялся с места и, гонимый страхом, побежал в Литву. Его бегству предшествовали достаточно длительные секретные переговоры с польско-литовской стороной. «Сначала царский наместник Ливонии получил «закрытые листы», т. е. секретные письма, не заверенные и не имевшие печати. Одно письмо было от литовского гетмана князя Н. Ю. Радзивилла и подканцлера Е. Воловича, а другое — от короля. Когда соглашение было достигнуто, Радзивилл отправил в Юрьев «открытый лист» (заверенную грамоту с печатью) с обещанием приличного вознаграждения в Литве. Курбский получил тогда же и королевскую грамоту соответствующего содержания»{1094}. В решающую фазу, согласно предположению Р. Г. Скрынникова, переговоры вступили «в то самое время, когда военная обстановка приобрела кризисный характер. Сильная московская армия вторглась в пределы Литвы, но гетман Н. Радзивилл, располагающий точной информацией о ее движении, устроил засаду и наголову разгромил царских воевод. Произошло это 26 января 1564 года. Через три месяца Курбский бежал в Литву»{1095}. Становится ясно, что князь Андрей оказывал услуги врагам России уже во время переговоров с ними, причем не бесплатно. Он продал свое Отечество, получив за предательство немалые деньги. Русско-литовскую границу беглец перешел с мешком золота, в котором звенели 300 золотых, 30 дукатов, 500 немецких талеров и 44 московских рубля. Но, как говорится, «Бог шельму метит». Когда Курбский добрался до замка Гельмет, где его поджидали королевские люди, то тамошние «немцы» отняли у него золото. В замке же Армус местные дворяне забрали у перебежчика лошадей и даже содрали с головы лисью шапку{1096}. Курбский служил польской короне старательно. «Интриги против «божьей земли», покинутого отечества, занимали теперь все внимание эмигранта. По совету Курбского король натравил на Россию крымских татар, а затем послал свои войска к Полоцку. Курбский участвовал в литовском вторжении. Несколько месяцев спустя с отрядом литовцев он вторично пересек русские рубежи. Как свидетельствуют о том вновь найденные архивные документы, Курбский благодаря хорошему знанию местности сумел окружить русский корпус, загнал его в болота и разгромил. Легкая победа вскружила боярскую голову. Изменник настойчиво просил короля дать ему 30-тысячную армию, с помощью которой он намеревался захватить Москву. Если по отношению к нему есть еще некоторые подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружили стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те тотчас же застрелили его, если заметят в нем неверность; на этой телеге, окруженный для большего устрашения всадниками, он будет ехать впереди, руководить, направлять войско и приведет его к цели (к Москве), пусть только войско следует за ним»{1097}. Предатель служил новым господам истово, «не за страх, а за совесть». Только совесть эта, как сказал бы царь Иван, «прокаженна». Прав Р. Г. Скрынников, когда говорит: «На родине Курбский не подвергался прямым преследованиям. До последнего дня он пользовался властью и почетом. Когда же он явился на чужбину, ему не помогли ни охранная королевская грамота, ни присяга литовских панов-сенаторов. Он не только не получил обещанных выгод, но, напротив, подвергся прямому насилию и был ограблен до нитки. Он разом лишился высокого положения, власти и золота. Жизненная катастрофа исторгла у Курбского невольные слова сожаления о земле божьей — покинутом отечестве. Изменник не мог сказать ничего конкретного по поводу несправедливостей, причиненных ему на родине. Но он должен был как-то объяснить свое предательство. Именно поэтому он встал в позу защитника всех обиженных и угнетенных на Руси, в позу критика и обличителя общественных пороков… Курбский ничего не мог сказать о преследованиях на родине, лично против него направленных. Поэтому он прибегнул к обширным цитатам богословского характера, чтобы обличить царя в несправедливости»{1098}. Таким образом, князь Курбский, отвергавший вместе с другими деятелями Избранной Рады самодержавное развитие Русии, стал на путь сознательной измены и предательства своей родной Земли и своего Государя{1099}, угождая польскому королю, чья ограниченная вольностями вельможных панов власть являлась для беглого князя притягательней и выгодней, чем самодержавие русского царя. Курбский не был гоним на Руси. Он сам погнался за идеей «конституционной монархии». Этот «первый диссидент», как его иногда называют в современной историографии, мечтал о «феодальной демократии». Перед нами, так сказать, продавший душу мамоне первый феодальный демократ на Руси — исторический предтеча нынешних российских демократов. С. Б. Веселовский верно указал на то, что во времена Ивана Грозного и раньше побеги за границу не имели уже ничего общего с правом отъезда служилых людей от сюзерена к сюзерену, что «огромное большинство московских служилых родов уже более двухсот лет служило наследственно, от отца к сыну, что случаи отъездов в этой среде были крайне редким исключением даже в XV в…»{1100}. Посему так называемые отъезды, имевшие место при Иване Грозном, необходимо квалифицировать в качестве бегства, являвшегося не чем иным, как клятвопреступлением, т. е. одним из серьезнейших правонарушений. Однако едва ли можно согласиться с С. Б. Веселовским, когда он сводит опалы, направленные против именитых бояр и удельных князей, к личным конфликтам Ивана Грозного со знатью, не пытаясь уловить в этих опалах смысл государственной необходимости{1101}. Затушевывая изменнический характер побегов, историк склонен видеть в них форму «уклонения от грозы гонений, к которой прибегали слуги царя Ивана»{1102}. Подобный упрощенный подход к политике Ивана IV для нас неприемлем, как неприемлемо и то, что говорит С. Б. Веселовский, устанавливая последовательность царских опал и предательских побегов за рубеж: «Опалы вызывали побеги, и обратно, побеги влекли за собой новые опалы…»{1103}. На самом деле ситуация была, по нашему мнению, несколько сложнее. Как уже отмечалось, «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады»{1104}. И это, безусловно, явилось толчком к побегам. Царь Иван, по всей видимости, предвидел подобные последствия отстранения от власти Адашева и Сильвестра. Отсюда отчасти его стремление обойтись со всеми мирно, приведя к новой присяге на верность государю княжеско-боярскую знать, связанную с руководителями Избранной Рады. Присяга, увы, оказалась напрасной: бояре побежали, а с ними — их люди. Последовали опалы. Если рассматривать события начала 60-х годов XVI века (до введения Опричнины) в данной плоскости, то придется согласиться с тем, что в тот короткий период не опалы порождали побеги, а, напротив, побеги вызывали опалы. В истории побегов XVI века начало 60-х годов занимает особое место. Из спорадических и двусторонних (из Литвы в Россию и в Литву из России) они превращаются в одностороннюю систему побегов из Руси за рубеж. Ко времени учреждения Опричнины бегство становится, по верному наблюдению С. Б. Веселовского, «заурядным явлением»{1105}. Разумеется, нельзя представлять себе это так, будто исследователь имеет дело с повальным бегством. Бежали главным образом лица, замешанные в изменах времени правления Избранной Рады, бежали, опасаясь справедливого возмездия. Особенно возрастает количество побегов таких лиц после изгнания из власти Адашева и Сильвестра. Расширяется также и география «изменных» побегов. Поначалу изменники бежали преимущественно в Литву, а затем и в другие страны. С. Б. Веселовский, помимо Литвы, называет Швецию и Турцию{1106}. Но это — далеко не полный перечень. Более обстоятельное представление о нем дает поручная запись Михаила Ивановича Воротынского (апрель 1566 г.), в которой князь обещает «от своего Государя Царя и Великого князя Ивана Васильевича всея Русии, и от его детей от Царевича Ивана и от Царевича Федора, и от тех детей, которых детей ему Государю вперед Бог пошлет из их земли в Литву к Жигимонту Августу Королю Польскому и к Великому Князю Литовскому, и к его детем, или иной хто на Королевстве Польском или на Великом Княжестве Литовском будет, и к Папе Римскому, и к Цесарю, и к Королю Угорскому, и к Королю Датцкому, и к Королю Свейскому, и ко всем Италийским Королем и ко Князем, и поморским Государем не отъехати и до своего живота; и не ссылатися в Литву и Польшу с Королевскою с Литовскою и с Лятцкою радою, и с иными ни с кем на Государское лихо не ссылатися. Также мне не отъехати к Турскому Салтану, и к Крымскому Царю, и в Нагай и в иные бесерменьские государства, и не ссылатися с ними ни грамотою, ни человеком…»{1107}. Список властителей и государств, куда стремились «отъехати» изменники русского самодержца, составлен, без сомнений, на основании прецедентов, связанных с их побегами. Ясно также и то, что они бежали отнюдь не к друзьям царя Ивана, которые могли вернуть беглецов обратно, выдав московским властям, а к врагам и недоброжелателям. И что же мы видим? Мы видим, что к середине 60-х годов XVI века количество побегов возрастает, что тогда Русскому государству так или иначе противостояла почти вся Западная Европа и Восток в лице Турции, Крыма и Ногайской орды. Причиной, судя по всему, послужило успешное Казанское и Астраханское «взятье» и начавшаяся удачно Ливонская война. Казалось, весь мир объединился против России. И вина за это лежит на Избранной Раде и партии Адашева — Сильвестра, намеренно упустивших победу над Ливонией в самом начале войны с ней и всячески препятствующих налаживанию отношений между Русью, Крымом и Турцией. * * *Однако и после отставки Сильвестра и Адашева сторонники политики этих вождей Избранной Рады продолжали противиться успеху русского оружия в Ливонской войне. Вспоминается такой, в данной связи довольно характерный эпизод. Осенью 1562 года, когда шла подготовка к Полоцкому походу, на литовском фронте по распоряжению боярина, воеводы и наместника «града Юрьева и иных Ливонские земли» Ивана Петровича Федорова-Челяднина были вдруг прекращены все военные действия. В результате «совершенно неожиданно для царя и великого князя страна оказалась в состоянии перемирия с Великим княжеством Литовским»{1108}. Что побудило И. П. Федорова на столь неожиданный и рискованный для него шаг? Оказывается, адресованная ему грамота (10 сентября 1562 г.{1109}) литовского надворного гетмана и Троцкого воеводы Григория Александровича Ходкевича, который призывал юрьевского воеводу остановить войну и ненависть, никаких «шкод» друг другу не чинить и кровь людскую не проливать{1110}. Гетману, вероятно, были известны некоторые слабые струны тщеславного боярина, и он не скупился на льстивые слова: «А иж слышу о том гораздо, иж ты, брат мой, будучи от государя своего на той украйне [Ливонии], всякое дело порадно и промышлено доспеваешь, и домысл твой люди во многом хвалят, для того виделося мне до тебе брата моего грамоту мою выписати и в познанье с тобою прийти. И игдыж слышу о тебе брате моем, иж еси человек побожного и справедливого живота, яко один с православия сущих христиан, чаю, иж от доброго дела слуху своего не отлучишь…»{1111}. Обращение надворного гетмана произвело на Ивана Петровича самое хорошее впечатление, пробудив в нем приятные исторические воспоминания, относящиеся к совсем недавнему прошлому: «А и преж сего бывало, государя нашего царя и великого князя отец князь великий Василей Иванович, бывший государь, с вашего государя отцем, с бывшим королем с Жигимонтом-Августом, меж государей розмирье станетца и меж их война учи-нитца, и от королевских панов великих и от ваших отцов и от ваших дядь присылали бывали ко государя нашего бояром, ко отцем нашим, к дядям нашим, чтоб бояре московские государя своего великого князя наводили, чтоб меж государей был мир и братство и доброе пожитье и кровь бы хрестьянская на обе стороны не лилася, а вашего государя паны также наводили своего государя. Яз помню, брат твой при бывшем государе нашем, при великом князе Василье Ивановиче всеа Руси, как Миколай Миколаевич Радивил присылал на Москву к дяде моему Григорью Федоровичю Давыдовичю, чтоб бояре государя, своего великого князя Василья Ивановича всеа Руси, бывшего государя наводили с вашим государем с королем Жигимонтом, бывшим государем, в дружбу и в братство и в доброе пожитье, чтоб кровь христианская межи ими не лилася, да по той ссылке меж государей и мир составлен. И мы нынеча также хотим, чтоб меж государя нашего и меж вашего государя дружба и братство и смолва сталася и кровь бы христианская не лилася»{1112}. И вот ливонский наместник без «обсылки» с царем Иваном и Боярской Думой отдал приказ о прекращении в Ливонии военных действий: «И мы ныне для доброго дела, чтоб меж государей дал Бог доброе дело ссталося, государя своего воеводам по городом Ливонские земли и всем воинским людем заказали, чтоб вашего государя людем войны никоторые не чинили до государева указу…»{1113}. Услужливость Ивана Петровича очень понравилась Г. А. Ходкевичу, и в одном из последующих своих писем он любовно обращается к боярину: «брат наш милый и приятель»{1114}. Но та же услужливость дала литовским панам повод писать ему отнюдь не в просительном тоне, примером чего может служить грамота князя Александра Ивановича Полубенского, где читаем: «И ты бъ, господин Иван Петрович <…> своей господе и братье бояром писал, штоб они православного и благочестивого государя, царьское его величество, молили умилно, чтоб с нашим государем мир взял о земли свои, о люди, о городы, о землю Ливонскую помирилися; а в те поры накрепко прикажи до Алыста и до Вельяна и по нашим городом, штоб люди твои не входили в землю Ливонскую…»{1115}. Это уже похоже на приказ, возможный лишь при одном условии: какой-то зависимости «господина Ивана Петровича» от литовских панов. В чем она состояла конкретно, сказать определенно, конечно, нельзя из-за отсутствия у нас источников, раскрывающих ее. И. П. Федоров-Челяднин принял, очевидно, единоличное решение о перемирии, не удосужившись выслушать других царских воевод, о чем можно судить по датам переписки литовского гетмана с московским боярином: 15 сентября 1562 года «чухна Андреш» вручил И. П. Федорову грамоту Г. А. Ходкевича, а на следующий день, 16 сентября, ответ был уже готов и отправлен адресату{1116}. Ясно, что за такое короткое время наместник вряд ли мог оповестить воевод и сообразовать свое решение с их позицией. Эта поспешность, с какой Федоров откликнулся на послание Ходкевича, выдает в боярине и осмысленность совершенных им поступков, и его предрасположенность к ним. Понятно, что с уведомлением государя о своей «миролюбивой» акции Федоров не спешил. Только 25 сентября, т. е. через 10 дней после получения грамоты Ходкевича, он написал царю о произошедшем{1117}. По-видимому, ему надо было время, чтобы повязать остальных воевод круговой порукой и, самое главное, полностью остановить войну в Ливонии, поставив Ивана Грозного перед свершившимся фактом. И. П. Федорову удалось сплотить своих подчиненных: грамота царю была отправлена из Юрьева от имени воеводы Ивана Петровича Федорова и всех воевод да дьяка Шемета Шелепина{1118}. Самоуправство И. П. Федорова-Челяднина вызвало у Грозного явное неудовольствие, отразившееся в ряде посланий (грамот), отправленных государем из Москвы в Юрьев. Судя по этим посланиям, обстановка в столице была непростой. Боярская Дума во главе с «навышшим боярином» Иваном Дмитриевичем Бельским готова была поддержать своего собрата, допустившего, с точки зрения самодержца, непростительное своеволие. Бояре били челом государю, «учиняся все поспол». Но царь настоял на том, чтобы Федоров послал Ходкевичу вторую грамоту, текст которой он, очевидно, составил сам. Ливонскому наместнику надлежало переписать этот текст «слово в слово» и отправить своему корреспонденту{1119}. Грозный справедливо считал, что установлению перемирия должны предшествовать переговоры, для чего польско-литовской стороне предлагалось направить в Москву «своих послов или посланников с таким делом, которое на доброе дело постановити могло»{1120}. А пока Иван Грозный, в сущности, отменил решение И. П. Федорова-Челяднина, причем весьма дипломатично и умно. Царь так распорядился: «А что он (Г. А. Ходкевич. — И.Ф.) съ своей стороны людем государя своего заказал чтоб зацепки и шкоты нашим людем не чинили, а ты бъ нашим людем их земли воевати не велел, а доколе к тебе от нас в том деле отписка будет, а к нему от короля какова отписка будет, и о том бы заказал ты накрепко, чтоб наши люди их людем, которые в Лифлянской земле, зацепки не чинили»{1121}. Наряду с тем Иван указал: «А нечто вперед к тебе Григорей Хоткеевич пришлет грамоту о том, чтоб тебе боярину нашему нашим воинским людем из Смоленска, с Велижа, с Невля, с Заволочья, с Опочки, с Себежа и иных наших порубежных городов войны на литовские места чинити не велети, и ты б о том к нему отписал, что ты боярин нашь и наместник и воевода Вифляндские земли, и ты нашим Вифлянские земли воиньским людем литовским людем зацепки и шкоты чинити не велел на время <…>; а по иным порубежным городом нашим воеводы наши иные, и по тем городом те воеводы наши о порубежных делех и ведают, и тебе к нему про те порубежные городы, чтоб из них война уняти, без нашего ведома отписати нельзя»{1122}. Следовательно, царь Иван приказал боярину самому дезавуировать перед Ходкевичем свое решение о перемирии, расписавшись в бессилии обеспечить в полном объеме реализацию этого решения и «унять войну», поскольку не обладал властью над «воинскими людьми» порубежных городов, откуда совершались военные рейды. Таким образом, боярину было указано его место{1123}. В грамоте от 4 октября 1562 года государь строго предупреждал Федорова на будущее: «А нечто вперед какова от Григорья Ходкева к тебе грамота будет, и ты бы по той грамоте отписки к нему не учинил до нашего указу, а тое бы еси его грамоту прислал к нам»{1124}. Ивану хорошо был знаком боярский нрав, и, надо полагать, поэтому он повторил данный наказ в другой своей грамоте, датированной 11 октября 1562 года: «А нечто Григорей Хоткевич к Ивану отпишет, и Иван бы тое грамоту прислал ко государю; а без государевы бы обсылки Иван к Григорью Хоткееву грамоты от себя не посылал, а присылал бы те грамоты ко государю часу того».{1125} С другой стороны, неоднократное напоминание Федорову о недопустимости самостоятельной переписки с Ходкевичем характеризует вину и степень ответственности, взятой на себя юрьевским воеводой. Более конкретно сказать об этом царь повелел самому И. П. Федорову в грамоте Г. А. Ходкевичу: «А яз, сколко могу, взял на свою голову через царское повеление, столко о покое христьянском на границах в своем управлении берег»{1126}. Действительно, боярин взял на себя слишком много, вступив в самостоятельную переписку с надворным гетманом и приняв решение без ведома государя. Конечно, он понимал это и раньше, а вместе с ним — воеводы, сидевшие в ливонских городах и поддержавшие его, да дьяк Шемет Шелепин, находившийся при нем. Все они, наверное, наделялись, что их самоуправство останется без последствий. Но просчитались. И тогда, оробев, писали Ивану: «Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Руси холопи твои Иванец Петров Федоров и все воеводы да Шеметець Щелепин челом бьют»{1127}. Причина для страха была нешуточная: к чему бы сами ни стремились И. П. Федоров и воеводы, затеянное ими не санкционированное царем перемирие полностью противоречило русским интересам и могло если не сорвать, то, по крайней мере, затруднить поход на Полоцк, подготовка к которому шла полным ходом с осени 1562 года, если не раньше{1128}. Независимо от субъективных целей наместника Ливонии, установленное им де-факто перемирие с Литвой объективно являлось очередным предательством по отношению к России, напрягавшей силы в борьбе с наседавшими на нее со всех сторон врагами. Однако, сказать по правде, в данном случае, на наш взгляд, субъективные и объективные моменты совпадали. Возникает вопрос, почему так повел себя И. П. Федоров-Челяднин? Отвечая на этот вопрос, А. Л. Хорошкевич говорит: «Показательна приверженность Федорова к давним традициям внешних сношений. Он с удовольствием вспоминал, как в 1520–1522 гг. его дядя стал инициатором заключения перемирия с Великим княжеством Литовским. Он верил, что его авторитет как представителя «Ближней рады» царя ничуть не ниже, нежели его дяди 40 годами раньше. Поэтому Федоров решился на весьма опасный, как показала его будущая судьба, дипломатический шаг: он самостоятельно, даже без уведомления царя де-факто установил перемирие с Литовским княжеством. На совершение столь смелого поступка оказали влияние и воспоминания о родственных традициях, и новая для Руси практика боярского правления в период малолетства Грозного, когда именно бояре самостоятельно решали все сложные международные вопросы. Однако с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом, а Федоров оказался недостаточно дальновиден. Для Грозного единственным авторитетом в области международных отношений давно стал только он сам, поэтому Федоров получил отповедь, читавшуюся между строк послания, направленного ему царем для пересылки Ходкевичу. И на протяжении каких-нибудь двух месяцев — конца сентября — конца ноября 1562 г. — Федоров должен был твердо усвоить непреложную для самодержавия истину: власть в международных отношениях всецело и полностью принадлежит царю»{1129}. И. П. Федоров-Челяднин был, надо думать, не настолько глуп, чтобы не понимать безвозвратность ушедших в прошлое традиций, на основе которых строились взаимоотношения великих московских князей с высшей знатью. Поэтому его поведение обусловливалось не воспоминаниями о недавних временах, а явлениями современной ему жизни, в которой он занимал вполне осознанную политическую позицию, отвергающую самодержавную власть, причем не только в сфере международной политики, но и в области всей функциональной деятельности Русского государства середины XVI столетия. Или «самодержавство» Ивана Грозного, или ограниченная Боярской Думой монархия по типу Польско-Литовского королевства — так стоял вопрос. Федоров был в ряду тех, кто противился восстановлению поколебленного Избранной Радой царского самодержавия. Противники самодержавной власти в России искали и находили поддержку и помощь в Литве, а сказать точнее, — на Западе. Вот почему их борьба с самодержавием и лично с Иваном IV как его носителем имела не только внутриполитический, но и внешнеполитический характер. Именно на этой почве и происходили смычки с внешними силами русских бояр, детей боярских и других, выливавшиеся нередко в прямую измену и предательство. Таково, по нашему мнению, происхождение «самостоятельной» политики боярина и воеводы И. П. Федорова в «Вифлянской земле» и, в частности, прекращение здесь военных действий без каких-либо консультаций с Москвой, но в угоду надворному гетману Г. А. Ходкевичу и, в конечном счете, — враждебной Русии Литве. Сходного происхождения оказались и события, последовавшие за взятием 15 февраля 1563 года Полоцка, «ключевого пункта на Двине»{1130}. Элементарная военная логика требовала не останавливаться на достигнутом и развивать наступательные действия. Вот почему царь Иван уже на следующий день, т. е. 16 февраля 1563 года, послал «Литовские земли воевати царевича Ивана да воеводу своего князя Юрия Петровича Репнина, а с ним Татар пятнатцать тысечь, опричь иных загонщиков»{1131}. Но вдруг все застопорилось: «Февраля в 21 день{1132}, по Полоцкое взятие в 6 день, прислали из Литовского войска в царевы и великого князя полки к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитреевичю Белскому и к иным бояром королевска рада пан Николай Яновичь Радивил, воевода Виленский, да пан Николай Юриевичь Радивил, воевода Троцкий, да Григорей Александровичь Хоткевичь Павла Бережицкого с листом, а писали о том, чтобы они государя своего царя и великого князя на то не наводили, чтобы государь их царь и великий князь болши того крестьянские крови розливати не велел и миру и покою со государем их Жигимонтом-Августом королем похотел, а государь Жигимонт-Август король послов своих пришлет ко Успению святей Богородицы»{1133}. Обращает внимание тот факт, что литовский посланец, как свидетельствует летописец, едет «с листом» не прямо к царю Ивану, а «к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитриевичи) Белскому и к иным бояром»{1134}. О том же узнаем из ответной грамоты русских бояр литовским панам: «Что прислали есте ко мне, боярину навышшему и намеснику володимерскому, ко князю Ивану Дмитреевичю Белскому, и ко мне боярину и намеснику псковскому, и государя нашего царя и великого князя державце полотцкому, ко князю Петру Ивановичю Шуйскому, к боярину и намеснику тверскому к Данилу Романовичи) Юрьевича-Захарьина, и к боярину и намеснику ржевскому к Василью Михайловичи) Юрьевича-Захарьина, и ко мне к боярину и воеводе и намеснику коломенскому к Ивану Петровичи) Яковля-Захарьина; и к иным государя нашего, царского величества, к бояром и воеводам ты пан Миколай Янович Радивил, и пан Миколай Юрьевич Радивил, и пан тротцкий Григорей Александрович Хоткевича посланника своего Павла Бережитцкого с листом»{1135}. Литовские паны хорошо знали, к кому обращаться, они знали, кто им поможет. Дальше летописец извещает: «И царь и великий князь по грамоте королевские рады войну уняти велел и от Полотцска в далние места поход свой отложил. А в грамоте королевские рады велел бояром князю Ивану Дмитреевичю Белскому и иным бояром своим отписати от себя грамоту к Виленскому воеводе пану к Миколаю Яновичю Радивилу с товарыщи, что их для челобития государь их царь и великий князь к иным городом к Литовским не пошел и мечь свой унял…»{1136}. Стало быть, князь Бельский и бояре «навели» царя на то, что было выгодно Литовско-Польскому государству. Вряд ли можно сомневаться, что Иван принял это, мягко говоря, странное решение под давлением известного своими симпатиями к Литве князя И. Д. Бельского и других бояр{1137}, которых литовские паны просили повлиять на царя Ивана так, чтобы «границам государя нашего, городом, двором, селом и всим землям покой был захован»{1138}. Литовская сторона, как видим, очень боялась продолжения войны. И вот на помощь Сигизмунду и панам пришел Бельский с собратьями по Боярской Думе. Они старались изо всех сил, о чем сообщали радным панам неоднократно, будто ставя это себе в заслугу перед литовской стороной: «сколко нашии мочи было, столко есмя государю своему били челом, а послом было притти мочно и врать»{1139}; «извещаем сем своим листом, и сколко нашие мочи было, столко есмя о добре христьянском настояли и государя своего к началу к покою христианскому навели»{1140}; «а мы сколко нашие мочи, и мы столко государю своему радили и вперед думаем, чтоб государь наш похотел с братом своим, с государем вашим доброго пожития и смолвы»{1141}. Им удалось побудить царя Ивана дать Литве перемирие, а на подмогу привлечь к себе Владимира Старицкого, заручившись его поддержкой. Чтобы царь «с вашим государем похотел миру», сообщали панам радным наши «миротворцы», «мы, поговоря з братьею своею, все поспол учинися рада государская, били челом брату его царского величества князю Володимеру Андреевичи) и с ним вместе молили царское величество, чтоб он з братом, с вашим государем, похотел миру и согласия…»{1142}. По верному замечанию А. Л. Хорошкевич, «бояре решили заручиться поддержкой Владимира Андреевича, а не обращаться к царю напрямую»{1143}. Иначе говоря, они плели интригу, и старицкий князь активно включился в нее. Нельзя, впрочем, считать правильным мнение А. Л. Хорошкевич, согласно которому решение о перемирии «принималось в спешке и необдуманно»{1144}. Боярам не надо было долго рассуждать над решением о перемирии и обдумывать свои ходы, поскольку они являлись проводниками тщательно продуманной политики, осуществлявшейся до того Избранной Радой и, в частности, ее руководителями Адашевым и Сильвестром. Это, собственно, невольно признает и А. Л. Хорошкевич, когда говорит: «Согласившись на заведомо невыгодные для России условия перемирия с ВКЛ, бояре из верных государевых слуг превратились в «изменников». Они незаметно для себя продолжили линию внешней политики Адашева, явно расходившуюся с намерениями царя»{1145}. Позволим себе здесь несколько замечаний. И. Д. Бельский, В. М. Глинский, И. Ф. Мстиславский П. И. Шуйский и другие, кто доброхотствовал польскому королю и панам Рады, никогда не были «верными государевыми слугами». Они то и дело норовили изменить московскому царю: вспомним совсем недавнее дело о бегстве в Литву князей И. Д. Бельского и М. В. Глинского, не забудем и того, как князь И. Ф. Мстиславский водил с литовцами шашни, получая от них секретные послания{1146}. Нельзя изображать этих тертых в политике калачей наивными людьми, не ведающими, что творят. Эти бояре прекрасно понимали, что продолжают на новом этапе и в новых условиях внешнеполитический курс Алексея Адашева, расходящийся не только с планами царя, но и с государственными интересами России. Однако, если все же говорить о том, что решение насчет перемирия «принималось в спешке и необдуманно», то скорее применительно только к царю Ивану, которого бояре намеренно торопили, чтобы нахрапом вырвать у него согласие на прекращение военных действий. И здесь они также выполняли пожелание панов Рады, ждавших возвращения своего посланца не иначе как во вторник 24 февраля 1563 года{1147}. «А того у нас гораздо просите и напоминаете, — отвечали московские бояре литовским панам, — чтоб посланник ваш с отказом нашим в сей вовторник у вас был поздорову безо всякие зацепки был отправлен. И того посланца вашего Павла Бережитцкого поздорову на тот час и день к вам отправили»{1148}. При этом бояре, стремясь, по-видимому, произвести благоприятное впечатление на панов королевской Рады, подчеркивали свою расторопность, с какой отнеслись к их просьбе: «И мы тот ваш лист у вашего посланника у Павла Бережитцкого приняли в понедельник, а он приехал в неделю вечером»{1149}. Паны могли быть довольны: в понедельник Павел Бережицкий вручил Бельскому «с товарыщи» панский «лист», а во вторник уже возвращался с военно-дипломатической победой. Впрочем, бояре несколько поспешили обрадовать свою литовскую «братью», поскольку на деле Бережицкий уехал не во вторник, а в среду. Бояре униженно оправдывались: «А вашего есмя человека, Павла Бережитцкого во вторник не отпустили к вам, потому что в неделю приехал к нам поздно, а отпустили есмя его к вам в середу, февраля месяца 24 [?] день»{1150}. Размышляя о поведении бояр, добивавшихся перемирия с Литвой, А. Л. Хорошкевич приходит к довольно интересным, но не всегда, на наш взгляд, обоснованным выводам. «Поставленные литовцами, — говорит она, — перед необходимостью в кратчайший срок решать, продолжать ли военные действия или заключить перемирие на условиях статус-кво, они пошли на поводу у литовцев и под аккомпанемент слов о непролитии христианской крови, обычный для риторики того времени, дружно приняли условия, предложенные побежденной стороной. Возглавил боярскую «коалицию» и поддержал ее позицию Владимир Андреевич Старицкий. В нем царь, естественно, мог увидеть своего главного оппонента по военным проблемам, как до того увидел его в лице Сильвестра. Зависимость царя, по сути самодержца, как утверждает большинство современных российских историков, хотя пока и без официального титула (царского титула. — И.Ф.){1151} от мнения Боярской думы продемонстрирована весьма наглядно эпизодом с остановкой в Полоцке. Кто он — нерешительный политик, никудышный стратег и тактик или игрушка в руках боярства, прочно стоявшего на позиции «худой мир лучше доброй ссоры»? С военной точки зрения остановка войска в пределах городской черты Полоцка и прекращение боевых действий — грубейшая ошибка, не только тактическая, но и стратегическая. Очередная бесплодная попытка примирения с ВКЛ, где и после взятия Полоцка не признавали его царского титула, — сродни химере, в чем Грозный имел возможность убедиться неоднократно на протяжении 40–60-х гг. Трудно допустить, что царь не обладал качествами даже заурядного политического деятеля и не был в состоянии понять, чем грозило ему вступление в новые переговоры с Литовским княжеством. Остается предположить, что вплоть до 1563 г. он не чувствовал в себе силы для реализации собственной внешнеполитической линии»{1152}. Разберемся, однако, во всем по порядку. А. Л. Хорошкевич, безусловно, права, когда замечает, что «с военной точки зрения остановка войска в пределах городской черты Полоцка и прекращение боевых действий — грубейшая ошибка, не только тактическая, но и стратегическая». Она права и в том случае, когда говорит, что Грозный понимал ошибочность вступления «в новые переговоры с Литовском княжеством», т. е. ошибочность заключения перемирия с точки зрения интересов России. Возникает естественный вопрос, сознавали ли это бояре и князь В. А. Старицкий, настаивавшие на перемирии? Думается, хорошо сознавали, тем более что среди них были такие опытные военачальники, как И. Ф. Мстиславский и П. И. Шуйский, отлично разбирающиеся в военном искусстве. Следовательно, как со стороны Ивана Грозного, так и со стороны бояр-пацифистов на этот счет не было никаких заблуждений. Спрашивается, почему же все сошлись на одном — на целесообразности заключения невыгодного для русских перемирия. Судя по всему, у каждой стороны были свои резоны. Мотивы бояр, которых возглавил Владимир Старицкий, не представляют большой загадки. Все они так или иначе стояли на позициях недавно упраздненной Грозным Избранной Рады и ее руководителей Адашева и Сильвестра — ярых противников Ливонской войны, а если сказать больше, то войны с Западом вообще. В этом плане нет, по-видимому, принципиальной разницы между перемирием с Ливонским орденом в 1559 году, заключенным стараниями Алексея Адашева, и перемирием 1563 года, предоставленным Литве благодаря усилиям бояр и старицкого князя. Оба дипломатических акта являлись предательством русских государственных и национальных интересов. Поэтому их творцов должно и нужно считать изменниками и предателями Святорусского царства. Что касается царя Ивана, то он оказался в очень сложном положении. Сторонники перемирия, находившиеся в русском лагере и старавшиеся угодить литовским панам и польскому королю, сумели сплотить всех бояр, заручиться поддержкой Владимира Старицкого и выступить единым, так сказать, фронтом, или, по боярскому выражению, «все поспол учинися рада государская». Что же оставалось делать Ивану? Неужели он действительно не чувствовал «в себе силы для реализации собственной политической линии»? Нет, у него было достаточно сил, чтобы заставить бояр продолжать войну. Ведь принудил же государь бояр идти на Ливонскую войну, несмотря на упорное сопротивление Избранной Рады, Адашева и Сильвестра в частности. Ведь хватило у него сил, чтобы убрать с политической сцены и того и другого. Царь Иван был уже не тот, каким мы видели его после мартовских событий 1553 года. Самодержавство его постепенно восстанавливалось, и к 1563 году оно уже заметно продвинулось в этом направлении. Повторяем, Грозный мог заставить своих слуг продолжить войну после взятия Полоцка. Но он не сделал этого и поступил в высшей степени разумно и осмотрительно{1153}. Воевать руками тех, кто решительно не хотел воевать, было опасно. Война велась не первый год, и царь уже не раз наблюдал подозрительную медлительность воевод, проигранные странным образом сражения, ему известны были случая сдачи врагу крепостей. Он не мог не считаться с этим и потому решил, вероятно, сохранить то, что уже завоевал, удовольствовавшись тем на данном этапе войны. В создавшейся ситуации то было единственно верное решение, свидетельствующее о государственном уме русского государя, его умении ждать нужного момента и принимать взвешенные решения. Царь Иван прекрасно справился с этой непростой для себя задачей, изобразив трогательное согласие с «миротворцами»: «И царь и великий князь Иван Васильевич, выслушав литовского короля рады грамоты, и приговорил со князем Володимером Андреевичем и со всеми своими бояры и с воеводами…»{1154}. К сказанному надо добавить еще и то, что, склоняя Ивана IV к перемирию с Литвой, И. Д. Бельский и другие бояре играли на самых чувствительных душевных струнах православного монарха — его благочестии, набожности и глубокой религиозности, мотивируя свои уговоры «христианским добром», «покоем христианским», греховностью «пролития крови христианской». Когда Грозный поймет, наконец, эти уловки, он в сердцах воскликнет: «В тех странах (Ливонии и Литве. — И.Ф.) несть христиан, разве малейших служителей церковных и сокровенных раб Господних»{1155}. После предоставления Литве стараниями Бельского и боярской «братьи» перемирия Грозный, по всей видимости, в очередной раз имел возможность убедиться в том, что дело Адашева живет, что сам он стал жертвой очередной боярской измены. Не потому ли он так круто обошелся со своим близким другом князем Андреем Курбским, велев ему ехать в Юрьев на воеводскую службу, а не в Москву за наградами и почестями. Если верить боярскому посланию панам Рады, будто бояре в вопросе о перемирии «поспол учиняся», то надо признать, что Курбский являлся сторонником прекращения военных действий, к чему, по-видимому, склонял и Грозного. За это он, вероятно, и поплатился. Ведь о связях Курбского с польским королем и панами, о готовящейся измене князя Андрея царь Иван тогда еще не знал, даже не догадывался{1156}. Своими уговорами Курбский, наверное, вызвал в памяти Ивана Грозного образ ненавистного Алексея Адашева и тем самым рассердил государя. Гнев Грозного был тем более силен, поскольку он понимал, что по взятии Полоцка перед русским оружием открывалась победоносная перспектива, которая была, к сожалению, потеряна вследствие государственной измены, невольным участником которой стал он сам. Поэтому, видимо, Иван не поднял шума вокруг совершенной измены, но кое-кого наказал и, в частности, своего друга Андрея Курбского{1157}. Однако мысль об измене в Полоцке, судя по всему, не покидала царя{1158}. Отсюда понятно, почему Иван Васильевич столь болезненно и мгновенно реагировал на случаи новых измен. Взять хотя бы заговор стародубских воевод. Было это так. В конце марта 1563 года царь Иван, возвращавшийся из похода на Полоцк, получил, будучи в Великих Луках, вестовую отписку от смоленского воеводы М. Я. Морозова — недавнего деятеля Избранной Рады. Желая, быть может, выслужиться и загладить свою вину за сотрудничество с Адашевым и Сильвестром или просто отвлечь от нее внимание государя, Морозов сообщал, что прислал к нему «казачей атаман Олексей Тухачевский литвина Курняка Созонова, а взяли его на пяти верст от Мстиславля, и Курьянко сказал: король в Польше, а Зиновьевич [литовский воевода] пошел к Стародубу в чистой понедельник [21 февраля 1563 г] и с ним литовские люди изо Мстиславля, из Могилева, из Пропойска, из Кричева, из Радомля, из Чечерска, из Гоим, а вышел по ссылке Стародубского наместника — хотят город сдати»{1159}. Как явствует из Разрядов, наместником Смоленска тогда служил князь В. С. Фуников-Белозерский, а с ним воевода «для осадного времени» И. Ф. Шишкин, дальний родич Алексея Адашева{1160}. Последнее обстоятельство особенно насторожило царя, пославшего в спешном порядке в Стародуб воеводу Д. Г. Плещеева, а буквально вслед за ним воеводу С. А. Аксакова «и еще несколько дворян»{1161}. Фуникова и Шишкина арестовали и доставили в Москву. Началось следствие, которое вывело на родственный адашевский клан. В результате под стражу были взяты, а затем казнены брат Алексея Федоровича Адашева окольничий Даниил Федорович Адашев с сыном Тархом, тесть Даниила костромич Петр Иванович Туров, а также «шурья» Алексея Адашева — Алексей и Андрей Сатины. Жестокость наказания была, вероятно, обусловлена не только родственными связями казненных с Алексеем Адашевым, но и тем, что измены приобрели к середине 60-х годов XVI столетия катастрофический для Святорусского царства характер. Выразительным контрастом здесь служит «дело Тарваское про тарваское взятье». Во время осады города Тарваста в 1561 году литовский гетман Радзивил предлагал тарвастским воеводам князю Т. А. Кропоткину, князю М. Путятину и Г. Трусову изменить русскому «окрутному и несправедливому государю» и «з неволи до вольности» перейти на службу к польскому королю. Гетман пугал воевод жестокостями, которые творит «Иван Васильевич, бездушный государь»{1162}. Тарваст враги взяли. Грозный подозревал, что воеводы сдали город. Когда они вернулись из плена, был произведен розыск, и Кропоткин со своими сослуживцами угодили в узилище, просидев там около года. Выступая же в поход на Полоцк, царь Иван простил их: «пожаловал» и велел «вымать» из тюрьмы{1163}. Однако уже через два-три года обстановка в стране настолько изменилась, что прощение изменников стало гибельным для Русского государства. Репрессии, таким образом, превращались в историческую необходимость, которая, к несчастью, часто соседствует с несправедливостью. К тому же опять обострилась опасность, идущая со стороны князей Старицких, особенно со стороны неукротимой княгини Ефросиньи. * * *В официальной летописи под 1563 годом помещен следующий рассказ: «Того же лета, Июня, царь и великий князь положил был гнев свой на княже Ондрееву Ивановича княгиню Ефросинию да на ее сына на князя Володимера Ондреевича, потому что прислал ко царю и великому князю в Слободу княже Володимеров Ондреевича дьяк Савлук Иванов память, а в памяти писал многие государские дела, что княгини Офросиния и сын ее князь Володимер многие неправды ко царю и великому князю чинят и того для держат его скована в тюрме. И царь и великий князь велел княгине Офросиние и князю Володимеру Савлука к себе прислати. И Савлук сказывал царю и великому князю на княгиню Ефросинию и на князя Володимера Ондреевича многия неизправления и неправды. По его слову многие о том сыски были и те их неисправления сыскана. И перед отцем своим и богомолцом Макарием митрополитом и перед владыками и перед освещенным собором царь и великий князь княгине Ефросиние и ко князю Владимеру неисправление их и неправды им известил и для отца своего Макария митрополита и архиепископов и епископов гнев свой им отдал. И княгини Ефросиния била челом государю царю и великому князю, чтобы государь позволил ей постричися; и царь и великий князь княгине Ефросиние постричися поволил. И постриг ее на Москве на Кириловском дворе Кириловской игумен Вассиан Августа в 5 день, и наречено бысть имя ей во иноцех Евдокия. А похоте же житии на Белеозере в Воскресенском девичье монастыре, где преже того обет свои положила и тот монастырь соружала. А провожали ее до Белаозера боярин Федор Иванович Умного-Колычев да Борис Ивановичь Сукин да дьяк Рахман Житкове; отец же ея духовной Кириловской игумен Вассиан проводил до монастыря. Поволи же ей государь устроити ествою и питием и служебники и всякими обиходы по ее изволению, а для бережения велел у нее в монастыре быти Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Федорову сыну Щепотеву да подьячему Ондрюше Щулепникову, и обиход ее всякой приказано им ведати. У князя Володимера Ондреевича повеле государь быти своим бояром и дьяком и столником и всяким приказным людем; вотчиною же своею повеле ему владети по прежнему обычаю. Бояр же его и дьяков и детей боярских, которые при нем блиско жили, взял государь в свое имя и пожаловал их, которой же которого чину достоит»{1164}. Кроме летописи, сведения о соборном суде над Владимиром и Ефросиньей Старицкими содержатся (с некоторыми сокращениями и небольшими разночтениями) в наказной памяти боярину Федору Ивановичу Умному-Колычеву, отправленному в феврале 1567 года во главе посольства «в Литву к Жигимонту-Августу королю польскому и великому князю литовскому». Царь наказывал боярину: «А нечто вспросят про князя Володимера Андреевича и про матерь его княгиню Офросинью, чего для царь и великий князь на князя Володимера гнев держал и матерь его постриг и бояр и детей боярских от него отвел? И боярину Федору Ивановичю с товарыщи говорити: княгиня Офросинья и сын ея князь Володимер Андреевич во многих делех учали были государю нашему не прямити, и государь наш того дела сыскал, и княгиня Ефросинья и сын ея князь Володимер Андреевич, узнав свои вины, били челом государю нашему царю и великому князю за свои вины преосвященным Макарием, митрополитом всея Русии, и архиепископы и епископы и всем освященным собором. И государь наш для отца своего и богомолца Макария, митрополита всея Русии, и архиепископов и епископов и всего освященного собора княгиню Офросинью и сына ея князя Володимера пожаловал, вины их великие им отдал, а для тех вин бояр его и диаков у князя Володимера отвел, потому что они в той же думе были, а дал государь наш от себя своих бояр и диаков; а в вотчины место старые пожаловал его государь наш иными городы в вотчину же. И князь Володимер Андреевич теми городы владеет потомуже, как и старою вотчиною владел, и государь его ныне жалует по прежнему обычаю. А княгиня Офросинья била челом государю нашему, чтоб ей поволил постричися, и государь наш на то волю ей дал, и она и постриглася по своему хотению в том монастыре, которой преж того сама же строила, и по своему произволенью обиход ей всякой и дворовые люди всякие у нее учинены и ества и питье ей устроена, сколко ей надобе, и во все том государь наш поволности у нее не отнял»{1165}. Мы привели сообщения источников о «неисправлениях» и «неправдах» старицких правителей полностью, без малейших сокращений, чтобы избежать возможных в таких случаях неточностей и домыслов, нередко возникающих при пересказе текстов, в частности летописных. Причиной тут порою служит заявленное в исторической литературе ложное ощущение, будто «с ведома царя официальная летопись поместила краткий и нарочито туманный отчет о суде над старицким удельным князем и о выдвинутых против него обвинениях»{1166}. В тумане же, как известно, мерещится всякое. Р. Г. Скрынников, к примеру, воспринимает произошедшее не с точки зрения отношений Ивана IV с Владимиром и Ефросиньей Старицкими, а в плане взаимоотношений Захарьиных со Старицкими. По его словам, «приход к власти Захарьиных оживил давнее соперничество между Старицкими и их заклятыми врагами Захарьиными. Вполне понятно, что Старицкие не только примкнули к удельно-княжеской оппозиции, но и возглавили ее. Со стороны Захарьиных лишь ждали удобного повода, чтобы избавиться от опасной родни. После Полоцкого похода такой повод наконец представился. Едва правительство завершило расследование о заговоре Стародубских воевод, как был получен донос на Старицких»{1167}. Р. Г. Скрынников как бы заслоняет фигуру Ивана Грозного правительством Захарьиных, делая его послушным орудием в руках последних. Летопись, между тем, ясно и недвусмысленно говорит об отношениях царя со Старицкими без посредничества Захарьиных. Ясно также, что дело Старицких 1563 года возникло не по случайному поводу, а по причине их «неисправлений» и «неправды», о чем дал весть Ивану дьяк старицкого князя Савлук. Исследователь также преувеличивает, как нам кажется, негативные последствия для Старицких перехода на сторону врага дворянина Б. Н. Хлызнева-Колычева. «Есть все основания полагать, — пишет Р. Г. Скрынников, — что перешедший к литовцам дворянин был вассалом князя В. А. Старицкого. Семья Хлызневых издавна служила при дворе Старицких князей, вследствие чего ее члены не значатся в списках царского двора 50-х годов. Старший из рода Хлызневых И. Б. Колычев был членом думы Старицкого княжества и одним из главных воевод удельной армии. Родным племянником его был бежавший в Литву Б. Н. Хлызнев. Полагая, что беглец имел какие-то поручения к королю от своего сюзерена, царь утвердил бдительный надзор за семьей удельного князя. На другой день после падения Полоцка он направил в Старицу доверенного дворянина Ф. А. Басманова-Плещеева с речами к княгине Ефросинье. Когда 3 марта 1563 г. князь В. А. Старицкий выехал из Великих Лук в удел, его сопровождал царский пристав И. И. Очин-Плещеев. Спустя три месяца, в июне, царь, будучи в слободе, объявил Старицким опалу. Интересно, что к началу июня царь вызвал митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы. Официально было объявлено, будто царь с боярами уехал в село (слободу) на потеху. На самом деле переезд Думы в слободу был вызван отнюдь на «потешными» делами»{1168}. При чтении данного отрывка из книги Р. Г. Скрынникова можно подумать, будто с целью надзора за княгиней Ефросиньей был отправлен в Старицу Ф. А. Басманов-Плещеев. По правде сказать, в летописи, на которую ссылается исследователь, нет полной ясности в том, что Басманова царь направил именно в Старицу. Летописец рассказывает, как после взятия Полоцка государь направил князя Михаила Темрюковича Черкасского с вестью о победе в Москву «ко отцу своему и богомолцу к Макарию митрополиту всеа Русии и ко царице и великой княгине Марие и к детем своим, ко царевичю Ивану и к царевичю Федору, и къ брату своему ко князю Юрию Василиевичю»{1169}. Перед названными лицами Михаил Черкасский держал речи от имени государя. А вот перед Ефросиньей Старицкой речь говорил Федор Басманов, что и понятно, поскольку М. Т. Черкасский должен был произносить речи только перед членами царской семьи и митрополитом. Не исключено, что княгиня Старицкая находилась тогда в Москве на своем кремлевском подворье, где слушала речь из уст Басманова. Но как бы то ни было, эта речь была весьма лояльна по отношению к Ефросинье. Посланец говорил ей: «Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии велел тебе княже Ондрееве Ивановича княгине Офросиние челом ударити и велел тябя о здоровие вспросити: как тебя Бог милует? Государь наш царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии велел тебе сказати: Божиим милосердием и пречистые Богодицы и великих чюдотворец молитвами, да и отца нашего и богомолца Макария митрополита всеа Русии молитвами, мы по се часы дал Бог, здорово»{1170}. Эта речь, по сути, не отличается от речи, которую произнес князь Черкасский, обращаясь к митрополиту Макарию: «Царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии тебе, отцу своему и богомолцу Макарию митрополиту всеа Русии, велел челом ударити и велел тебя о здравии вспросити, как тебя, отца нашего, Бог милует? Государь наш царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии велел тебе, отцу своему и богомолцу, сказати: Божиим милосердием и пречистые Богородицы и великих чюдотворец молитвами, да и твоими отца нашего и богомолца молитвами, и родителей наших молитвами мы, дал Бог, по се часы здорово»{1171}. Сразу после речи Басманова к Ефросинье летописец замечает: «А речь ему и список дан таков же, з болшие речи»{1172}. Надо полагать, что в «большой речи» сообщалось о победе русского воинства в Литве — взятии Полоцка. Следовательно, речь Федора Басманова являлась в принципе созвучной речам, произнесенным князем М. Т. Черкасским перед митрополитом Макарием и членами царской семьи. А это означает, что она никак не связана с высказываемой Р. Г. Скрынниковым мыслью о бдительном царском надзоре над княгиней Ефросиньей и вообще за семейством удельного князя. Вряд ли можно извлечь что-либо конкретное из сообщения о том, что царский пристав И.И.Очин-Плещеев сопровождал старицкого князя, выехавшего в свой удел из Великих Лук. И уж вовсе не оправдывает надежд исследователя источник, используя который Р.Г.Скрынников заявляет, будто еще в начале июня 1563 года царь Иван вызвал в Александрову слободу «митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы». Причиной вызова, как явствует из рассуждений автора, приведенных нами выше, явилось замышляемая Грозным опала на Ефросинью и Владимира Старицких. Но при внимательном чтении Посольских книг, на которые, кстати сказать, ссылается Р.Г.Скрынников, вырисовывается несколько иная картина. 24 мая 1563 года «писал ко царю и великому князю из Смоленска боярин и воевода Михаиле Яковлевич Морозов, да дияки Онфим Селиверстов, да Истома Кузмин, что прислали к ним из Орши оршинской державца Ондрей Одинцович грамоту о том, что государь его король отпущает ко царю и великому князю посланника; а будет посланник на границе после Велика дни перед седмою суботою, а имени посланнику не писал»{1173}. В ту пору государь «для своего дела ездил в Одоев и в Белев». Соответствующие грамоты он получил на стане в деревне Лыково, когда «ехал из Колуги к Москве». Вскоре выяснилось, «что идет ко царю и великому князю королевский посланник Юрьи Быковский, а людей с ним двенатцать человек, да с ним же вместе идет посланник Войтех к Макарию митрополиту и ко царевым великого князя бояром от королевские рады»{1174}. Дипломатическая миссия двух посланников, Юрия Быковского и Войтеха Сновицкого (Новицкого), истолкована А. Л. Хорошкевич так, что якобы «в Литве считали равными Партнерами и царя, и бояр»{1175}. При этом она в данном случае упустила из вида митрополита Макария, к которому, наряду с боярами, ехал Войтех Сновицкий. Стремление литовской стороны вовлечь Макария в несвойственные его сану земские дела, о чем он сам неоднократно заявлял ранее{1176}, свидетельствовало о провокации со стороны короля и панов, преследующей цель омрачить отношения между святителем и царем. Государь это понял и принял необходимые меры. Сначала, когда он еще не знал даже имени литовского посланника, предполагалось принять посольство в Москве. Поэтому русскому приставу, сопровождавшему посольство, предписывалось следующее: «А как приедет пристав на останошной ям от Москвы, и он бы обослался к Москве»{1177}. Но как только царю Ивану стало известно, что вместе с Юрием Быковским едет Войтех Сновицкий к митрополиту Макарию и к боярам от королевской Рады и от епископа виленского Валериана, он сразу же изменил место встречи. Приставу Патрикею Бестужеву было велено, «чтоб он с литовским посланником ехал ко царю и великому князю в слободу, не ездя к Москве, из Можайска на Дмитров, а из Дмитрова к Троице в Сергеев монастырь, а от Троицы в слободу»{1178}. Изменение маршрута Патрикей Бестужев должен был так объяснить посланнику Быковскому: «Государь поехал по селам, а ему (Патрикею. — И.Ф.) с посланником велено ехати прямо ко царю и великому князю в Олександровскую слободу»{1179}. К этому времени царь уже вызвал в слободу «навышшего» боярина Ивана Дмитриевича Бельского и других бояр. Под видом человека Бельского государь также послал Казарина Трегубова навстречу Войтеху Сновицкому сказать ему, «что князь Иван Дмитреевич и все государевы бояре с царем и великим князем на потехе в селе, в слободе»{1180}. Приведенные факты говорят о том, что бояре были вызваны царем в Александрову слободу не по делу Старицких, как полагает Р. Г. Скрынников, а в связи с прибытием посольства из Литвы. Прием посланников Быковского и Сновицкого не в Москве, но в Слободе объясняется, по всей вероятности, двумя причинами: нежеланием Ивана Грозного вовлекать митрополита Макария в земские дела и стремлением Ивана ограничить контакты посольства с посторонними людьми. Последнее обстоятельство особенно беспокоило царя, наученного горьким опытом измен и предательств: «А приставу б с ним (посланником. — И.Ф.) дорогою идти велели бережно, чтоб к посланнику опричные люди не приходили и не говорил с ним никто ничего»{1181}; «и ехать ему с ним бережно и беречи того, чтоб с ним опричные люди не говорил никто»{1182}. Что касается митрополита Макария, то в Александрову слободу его, вопреки утверждению Р. Г. Скрынникова, царь не вызывал. Не случайно Патрикей Бестужев получил от Грозного такое указание: «А которой посланник послан к митрополиту и к бояром, и ты бы ему молвил, что бояря наши все с нами, а про митрополита бы ecu ему молвил, что чаешь (курсив наш. — И.Ф.) и митрополит с нами»{1183}. Аналогичный наказ был дан Казарину Трегубову: «А вспросит про митрополита где, и ему молвити, что митрополит был с государем у Живоначалные Троицы в Сергееве монастыре у празника, а ныне его чаят со государем же; а он дополна не ведает, что был в именье»{1184}. Стало быть, и Бестужев, и Трегубов высказывались в предположительном тоне (чают, т. е. надеются{1185}), якобы не зная точно, в Слободе ли митрополит Макарий. Но они лукавили, ибо, по всей видимости, знали, что святителя там нет. Об отсутствии в Александровой слободе митрополита свидетельствуют дипломатические встречи гонца Войтеха Сновицкого только с Иваном Дмитриевичем Бельским и другими думцами (бояре И. Ф. Мстиславский, Д. Р. Юрьев, князь И. И. Пронский и др.), хотя «грамота королевы рады» была адресована митрополиту и боярам{1186}. На прощальной аудиенции поклон виленскому епископу передал вместо митрополита Макария все тот же И. Д. Бельский: «Да молвил князь Иван, приподывся: Войтех, бископу Валериану от нас поклон»{1187}. Отсюда ясно, что Макарий с Войтехом не встречался, о чем, кстати, прямо говорит летописец: «А у Макария митрополита Войтех Сновитцской не был»{1188}. Литовский посланник не посетил Макария потому, что митрополит в Александровой слободе тогда отсутствовал, пребывая, очевидно, в Москве, куда литовское посольство не заезжало. Получается, таким образом, что царь Иван с конца мая 1563 года, когда он узнал об отъезде в Россию королевского посланника{1189}, по 18 июня того же года, когда Юрий Быковский и Войтех Сновицкий отбыли из Александровой слободы домой{1190}, был занят подготовкой приема посланников, самим приемом и отправлением их обратно в Литву. Митрополита Макария все это время в Слободе не было. Поэтому мысль Р. Г. Скрынникова о том, что в июне 1563 года Иван Грозный, будучи в Александровой слободе, «объявил Старицким опалу» и по их делу в начале июня «вызвал в слободу митрополита Макария и почти все руководство Боярской думы»{1191}, виснет в воздухе. В первой, по крайней мере, половине июня 1563 года царь, судя по всему, еще ничего не знал о «неисправлениях» и «неправдах» старицких правителей. Государь к Ефросинье и Владимиру Старицким относился тогда вполне благожелательно. Об этом говорит посылка царем Ф. А. Басманова к Ефросинье с пригожими речами после взятия Полоцка в феврале 1563 года. О том же свидетельствует и тот факт, что Иван, возвращаясь из Полоцкого похода, заехал «на городок на Старицу; а в Старице пожаловал, был у княже Ондреевы Ивановича у княгини Ефросинии и у сына ее у князя Володимера Ондреевича, их жаловал, у них пировал»{1192}. По тем временам, пированье — знак полного расположениям доверия. Этого и удостоились старицкие князья. Надо думать, где-то во второй половине июня 1563 года Ивану Васильевичу в Александрову слободу поступила «память» от дьяка Савлука Иванова, где сообщалось, что «княгини Офросиния и сын ее князь Володимер многие неправды ко царю и великому князю чинят»{1193}. Тогда же государь велел начать расследование, что подтверждает летопись: «Того же лета [1563], Июня, царь и великий князь положил был гнев свой на княже Ондрееву Ивановича княгиню Ефросинию да на ее сына на князя Володимера Ондреевича…»{1194}. Летописец говорит о «неисправлениях» и «неправдах» Ефросиньи и Владимира глухо, не поясняя, о чем у него идет речь. В Посольских книгах содержится несколько иная формула: «Княгиня Офросинья и сын ея князь Володимер Андреевич во многих делех учали были государю нашему не прямити…»{1195}. Здесь, на наш взгляд, проглядывает намек на измену клятве, данной царю и великому князю по части «прямой» службы. И все же летописный текст вызывает у некоторых исследователей затруднения в истолковании. «В чем состояли «неправды» и «неисправления» старицких князей, — замечает С. Б. Веселовский, — неизвестно. Неисправлением называлось вообще всякое нарушение присяги»{1196}. Заслуживают внимания соображения на сей счет Б. Н. Флори, который с сожалением отмечает, что «официальная летопись ни одним словом не объясняет, в чем состояли «многие неисправления и неправды» старицких князей перед Иваном IV. Одна деталь дала возможность исследователям высказать догадки о характере «неправд». В описи царского архива XVI века имеется помета, что 20 июля было послано царю во «княж Володимере деле Ондреевича» дело, «а в нем отъезд и пытка княже Семенова деле Ростовского» <…>. Судя по сохранившимся свидетельствам, в нем приводились показания о том, что во время тяжелой болезни Ивана IV многие бояре вступили в тайные переговоры со старицким князем о возведении его на трон в случае смерти царя. Это позволяет думать, что в начале 60-х годов царь получил какие-то новые сведения о сношениях Владимира Андреевича с недовольной знатью»{1197}. Б. Н. Флоря правильно, на наш взгляд, связал интерес Ивана Грозного к архивным материалам с поведением старицких князей в начале 60-х годов XVI века. Этот интерес был обусловлен отнюдь не тем, будто Грозному, как полагает Р. Г. Скрынников, не хватало улик «для открытого осуждения Старицкого»{1198}, а тем, что события десятилетней давности, запечатленные архивными документами, стояли в одном ряду с поступками старицких правителей, ставшими предметом летнего сыска 1563 года. Политический, по сути, антигосударственный характер поведения Ефросиньи и Владимира Старицких приобретает достаточную наглядность, если учесть распоряжение Ивана Грозного «быти» у князя Владимира Андреевича «своим боярам и дьяком и столником и всяким приказным людем… Бояр же его и дьяков и детей боярских, которые при нем блиско жили, взял государь въ свое имя и пожаловал их, которой же которого чину достоит»{1199}. Люди князя Владимира от боярина до сына боярского, поддерживавшие политические амбиции своих удельных властителей{1200}, готовы были идти с ними на самые крайние меры вплоть до убийства законного государя. Поменяв названных людей на своих бояр, стольников и пр., царь Иван, образно говоря, вырвал жало у старицких князей{1201}. И сделал он это с полным основанием, поскольку действия Старицких приобрели, как показал розыск, характер заговора, не исключавшего цареубийства. Р. Г. Скрынников, отдавая дань распространенной среди исследователей склонности находить у Ивана Грозного необоснованные страхи, говорит, что в 1563 году «власти приписали заговорщикам планы убийства царя и двух его сыновей»{1202}. По нашему мнению, слово приписали здесь неуместно, поскольку ничем не обосновано. Скорее, власти резонно предполагали возможность подобного убийства. Вероятно, государь проявил интерес к мартовским событиям 1553 года еще и потому, что тогдашними заговорщиками, желавшими посадить на московский трон Владимира Старицкого, была предпринята неудачная попытка цареубийства. Сам Иван нисколько не сомневался в том, что ему в начале 60-х годов, как и в 1553 году, грозила смерть. Царь долго помнил об этом и во втором послании Курбскому вопрошал: «А князя Владимира на царство чего для естя хотели посадити, а меня и з детьми известь?»{1203}. Необходимо заметить, что Курбский, отвечая на сей страшный для него вопрос, обошел стороной столь тяжкое обвинение, затронув лишь тему о воцарении Владимира Старицкого: «А о Володимере, брате своем, воспоминаешь, аки бы есмо его хотели на государство; воистину, о сем не мыслих, понеже и не достоин был того»{1204}. Беглый князь об одном умалчивал, а по поводу другого явно лукавил, ибо московским западникам середины XVI века, к числу которых принадлежал князь А. М. Курбский, вовсе не нужен был властитель, по-настоящему достойный царского престола. Им необходим был покорный исполнитель воли боярского «сингклита», послушное орудие в руках советников, окружавших царя. Слабый и недалекий Владимир Старицкий{1205}, воспитанный матерью в повиновении, как нельзя лучше подходил к такой роли. Официальная летопись в той части, где речь идет о суде над старицкими князьями, содержит известие, не оцененное еще в должной мере исследователями. Согласно этому известию, Ефросинью и Владимира Старицких судило высшее духовенство, причем без участия Боярской Думы: «И перед отцем своим и богомолцем Макарием митрополитом и перед владыками и перед освещенным собором царь и великий князь княгине Ефросинье и ко князю Владимеру неисправление их и неправды им известил»{1206}. По словам Р. Г. Скрынникова, «Боярская дума участвовала в рассмотрении дела Старицких, но не в его решении. Царь не желал делать бояр судьями в своем споре с братом. Участь удельной семьи предстояло решить духовенству»{1207}. В других своих работах историк объясняет, почему Грозный не захотел привлечь Боярскую Думу к суду над удельной родней. «Спустя несколько дней после ознакомления с архивами, — говорит он, — царь созвал для суда над Старицкими священный собор. Боярская дума формально в соборе не участвовала. Во-первых, царь не желал делать бояр судьями в своем споре с двоюродным братом и, во-вторых, в думе было немало родственников и приверженцев Старицких…»{1208}. Возможно, Р. Г. Скрынников прав. Но есть еще один элемент судебного разбирательства, проливающий свет на то, почему судил Старицких Освященный собор, а не Боярская Дума. Все приобретает ясность, если допустить, что новый заговор Старицких, как и старый (в марте 1553 года), не исключал убийства Ивана Грозного — Богоданного и Богоизбранного Царя, посредника между людьми и Богом, личность, по понятиям того времени, сакральную. Предметом судебного обсуждения был, следовательно, вопрос о судьбе теократического самодержавия и царя, его олицетворяющего. Это было главным во всех «неисправлениях» и «неправдах» Ефросиньи и Владимира Старицких. Понятно, что в данной ситуации высшее духовенство во главе с митрополитом Макарием, являвшимся одним из наиболее активных созидателей самодержавной монархии в России, не могло оставаться в стороне. Больше того, Освященный собор должен был выйти на первый план. Улики оказались настолько очевидны{1209}, что княгиня Ефросинья, игравшая, вероятно, основную роль в заговоре против государя, заявила о желании уйти в монастырь замаливать свой смертельный грех. Впрочем, об этом несколько историографических замечаний. В исторической литературе нередко высказывается мнение, согласно которому Ефросинью Старицкую постригли в монахини насильно. Так думал П. А. Садиков, утверждавший, будто Иван приказал Ефросинью «постричь в монахини»{1210}. Таково суждение и А. А. Зимина, который писал: «Царь Иван внял извету дьяка (Савлука Иванова. — И.Ф.) и «положил был гнев свой» на Ефросинью, а 5 августа даже насильно постриг ее в монахини»{1211}. Сомневается в добровольном уходе княгини Ефросиньи в монастырь и Б. Н. Флоря: «Мать Владимира Андреевича, княгиня Ефросинья (якобы по ее собственному желанию) 5 августа была пострижена в монахини в Воскресенском девичьем монастыре на Белоозере»{1212}. Особенно настойчиво проводит идею принудительного пострижения старицкой княгини Р. Г. Скрынников, повторяя ее с некоторыми вариациями из одной своей книги в другую: «Официальная версия гласила, будто княгиня Ефросинья, уведав свои вины, сама просила у царя позволения постричься в монастырь, что совершенно не соответствует ни обстоятельствам дела, ни характеру действующих лиц. Непреложным фактом остается то, что правительство добилось от высшего духовенства осуждения Старицких и что по приговору собора Ефросинья была заточена в один из отдаленных северных монастырей. Грозный «простил» Старицких вовсе не на соборе, как утверждает официозная летопись, а значительно позже, когда старица Евдокия была водворена в монастырь. 5 августа 1563 г. княгиня Ефросинья была принудительно пострижена в монахини на подворье Кирилловского монастыря в Москве»{1213}; «свою тетку — энергичную и честолюбивую княгиню Ефросинию — Иван не любил и побаивался. В отношении нее он дал волю родственному озлоблению. Ефросинии пришлось разом ответить за все. Нестарой еще женщине, полной сил, приказали надеть монашеский куколь. Удельная княгиня приняла имя старицы Евдокии и стала жить в Воскресенском женском монастыре, основанном ею самой неподалеку от Кириллова <…>. Воскресенская обитель не была для Ефросинии тюрьмой. Изредка ей позволяли ездить на богомолье в соседние обители»{1214}; «Иван считал душой заговора не своего недалекого брата, а его мать. Ее постигло суровое наказание. Ефросинью доставили из Старицы на подворье Кирилло-Белозерского монастыря, и 5 августа 1563 г. игумен Васьян постриг ее в монашеский чин. Официальная версия гласила, будто тетка царя, уведав свои вины, хама попросилась в монастырь. Но эта версия едва ли соответствует обстоятельствам дела. Ефросинья была полна сил, ее обуревали честолюбивые замыслы, и по своей воле она никогда бы не покинула мир <…>. Местом заточения удельной княгини стал Воскресенский Горицкий монастырь»{1215}. И еще: «Ефросинья подверглась принудительному пострижению и была отправлена к месту заточения…»{1216}. Здесь же Р. Г. Скрынников говорит о ссылке Ефросиньи{1217}. Что можно сказать по поводу этих суждений историка? Желательно все же было бы иметь ясность в вопросе о том, являлся ли Воскресенский монастырь для старицкой княгини тюрьмой и местом заточения или не являлся, находилась ли она здесь в ссылке или на иноческом жительстве. Неопределенность в данном вопросе, а тем более разноречивые ответы, предлагаемые Р.Г.Скрынниковым, запутывают и без того сложную историю с Ефросиньей Старицкой. Р. Г. Скрынников полагает, будто «Старицкие были в опале в течение нескольких месяцев»{1218}. «Опалу» же удельных князей, по всей видимости, надо начинать с так называемого «принудительного пострижения» Ефросиньи, которое состоялось, как известно, 5 августа 1563 года. Однако уже 15 сентября, согласно вкладной в Симонов монастырь, упоминаемой Р. Г. Скрынниковым, царь, пожертвовав деньги в обитель, велел молиться о здравии инокини Евдокии{1219}. Следовательно, к этому времени «опальная» княгиня была прощена царем. А это означает, что Р. Г. Скрынников, говоря о нескольких месяцах опалы Старицких, увлекается. Но была ли в действительности сама опала и последующее прощение княгини Ефросиньи и князя Владимира? Какие факты приводит исследователь в обоснование своей точки зрения? «В царском архиве в ящике 214, — отмечает Р. Г. Скрынников, — подле дела об отпуске на Белоозеро «княж Ондреевы Ивановича княгини во иноцех Евдокии» хранился особый документ — «отписка, как государь со старицы Евдокеи и сына со князя Володимера Ондреевича с сердца сложил». Данные подлинной архивной описи не оставляют сомнения в том, что сначала Ефросинья подверглась принудительному пострижению и была отправлена к месту заточения, и лишь после этого государь специальной грамотой объявил о прощении опальной семьи»{1220}. Обратимся к описи: «Ящик 214. А в нем отпуск на Белоозеро, в Воскресенский монастырь, княж Ондреевы Ивановича княгини, во иноцех Евдокеи, о обиходе, как быти ей на Белеозере, и отписка, как государь со старицы Евдокеи и сына ее со князя Володимера Ондреевича с сердца сложил…»{1221} В данном случае, как видим, ничего не сказано об опале Ефросиньи. Это особенно показательно при сравнении с дальнейшим текстом, относящимся к М. И. Воротынскому: «И отписки, в опале о князе Михаиле Воротынском, на Белоозеро»{1222}. Надо думать, что, будь Ефросинья Старицкая (инокиня Евдокия) в опале, была бы и соответствующая отписка. Но о ней в описи нет упоминаний. Относительно Ефросиньи (Евдокии) в описи говорится только в связи с документами, толкующими об отпуске княгини в Воскресенский монастырь, о ее обиходе в обители и о том, как она и ее сын были прощены («с сердца сложил») царем Иваном. Все это — звенья одной цепи. Поэтому рассматривать их следует не отдельно друг от друга, а в комплексе. В результате получается, что прибытие княгини Старицкой на Белоозеро, в Воскресенский монастырь, было обставлено если не тремя, то, по крайней мере, двумя грамотами, определяющими ее положение на новом месте. Это, во-первых, — грамота об отпуске Ефросиньи в женскую обитель с определением обихода, «как быти ей на Белеозере»{1223}. Слово отпуск, которое, по нашему убеждению, необходимо понимать в смысле отпустить, разрешить уйти{1224}, указывает на добровольный характер пострижения княгини Старицкой и ухода ее в монастырь, что соответствует сообщению официальной летописи, подтверждаемому, таким образом, документально. О том же говорит и поселение ее в Воскресенский монастырь по собственному выбору. Окажись она в опале и постриженной насильно, вряд ли Иван согласился бы отпустить Ефросинью в облюбованный, ею же сооруженный монастырь. Неизвестно в таком случае, куда бы забросила ее судьба. Ясно одно: ее содержали бы в строгости, как это практиковалось в отношении государственных преступников. Но тут ей установили такой «обиход», т. е. повседневную потребность, потребление, расход{1225}, какому любой опальный мог бы только позавидовать. Старице Евдокии государь распорядился «устроити ествою и питием и служебники [прислугой] и всякими обиходь; по ее изволению…»{1226}. За «несчастной» княгиней последовали 12 человек — ближние боярыни и слуги, имена которых частично восстанавливаются по Синодику опальных Ивана Грозного: Иван Ельчин, Петр Качалкин, Федор Неклюдов, Марфа Жулебина и Акулина Палицына{1227}. Знатной инокине позволили организовать в обители некое подобие вышивальной мастерской, собрав под монастырской крышей «искусных вышивальщиц. Изготовленные в ее мастерской вышивки отличались высокими художественными достоинствами»{1228}. Ей даже дозволено было держать при себе детей боярских, которых испоместили на Белоозере. В одной Памяти (1568) из приказа Большого Прихода в Поместный приказ говорится: «Бил челом царю государю и великому князю Кирилова монастыря игумен Кирил з братьею, а сказал, что их монастырьская вотчина в Белозерском уезде в Городецком стану на Мауриных горах деревня Кнутово и иные деревни, а сошного в них письма было полтретьи сохи; и тое-де их вотчину деревню Кнутово отписал Михаиле Колычев и роздал-де тое землю по дворы княжи Володимеровы Ондреевича матери княгине Евдокее детям боярским…»{1229}. Эти дети боярские старицкой княгини, обосновавшейся в монастыре, получили в его окрестностях около 2000 четвертей пахотной земли в одном поле, «а в дву по томуж»{1230}. Исходя из принятых тогда минимальных для детей боярских норм поместного оклада, можно предположить, что количество испомещенных служилых людей «княгине Евдокее» составляло около двадцати. Что это означало на практике относительно крестьян? По данным, изученным А. Л. Шапиро, еще в конце XV века в Новгородской земле, т. е. в регионе, соседствующим с Белозерьем, однолошадные-однообежные крестьянские хозяйства «составляли львиную долю всех крестьянских хозяйств»{1231}. Если считать, что обжа в среднем равнялась 10 четвертям пахотной земли в поле{1232}, то количество крестьянских дворов, розданных детям боярским Ефросиньи Старицкой, будет исчисляться примерно двумя сотнями. Эти 200 крестьянских дворов государство отписало на себя, а затем часть доходов с них передало служилым людям «опальной» удельной княгини, обеспечив за счет государственных средств содержание ее служилых людей. Опала, таки, очень странная. Столь необычный «обиход», предназначенный княгине-инокине, испытывавшей давние враждебные чувства к Ивану IV (и это в русском обществе не являлось секретом), мог повергнуть в недоумение белозерские власти и даже вызвать некоторую неуверенность в том, действительно ли так надо обхаживать и ублажать новоприбывшую. Поэтому в специальной грамоте царь во избежание, надо полагать, возможных недоразумений простил Ефросинью и Владимира{1233}, о чем посредством письменного уведомления («отписки»{1234}) были извещены местные власти. Итак, «отпуск», «обиход» и «прощение» представляли собою единую подборку документов, которые современному исследователю надлежит рассматривать не врозь, а в общем пакете. При таком подходе теряет всякую убедительность догадка о принудительном пострижении Ефросиньи Старицкой. В этой связи весьма красноречив тот факт, что С. Б. Веселовский, не упускавший случая, чтобы уязвить Грозного, должен был признать добровольный характер ухода старицкой княгини в монастырь: «Кн. Ефросинья изъявила желание постричься и удалиться в построенный ею Воскресенский Горицкий монастырь на р. Шексне, получила на это милостивое разрешение царя…»{1235}. А. Л. Хорошкевич также поддерживает мысль о добровольном пострижении Ефросиньи Старицкой: «Княгиня Евфросиния била Ивану IV челом о разрешении принять постриг и 5 августа получила милостивое позволение»{1236}. Необходимо согласиться с названными исследователями и отвергнуть идею принудительного ухода в монастырь старицкой княгини. Не кто иной, но именно она проявила желание укрыться от мира в монастырской келье. Сделано это было, вероятно, под впечатлением неопровержимости доказательств «неисправлений» и «неправд» старицких князей, о которых царь «известил» митрополиту и Освященному собору, а также под влиянием миролюбия государя, сложившего свой гнев и простившего виновных, пойдя навстречу просьбе иерархов церкви. О том, что Ефросинья была прощена на Соборе и не подверглась опале, свидетельствуют ее проводы в Воскресенский монастырь: «А провожали ее на Белоозеро боярин Федор Ивановичь Умного-Колычев да Борис Ивановичь Сукин да дьяк Рахман Житкове; отец же ея духовной Кирилловской игумен Вассиан проводил до монастыря»{1237}. Правда, некоторые историки, стремящиеся в поведении царя Ивана найти во что бы то ни стало негативные мотивы и побуждения, рисуют мрачными красками отъезд Ефросиньи Старицкой в избранную ею обитель. Так, Р. Г. Скрынников, изображая ее уход в монашество как ссылку, замечает: «Эта ссылка имела в глазах царя столь важное значение, что он поручил сопровождать Евдокию на Белоозеро члену регентского совета ближнему боярину Ф. И. Умному-Колычеву»{1238}. Сопровождение Евдокии на Белоозеро, о котором говорит Р. Г. Скрынников, сильно похоже на доставку преступника в тюрьму, что и понятно, поскольку исследователь, как мы знаем, отождествлял пребывание Евдокии в монастыре с заключением. Сходным образом изображает отъезд старицкой княгини А. И. Филюшкин: «Ефросинья Старицкая отправилась в ссылку под конвоем боярина Ф. И. Умного-Колычева, а также Б. И. Сукина, Р. Житкова»{1239}. Двойственную позицию в вопросе о характере отъезда Ефросиньи-Евдокии заняла А. Л. Хорошкевич, по словам которой «проводы ее в Воскресенский Белозерский монастырь были обставлены весьма торжественно. Она уезжала в сопровождении (или под конвоем?) Ф. И. Умного-Колычева, Б. И. Сукина и дьяка Рахмана Житкова»{1240}. И тут опять для назидания всем скептикам, не верящим в добрые побуждения царя Ивана, вспомним о С. Б. Веселовском, не отличавшемся какими-либо симпатиями к Грозному, но вынужденном признать, что Ефросинья «с почетом была отправлена на Белоозеро»{1241}. Царь Иван, разумеется, не был простодушным человеком. Он знал, с кем имеет дело, и понимал, что за неукротимой теткой нужен глаз да глаз. Поэтому не исключено, что Ф. И. Умной-Колычев получил некоторые инструкции на этот счет. Но главное все же было не в присмотре за Ефросиньей, а в том, чтобы окружить почетом отправление родственницы царя в монастырь. Не потому ли Федор Умной-Колычев, Борис Сукин и Рахман Житков сопровождали постриженицу только до Белоозера, а уже кирилловский Вассиан проводил ее до Воскресенского монастыря. Во всяком случае, односторонний подход к факту проводов старицы Евдокии, особенно в рамках конвойной, так сказать, концепции, должен быть, на наш взгляд, скорректирован. Почетные проводы Ефросиньи означали, что конфликт, возникший между ней и государем, исчерпан, что она прощена царем Иваном. Последующие события свидетельствуют о том же. Летопись сообщает: «Для бережения [Ефросиньи] велел [царь] у нее быти Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Федорову сыну Щепотеву да подъячему Ондрюше Щулепникову, и обиход ее всякой приказано им ведати»{1242}. Если по вопросу о проводах старицкой княгини из Москвы в Воскресенский монастырь мнения ученых разошлись, то здесь они сошлись, причем не в положительном для Ивана Грозного смысле. «Для бережения», т. е., попросту сказать, для надзора к ней был приставлен Михаил Иванович Колычев», — писал С. Б. Веселовский{1243}. С почетом отправлена на Белоозеро под надзор надсмотрщиков — таково несколько причудливое представление С. Б. Веселовского об отъезде княгини Ефросиньи в монастырь. О «присмотре» за Старицкой М. И. Колычева и других лиц говорит А. А. Зимин{1244}. Точку зрения С. Б. Веселовского повторил Р. Г. Скрынников: ««Для бережения» (надзора) к старице был приставлен М. И. Колычев, двоюродный брат Умного»{1245}. В аналогичном плане рассуждает Б. Н. Флоря: «Для бережения» царь приставил к тетке своих доверенных людей, которые должны были контролировать ее контакты с внешним миром»{1246}. Согласно А. Л. Хорошкевич, «доглядывать за княгиней в монастыре были назначены М. И. Колычев, А. Ф. Щепотев и подьячий А. Шулепников»{1247}. Обращаясь к летописи, откуда наши историки почерпнули свои сведения о пребывании Ефросиньи Старицкой в монастыре, встречаем вполне определенное свидетельство о том, что приставленным к старице М. И. Колычеву и другим лицам государь повелел быть для «бережения» столь знатной особы, а также для того, чтобы «обиход ее всякой ведати». В Академическом словаре русского языка XI–XVII вв. приводится несколько значений слова «береженье»: 1) Охрана, защита; 2) Предосторожность, принятие мер для ограждения от какой-нибудь опасности, вреда; 3) Оберегание, заботливое отношение, присмотр; 4) Бережливость, расчетливость{1248}. Кроме того, в Словаре раскрывается содержание фразы «держати береженье»: а) охранять, оберегать; б) содержать под стражей, стеречь, следить, внимательно наблюдать за кем-либо{1249}. Казалось бы, семантика слова «береженье» позволяет согласиться с исследователями, говорящими о присмотре М. И. Колычева, А. Ф. Щепотева и А. Шулепникова за старицей Евдокией. Но это будет полуправдой, поскольку в летописном контексте данное слово имеет по отношению к старицкой княгине позитивный смысл, означающий ее оберегание, заботливое отношение к ней. Именно поэтому Колычеву с товарищами велено ведать всякий обиход, установленный для старицы. Потому же мы видим «Михаилу Колычева» раздающим земли детям боярским старицкой княгини. Надо полагать, что названная тройка присматривала за Ефросиньей, но вместе с тем она обязана была заботиться о княгине, исполняя ее пожелания. Таким образом, ни о насильственном пострижении Ефросиньи, ни об опале, наложенной на. нее, говорить не приходится. Из летописи мы знаем, что князю Владимиру Старицкому, как и его матери, княгине Ефросинье, царь Иван «гнев свой отдал», т. е. простил, в присутствии митрополита Макария и высших иерархов церкви, выслушавших государя, известившего о «неисправлениях» и «неправдахъ» старицких князей, признавших вину последних, но просивших о снисхождении и милосердии к ним{1250}. Прощение последовало без промедления и было объявлено тут же на Освященном соборе, а не через месяц или два и неизвестно где, как полагают отдельные историки. Но коль так, то о какой тогда опале на Владимира Старицкого можно рассуждать? Тем не менее в исторической литературе подобные рассуждения встречаются. А. А. Зимин, например, пишет: «Опале на некоторое время подвергся и князь Владимир Андреевич Старицкий. Наиболее преданные князю Владимиру бояре, дети боярские и дьяки переведены были в государев двор, а к старицкому князю приставлены царские бояре и дворовые люди»{1251}. При этом А. А. Зимин, вспоминая события 1541–1542 гг., когда произошло нечто подобное, замечает: «Смена ближайшего окружения старицкого князя была проведена не впервые»{1252}. Необходимо, однако, учесть, что замена дворецкого, а также бояр и детей боярских из ближайшего окружения Владимира Андреевича, произведенная в самом начале 40-х гг., не носила опальный характер, поскольку была осуществлена во время прекращения опалы на старицких князей и освобождения их из «нятства»{1253}. Значит, и смена в 1563 году бояр, детей боярских и дьяков Владимира Старицкого на таковых из государева двора не может рассматриваться исключительно как проявление царской опалы. И все ж А. Л. Хорошкевич повторяет А. А. Зимина в данном вопросе, добавляя, правда, некоторые спорные подробности: «В опалу попал и Владимир Старицкий, вскоре лишившийся своего двора, переведенного государем «в свое имя»: «у князя Володимера Ондреевича повеле государь быти своим бояром, и дьяком, и стольником, и всяким приказным людей». Однако полностью расправиться с Владимиром Андреевичем — неудачливым (?) победителем Полоцка, пользовавшимся поддержкой и, вероятно, симпатией боярства, он тогда еще не решился»{1254}. По-видимому, так вопрос не стоял. Царь Иван обошелся с Владимиром милостиво не столько потому, что с пугливой оглядкой смотрел на бояр, симпатизирующих и поддерживающих старицкого князя, сколько потому, что не исчерпал пока терпения и надежды на исправление удельных правителей, как-никак приходившихся ему все же родичами. Кроме того, он слишком почтительно относился к своему «отцу и богомольцу» митрополиту Макарию и Освященному собору, чтобы не прислушаться к их просьбе о помиловании Владимира и Ефросиньи Старицких. Так что Иван не решился полностью расправиться с Владимиром Андреевичем не потому, что не мог, а потому, что не захотел, движимый, по всей вероятности, желанием все уладить миром. Обращался к царской «опале» на Владимира Старицкого в 1563 году и такой видный знаток истории России времен Ивана Грозного, как Р. Г. Скрынников. «Во время розыска об измене Старицких князь Владимир подвергся опале и был сослан в Старицу. Только осенью царь объявил о прощении брата и вернул ему наследственный удел. Но при этом прежнее правительство Старицкого было распущено», — пишет Р. Г. Скрынников в книге «Начало опричнины»{1255}. В последующей своей работе, написанной четверть века спустя, исследователь как бы усилил мысль об опале Владимира, сделав ее пространнее, чем это мы наблюдаем у других исследователей: «Обвинив брата в измене, Грозный велел взять его под стражу и отправил в ссылку в Старицу. Среди документов 1563 г. в царском архиве хранилась «свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича в Старицу…». Опала и ссылка Владимира сопровождалась конфискацией его удельного княжества <…>. Пока князь Владимир пребывал в опале, власти осуществили далеко идущие санкции. После династического кризиса 1553 г. Старицким запретили вызывать в столицу удельных бояр и «двор». В 1563 г. в связи с возвращением удела Владимиру его «двор» подвергся самой основательной чистке. Власти позаботились о роспуске удельной Боярской Думы… Приставив к князю Владимиру верных людей, правительство Грозного учредило своего рода опеку над удельным князем, взяв под контроль всю жизнь Старицкого удельного княжества. Суд над Владимиром дал повод правительству перекроить границы удельного княжества. Давние соперники Старицких Захарьины торжествовали победу. После конфискации удела они приглядели самые ценные из удельных сел и добились их передачи Дворцовому приказу, который они возглавляли. 23 ноября 1563 г. князь Владимир лишился городка Вышгорода и удельных дворцовых волостей Алешин и Петровской в Можайском уезде, а взамен получил земли в восточных уездах — городок Романов с селами»{1256}. Одним из важных проявлений царской опалы, которой подвергся старицкий князь, Р. Г. Скрынников считает, как мы могли убедиться, конфискацию удельного княжества. Фактов, подтверждающих эту конфискацию, исследователь не приводит, и не потому, что они общеизвестны, а потому, что их нет. Правда, отдельные историки пытаются подвести под частичное изъятие удела обмен землями между царем Иваном и князем Владимиром. «У Владимира Андреевича забрали часть его удела, дав, впрочем, взамен другие земли», — пишет В. Б. Кобрин{1257}. Но обычно в трудах историков царствования Ивана Грозного речь о конфискации старицкого удела в 1563 году не идет{1258}. И это, на наш взгляд, правильно. Владимир Старицкий вместе со своей матерью, княгиней Ефросиньей, был прощен царем Иваном по «печалованию» митрополита и Освященного собора на самой встрече государя с иерархами церкви. Тем самым устранялись основания для наказания провинившихся. Поэтому не надо мудрить. Надо просто прислушаться к летописцу и согласиться с ним в том, что после прощения Владимира, объявленного на Соборе, государь повелел старицкому князю владеть своей вотчиной «по прежнему обычаю»{1259}. Если владельческие права удельного князя и были прерваны, то лишь на время розыска, когда он находился под следствием, и до соборного заседания, на котором Владимир получил прощение своего венценосного брата и восстановление в правах. Теперь о так называемой ссылке князя Владимира Андреевича в Старицу. Мы видели, что мысль о ссылке Владимира в Старицу Р. Г. Скрынников доказывает, утверждая, будто «среди документов 1563 г. в царском архиве хранилась «свяска, а в ней писана была ссылка князя Владимира Ондреевича в Старицу»{1260}. Можно подумать, что исследователь располагает документом того времени, свидетельствующим о ссылке Владимира в Старицу. В действительности же это не так. Р. Г. Скрынников забывает сказать, что имеет дело с выдержками из описи Посольского приказа 1626 года, когда «по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу околничей Федор Левонтьевич Бутурлин да дияки Иван Болотников да Григорей Нечаев переписывали в Посольском приказе всякие дела, что осталися после пожару, как горело в Кремле городе в прошлом во 134-м году, майя в 3 день…»{1261}. Именно в этой описи читаем: «Свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича и князя Михаила Воротынсково на Белоозеро и отписки из-Ываня города о приезде свейского королевича Густава и о вестях, и наказы черные дворяном, как посыланы с Москвы в Слободу и по всем городом на псковичи»{1262}. Обращает внимание грамматический строй текста: «Свяска, а в ней писана была ссылка князя Володимера Ондреевича в Старицу». Смысл его состоит в том, что на момент составления описи в данной связке отсутствовал документ, говорящий о ссылке Владимира в Старицу и хранившийся, по сведениям переписчиков, там ранее. Если ссылка Владимира Андреевича в Старицу «писана была», то другие архивные материалы имелись в наличии: «Свяска, а в ней… отписки из-Ываня города»; «свяска, а в ней… наказы черные дворянам». Особенно наглядно различие формулировок выглядит на фоне перечисления переписчиками других связок: «Свяска, а в ней рознь всякая надобная, грамотки посыльные…»; «свяска, а в ней списки свадебные черные великого князя Василья Ивановича…»; «свяска, а в ней грамоты от великой княгини Елены и от сына ее, от великого князя Ивана Васильевича, ко князю Ондрею Ивановичи) и ото князя Ондрея Ивановича к великой княгине и к сыну ее, великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, и к Данилу митрополиту, и к бояром…»; «связачка в листу, а в ней грамоты посыльные к великому князю Василью Ивановичю всеа Русии от великие княгини Елены и от князя Михаила Глинсково»; «свяска старых дел великого князя Василья Ивановича и царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, грамоты черные, и судные, и приказные доводные дела, ветхи все и роспались и иная всякая рознь»{1263}. Отсюда вывод: дьяки Иван Болотников и Григорий Нечаев, разбиравшие интересующую нас сейчас связку архивных материалов, обнаружили утрату одного из хранившихся в ней документов. Но о том, что исчезнувший документ должен был находиться в связке, они доподлинно знали. Поэтому ими (или одним Иваном Болотниковым{1264}) была сделана помета в прошедшем времени: «в ней [связке] писана была ссылка Володимера Ондреевича в Старицу». Современный историк, следовательно, располагает не первичным, а вторичным документом, представляющим собой краткую ремарку составителей описи царского архива, трудившихся по прошествии полувека после событий 1563 года. Возникает вопрос, насколько аутентичным является термин-ссылка, примененный в описи XVII века к событиям пятидесятилетней давности? Этот вопрос тем уместнее, что ссылка, о которой говорится в описи, довольно необычна для времени Ивана Грозного. Ее местом названа Старица — родовое гнездо старицких князей. За многие «неисправления» и «неправды» в такого рода ссылку тогда не отправляли, прибегая к более суровым репрессивным мерам, чаще всего к заключению в темницу. Не скрывается ли за словом «ссылка» дьяков XVII века предписанный государем переезд князя Владимира Андреевича из Москвы в Старицу на время сыска по его делу? Подобный переезд был целесообразен тем, что позволял изолировать Владимира, прервать его связь с внешним миром, в частности со своими сторонниками из числа московских бояр, замышлявших отстранение Ивана IV от власти. Интересы следствия обусловили решение царя направить князя Владимира в Старицу. Судя по всему, поздние составители описи царского архива поняли это решение самодержца как ссылку Владимира Андреевича в Старицу. В любом, однако, случае необходимо осмотрительно пользоваться сведениями описи, составленной много позже 1563 года, избегая буквальных ее толкований. Вряд ли стоит рассматривать обмен землями между Иваном и Владимиром в качестве следствия суда над старицким князем. Этот суд дал якобы «повод правительству перекроить границы удельного княжества», а Захарьиным поживиться за счет наиболее ценных старицких сел, как считает Р. Г. Скрынников{1265}. Приготовления к обмену и сам обмен производились тогда, когда старицкие князья, даже по Р. Г. Скрынникову, были уже прощены государем — в октябре — ноябре 1563 года. В этом обмене не видно никаких карательных санкций. Для Владимира Старицкого земельная мена, по верному наблюдению С. Б. Веселовского, «была вполне безобидной»{1266}. Нельзя, впрочем, согласиться с его утверждением, будто «эта мена имела исключительно хозяйственное значение»{1267}. Шире взглянул на проблему П. А. Садиков. Он писал: «С 1563 г. Иван стал, по-видимому, готовиться к назревающим реформам, так как продолжение войны все настоятельнее требовало упорядочения и финансового хозяйства, запутанного управлением приказных дьяков, и какого-то решительного поворота в отношениях между верхушкой феодального класса, его основной массой, дворянством — «воинниками», и лично Грозным — носителем самодержавной власти. Иван во время своих ежегодных поездок по монастырям «на богомолье» и «по потехам» тщательно присматривается к хозяйственному строительству в своих собственных дворцовых селах, знакомится с положением дел в гуще «удельных» княженецких вотчин по «заоцким городам», заглядывает постоянно в настоящий «удел» кн. Владимира Андреевича, разъезжает с ним по его вотчине и «выменивает» у него немедленно по приезде в Москву понравившиеся, очевидно, благоустроенные хозяйственно, земельные единицы»{1268}. А. А. Зимин, одобривший догадку П. А. Садикова о том, что обмен землями между царем Иваном и Владимиром Старицким указывал на подготовку Грозного к продолжению государственных реформ, внес некоторые дополнительные штрихи к этому обмену. «Ежегодные поездки на богомолье и «потехи», — замечал исследователь, — могли использоваться царем для изучения организации удельного управления, опыт которого он использовал в недалеком будущем. С этим же замыслом как-то связывается и начало обмена землями с Владимиром Старицким»{1269}. Бесспорный интерес представляет мнение А. Л. Хорошкевич в той его части, где обмен землями между Иваном и Владимиром не соотносится не только с внутриполитической ситуацией в России, но и с обстоятельствами внешнеполитического свойства. Вспомнив о смерти Юрия Васильевича, родного брата Ивана IV, а также земельную мену последнего с князем Старицким, А. Л. Хорошкевич говорит: «События, несомненно, были связаны. К опасениям царя из-за влияния Владимира Андреевича на боярство добавлялся страх перед его возможными претензиями на наследство кн. Юрия и вообще на царский престол. Этот обмен произошел 26 ноября, на третий день после смерти Юрия Васильевича, вероятно, вскоре после похорон, на которых присутствовал и Владимир Андреевич, и сарский и подонский епископ Матвей, и весь освященный собор. Вместо Вышгорода на Протве и ряда Можайских волостей (Олешни, Петровской, Воскресенской) старицкий князь получил далекий от Москвы г. Романов на Волге с уездом, кроме Рыбной слободы и Пошехонья. Видимо, царь руководствовался не только хозяйственными побуждениями: ему было важно лишить Владимира Старицкого земель на запад от Москвы, расположенных по пути следования литовско-польских послов»{1270}. На наш взгляд, ларчик открывается проще. Судя по всему, замысел обмена возник у государя не мгновенно. Не стал он неожиданностью и для Владимира Старицкого, которому было известно о намерениях Ивана. Показательна в этом отношении следующая летописная запись: «Сентября в 21 день (1563)… царь и великий князь поехал в объезд к Троице живоначалной в Троецкой монастырь молитися, а от Троицы из Серьгиева монастыря поехал на Можаеск. А в Можайску свешал государь церковь Успения пречистые Богородицы дубовую брусеную о пяти верхах, что против государева двора, а у нее пять пределов, а освящена бысть Октября в 3 день, а свещал ее Ростовский архиепископ Никандр. А из Можайску государь ездил в Старицу, во княже Володимерову отчину Ондреевича дворцовым селам, а князь Володимер Ондреевичь с ним же; а в Верее у князя Володимера Ондреевича государь был и пировал, и по Верейским селом и по Вышегороцким государь ездил. А на Москву государь приехал Ноября в 1 день»{1271}. О чем говорит эта запись? Она говорит о том, что Иван IV отправился из Москвы «в объезд» (поездка, выезд с целью осмотра, контроля{1272}) западных русских городов и сел, расположенных на территории Старицкого удельного княжества. Всякое общественное дело, в особенности государственное, тогда начинали с публичного моления Богу. Вот почему царь заехал «молитися» в Троице-Сергиев монастырь и уже оттуда «поехал на Можаеск». Обнаруживается устоявшийся интерес государя к Можайску. Здесь у царя свой двор{1273}, здесь по его повелению строится Успенский храм, в освящении которого он принимает непосредственное участие. Сюда государь всей своей семьей приезжает молиться и отдыхать: «Поехал царь и великий князь в Можаеск к Николе Чюдотворцу и въ монастыри помолитися и по селом прохладится, а с ним его царица и дети его церевичи Иван и Федор Ивановичи»{1274}. Можайск — резиденция, можно сказать, царя Ивана{1275}. Тут он проводит длительное время, принимает различных иноземных послов, вестников и гонцов{1276}. Обращает внимание весьма важное военно-стратегическое значение Можайска, ставшего местом сбора и концентрации русских войск перед походом на Литву{1277}, а в некоторых случаях вследствие сравнительно небольшого расстояния от Берега — и крымских татар{1278}. Этот город на западных рубежах Руси являлся самым крупным{1279}, представляя собою мощную деревянную крепость, построенную по новым образцам{1280}. В Ливонскую войну Можайск приобрел существенное военно-стратегическое значение. Естественно, что аналогичное значение имели также близлежащие уезды, волости и села{1281}. По всей видимости, Иван совершил «объезд» именно этих земель, чтобы присмотреться к ним и при необходимости договориться с Владимиром Старицким о передаче их в ведомство Дворцового приказа, что в условиях войны было крайне необходимо с точки зрения государственных интересов. Договоренность, надо полагать, состоялась. И старицкий князь, понимая государственную потребность перехода удельных земель, соседствующих с Можайском, в ведение Москвы, не усматривал в этой договоренности давления на себя, а тем более какого-то наказания за недавние свои «неисправления» и «неправды» по отношению к царю. При чтении летописи складывается впечатление, что царь Иван и князь Владимир решали общее дело. Поэтому они вместе объезжали удельные дворцовые волости и села, вместе пировали, демонстрируя взаимное согласие. Договоренность Ивана с Владимиром, достигнутая во время поездки государя по удельному княжеству в октябре 1563 года, была реализована 26 ноября, когда «царь и великий князь Иван Василиевичь всеа Русии менил со князем Володимером Ондреевичем землями: выменил у князя Вышегород на Петрове и с уезды да на Можайском уезде княжие волости, волость Олешню, волость Воскресеньскую, волость Петровскую; а променил государь князю Володимеру город Романов на Волге и с уездом, опричь Рыбные слободы и Пошехония»{1282}. Сам по себе обмен примечателен. После только что неопровержимо доказанных розыском «неисправлений» и «неправд» Владимира и Ефросиньи Старицких, в обстановке тяжелой войны с Польшей и Литвой, за которыми стоял, собственно, весь Запад, Иван IV компенсирует Владимиру Андреевичу взятые на себя в силу военной надобности старицкие земли, тогда как мог попросту их изъять и конфисковать, что было бы принято московским обществом как должное. Но царь поступил иначе, не желая, вероятно, чтобы его, совсем недавно перед лицом Освященного собора простившего старицких князей, заподозрили в мести. Он и здесь оказался на высоте православного самодержавства, управлявшего подданными посредством мира, любви и согласия, а потребуется и — грозы. Итак, летом 1563 года Иван Грозный «сложил свой гнев и отдал вину» Ефросинье и Владимиру Старицким, творившим всякие «неисправления» и «неправды», нацеленные на то, чтобы «извести» царя и его детей, как он сам скажет позже. Но перед нами отнюдь не единственный случай прощения государем изменников незадолго до учреждения Опричнины. Иван простил М. В. Глинского, И. Д. Бельского, М. И. Воротынского, воевод, сдавших врагу Тарваст, и др. После этого странными, по меньшей мере, кажутся слова В. О. Ключевского, который так охарактеризовал Ивана Грозного, когда он прогнал своих прежних советников — Сильвестра и Адашева: «Иван остался опять один на один со своими злыми чувствами и страстями, не находя опоры, лишенный любви и преданности, он опять начал действовать коренными инстинктами своей души: ненавистью, мстительностью и недоверием»{1283}. В этих словах проглядывает не столько исторический портрет Ивана, сколько его художественный образ, порожденный творческой фантазией В. О. Ключевского, образ захватывающий, но далекий от реальности. Неубедительным представляется и утверждение С. Ф. Платонова, будто проведенный Грозным «неискусно и грубо» разрыв с Избранной Радой «превратился в глухую вражду» царя «с широкими кругами знати», будто «со стороны последней не было заметно ничего похожего на политическую оппозицию»{1284}. Ведь разрыв с Избранной Радой, осуществленный Грозным постепенно, осторожно и с большой выдержкой, был обусловлен ее борьбой против царского самодержавства и стремлением партии Сильвестра — Адашева реформировать государственно-политическую систему так, чтобы превратить самодержавную власть в некое подобие королевской власти Польско-Литовского государства. И едва ли следует противопоставлять царя Ивана «широким кругам знати», среди которой было немало приверженцев русского самодержавия, разделявших идеи Грозного о царской власти. Любопытным в этой связи представляется одна из грамот Боярской Думы начала 60-х гг. XVI века, направленная панам королевской Рады. В этом послании-грамоте развиваются мысли, под которыми, не колеблясь, мог подписаться Ивана Грозный. «Наши государи самодержцы, — писали бояре, — никем не посажены на своих государствах, но от всемощиа Божия десницы государи, так и ныне на своих государствах государи, а ваши государи посаженые государи; ино которые крепче, вотчинный ли государь, или посаженой государь, сами то разсудите»{1285}. Бояре говорили то, что В. О. Ключевский приписал одному Грозному. «Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы сиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не многомятежному человеческому хотению»{1286}. Иван высказывал такие вещи, которые вращались в кругу политического, так сказать, истеблишмента той поры. Особенно примечательна формула, употребленная боярами в грамоте: «А государь наш волен своих холопей казнити и жаловати»{1287}. В данной формуле В. О. Ключевский видел яркое проявление сугубо индивидуального творчества царя Ивана. «Вся философия самодержавия у царя Ивана, — утверждал историк, — свелась к одному простому заключению: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны же». Для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли»{1288}. Не говоря о столь упрощенном и даже вульгаризированном подходе к «философии самодержавия у царя Ивана», заметим, что упомянутая формула являлась плодом творчества политического класса России середины XVI века в целом, независимо от положительного или отрицательного отношения к ней отдельных его представителей, в чьей борьбе и столкновениях формировалось русское самодержавство. Вернемся, впрочем, к прежней теме. На последнем этапе существования Избранной Рады и особенно после ее падения сторонники Сильвестра и Адашева, терпя поражение, пустились, как мы знаем, в разные измены, перешедшие в многочисленные побеги из России, сопровождавшиеся нередко выдачей государственных тайн и секретов. Заметное распространение получило скрытое противодействие бояр и воевод войне с Литвой и Польшей, что, безусловно, играло на руку врагу. Всем этим они сами упорно толкали Ивана Грозного к чрезвычайным мерам. К тому же вела политика Избранной Рады по отношению к русской церкви и православной вере. * * *Наблюдение за церковной политикой московского правительства в конце XV — середине XVI века выявляет одну любопытную закономерность: ужесточение этой политики (особенно по части церковно-монастырского землевладения) в моменты, когда оживлялось еретическое движение на Руси, а к правительственной власти приходили или приобретали большое влияние на нее лица, либо принадлежащие к еретикам, либо покровительствующие им. Вспомним последний период правления Ивана III. Еретики Федор Курицын, Елена Волошанка, протопоп Алексей и другие представители еретической партии «жидовствующих», проникшей внутрь Кремля, оказались у кормила власти. Именно они, прикрываясь государственными интересами испомещения служилых людей, а на самом деле следуя своей ереси, отвергавшей монашество, побуждали Ивана III к ликвидации церковно-монастырского землевладения, находя себе при этом сторонников среди нестяжателей, так сказать, «первой волны», возглавляемых Нилом Сорским, который, будучи идеалистом, лишенным должного прагматического чутья, вряд ли осознавал, какое церковно-политическое, в конечном счете, государственное крушение подстерегает Русь при осуществлении его, безусловно, симпатичной (если судить абстрактно) теории на практике. Следует далее заметить, что проблема земельного обеспечения служилых людей не являлась тогда и позже столь острой, как об этом нередко говорят наши историки, желая подвести под ограничительные и конфискационные меры правительства Ивана III идею исторической необходимости, чтобы лишний раз выставить православную церковь той поры в качестве реакционного учреждения, стоящего на страже своих богатств и препятствующего поступательному развитию Русского государства. К сожалению, об искусственности представлений о правительственном «земельном голоде» той поры можно судить преимущественно по косвенным данным, современным эпохе конца XV — середины XVI века и более поздним. Что касается последних, то на память приходят факты, связанные с разбором в октябре 1665 года князем Иваном Андреевичем Хованским и дьяком Аарионом Пашиным Новгородского Разряда, говоря новейшим языком, Северо-Западного военного округа. То был смотр служилых людей (дворян и детей боярских) всех пятин. В. М. Воробьев, внимательно изучавший это событие, обнаружил крайне любопытную вещь: из общего числа участвовавших в смотре служилых людей 38,4 % составляли беспоместные воины, состоящие на царском жаловании{1289}. Важно иметь в виду, что данное обстоятельство никоим образом не сказывалось на боеспособности русского войска. Логично предположить наличие беспоместных служилых людей и в первой половине XVI века. Так позволяют думать Писцовые книги, содержащие соответствующие сведения{1290}. Существование беспоместных в те времена нельзя, по нашему убеждению, рассматривать как свидетельство земельной скудости, ощущаемой русскими государями конца XV — середины XVI века. Не случайно, по-видимому, И. С. Пересветов, предлагая Ивану IV проект обустройства «воинников» (служилых людей), считает предпочтительным государево денежное жалование{1291}. Надо думать, Пересветов прибегал здесь не только к опыту фантасмагорического «Магмет-Салтана», но и к русской реальности середины XVI века, в которой обеспечение беспоместных служилых людей государевым денежным жалованием было достаточно распространенным явлением. И реформатор предлагал царю придать данному явлению всеобщий характер. Для этого имелись все необходимые условия. Но жизнь пошла по иной колее, в чем еще надлежит разобраться исследователям. Учитывая сказанное, мы не станем вслед за другими историками толковать конфискацию Иваном III земель дома Св. Софии и новгородских монастырей, их раздачу служилым людям как указание на недостаток земельного фонда у самого великого князя. Испомещение московских служилых людей в Новгородской земле имело не столько экономическое, сколько военно-политическое значение. Образование корпуса помещиков в Новгородской земле преследовало три, как минимум, основные цели: 1) сделать прочным и необратимым территориально-политическое объединение Новгорода с Москвой{1292}; 2) наладить управление вновь присоединенной землей{1293}; 3) обезопасить границы Русского государства на западе. Едва ли произведенное Иваном III изъятие церковных земель в Новгороде означало секуляризацию, пусть даже «местную» и «случайную», как полагал, например, А. С. Павлов{1294}. Особенно проблематичной является мысль о подобной сути земельных конфискаций, осуществленных вслед за присоединением Новгорода к Москве в 1478 году под предлогом восстановления прежнего княжеского домена: «А государьство нам свое держати, ино на чем великым княземь быти в своей отчине, волостем быти, селом быти, как у нас в Низовскои земле, а которые земли наши великых князей за вами, а то бы было наше»{1295}. Перед нами, несомненно, акция победителя в стане побежденных, долженствующая покрепче связать только что покоренное Новгородское государство с Московским княжеством. «В положении победителя, умеющего пользоваться своей победой и хорошо понимающего значение приобретенного, — говорит Б. Д. Греков, — иначе поступать, быть может, и нельзя было»{1296}. В результате «первые конфискации новгородских земель дали московской казне 17 тысяч обеж. Из них… 15 тысяч обеж были включены в фонд дворцовых и великокняжеских оброчных и только 2 тысячи со временем пошли в раздачу. После 1483–1484 годов в собственность великого князя поступило еще 12 тысяч обеж. Княжеский домен в Новгороде был восстановлен, поэтому львиную долю вновь конфискованных земель — до 10 тысяч обеж — казна раздала московским боярам и служилым людям. К концу XV века в собственность государства перешло свыше 72 тысяч обеж, из которых более половины осталось под непосредственным управлением великокняжеского ведомства, а меньшая часть попала в руки служилых людей»{1297}. По расчетам Ю. Г. Алексеева, после конфискации новгородских земель Иваном III великокняжеские оброчные и дворцовые земли составляли 50,8 % от общего числа земельных угодий, а поместные земли — только 36,3 %{1298}. О чем все это говорит? Прежде всего о том, что для испомещения служилых людей в конце XV — начале XVI века у московского великого князя земель было в избытке. «К концу XV в. оставался весьма значительный фонд оброчных земель, еще не пущенных в раздачу помещикам», — замечает В. Н. Бернадский{1299}. Если в чем и ощущался недостаток, так это в служилых людях. По словам А. М. Андрияшева, «даже в 1498 г., во время переписи Валуева, желающих и достойных получить поместья все еще оказывалось очень и очень недостаточно»{1300}. Изъятия и посягательства на земельные владения духовенства в Новгороде не являлись совершенной новостью. Светские власти волховской столицы в прошлом не раз покушались на земли местной церкви. Именно по этому поводу митрополит Филипп в апреле 1467 года в специальном послании увещевал новгородцев, которые «хотят грубость чинити святей Божией Церкви и грабити святыа церкви и монастыри», то есть «имениа церковныя и села данаа хотят имати себе… да сами тем хотят ся корыстовати»{1301}. Что касается отчуждения в 1478 году новгородских духовных вотчин, то оно было произведено «по предложению боярского правительства Новгорода»{1302}, опиравшегося на существующие, как мы видели, прецеденты. Иван III, следовательно, не вводил совершенно новую практику в отношения государственной власти с церковью{1303}. Он потряс новгородцев лишь масштабностью своего предприятия. Московский властитель, насколько известно, отбирал земли не только у духовных, но и у светских землевладельцев{1304}. И, надо сказать, мало кого «миновала чаша сия». А. М. Андрияшев, изучавший проблему по материалам Шелонской пятины, пишет: «Все новгородцы, владеющие землей, кто бы они ни были, — бояре, купцы или житьи люди, богатые собственники многих десятков сох и бедняки, сидевшие на одной обже, сторонники литовской партии и сторонники московской партии — все должны были оставить свои насиженные гнезда»{1305}. Новгородцев, покинувших «свои насиженные гнезда», поселяли в Московском княжестве. Для примера приведем лишь два случая, датируемых летописцем 1489 годом. Зимой этого года «привели из Новагорода на Москву болши семи тысящь житиих людей»{1306}. Той же зимой «князь велики Иван Васильевич переведе из Великого Новагорода многых бояр и житъих людей и гостей, всех голов больши 1000, и жаловал их, на Москве давал поместья, и в Володимери, и в Муроме, и в Новегороде в Нижнем, и в Переаславле, и в Юрьеве, и в Ростове, и на Костроме, и по иным городом. А в Новъгород в Велики на их поместья послал Москвичь лучьших многих, гостей и детей боярьских, и из ыных городов из Московъскиа отчины многих детей боярьских, и гостей, и жаловал их в Новегороде в Великом»{1307}. Из всех этих фактов, нами упомянутых, следует, что Иван III располагал и в центральных уездах, и в новгородских пятинах земельным фондом, значительно превышающим потребность обеспечения землей служилых людей. Поэтому едва ли можно согласиться с утверждением, будто «после присоединения Твери и конфискации земель новгородского боярства правительство исчерпало основные земельные фонды, которые оно могло широко использовать для испомещения значительных масс служилых людей»{1308}. Земельный фонд, образованный в Новгородской земле посредством конфискаций земель светских и церковных собственников, московское правительство, как мы видели, еще далеко не исчерпало. И всякие рассуждения насчет остроты земельного вопроса в России на рубеже XV–XVI веков нам представляются искусственными. Другой вывод, вытекающий из приведенных выше фактов, состоит еще и в том, что первые конфискации церковных и монастырских земель Ивана III в Новгороде не являлись, строго говоря, секуляризацией, т. е. политикой обращения государством церковной собственности в светскую. Прав Б. Д. Греков, когда говорит: «Это не «секуляризация», а конфискация земель без различия — и светских и церковных — по чисто политическим мотивам, результат завоевания, а не акт внутренней политики»{1309}. Вместе с тем, однако, нельзя не заметить, как эти конфискации, производившиеся не менее 5 раз, если не больше{1310}, «перерастали в секуляризацию (правда, в рамках одной области)»{1311}. В соответствии с мнением А. А. Зимина, «ликвидация монастырского землевладения отвечала насущным потребностям военно-служилого люда и феодального государства»{1312}. Думается, это — некоторое преувеличение. Ликвидацией земельной собственности церкви и монастырей были озабочены преимущественно еретики, тесным кольцом окружавшие великого князя Ивана и настойчиво побуждавшие его к этой крайней и, надо сказать, опасной мере, вносящей раздор между государством и церковью, чреватый распадом русской государственности. В сущности, их влияние на великого князя в данном вопросе признает и А. А. Зимин: «Было еще одно средство (расширения земельных резервов государства. — И.Ф.), которое отвечало представлениям московского кружка единомышленников-вольнодумцев, опиравшегося на Дмитрия-внука, — полная ликвидация (секуляризация) монастырского землевладения»{1313}. Это влияние, радикальное по своей сути, началось, очевидно, с первых конфискаций недвижимости новгородского духовенства. Иначе трудно понять ошеломившее новгородцев требование великого князя уступить ему половину земельных владений владыки и шести наиболее крупных новгородских монастырей. Скрытую пружину такой необыкновенной прыти Ивана Васильевича сумел разглядеть В. Н. Бернадский. «Как далеко готов был идти Иван III в борьбе с главою новгородской церкви в 1480 г., — говорит он, — можно судить по тому, что именно к этому времени относится начало сближения Ивана III с новгородскими еретиками. Возвращаясь в феврале 1480 г. в Москву, Иван III вез с собой двух руководителей новгородской ереси, один из которых (Алексей) стал с тех пор духовником московского государя и пользовался большим влиянием на Ивана III. Если в 1478 г., отстаивая свои права на землю, Иван III ссылался на «старину», на древние летописи, то теперь помощи ученого знатока летописей — Степана Бородатого уже было недостаточно. Нужно было оправдать свои действия по отношению к главе новгородской церкви и его имуществу добавочными доводами идеологического порядка. Ими снабжали Ивана III еретики, снимающие грех с души Ивана»{1314}. Полагаем, что дело не столько в дополнительных доводах идеологического порядка, в которых нуждался Иван III, покусившийся на земельные богатства новгородской церкви, сколько в прямом воздействии на московского государя еретиков, приобретших огромное на него влияние. Вполне возможно, великий князь, отправляясь покорять Новгород, знал заранее, с кем ему там надлежит встречаться и чьими советами пользоваться. Соответствующие рекомендации он мог получить от Федора Курицына, связанного, несомненно, с новгородскими еретиками{1315}. Я. С. Лурье не уверен, «по своей ли инициативе или по совету кого-либо из приближенных Иван III, завоевав Новгород, пригласил тамошних противников церковных «имений» и «стяжаний» (еретиков. — И.Ф.) к себе в Москву»{1316}. По-видимому, здесь было и то и другое. Чтобы взять с собой в Москву новгородских священников-еретиков Алексея и Дениса, надо было видеть их, беседовать с ними, причем неоднократно. Но подобные встречи едва ли могли состояться случайно, так сказать, без наводки. И, конечно же, последнее слово в решении брать или не брать Алексея с Денисом в Москву, оставалось за великим князем. Перевод их туда свидетельствовал о том, что они полюбились Ивану Васильевичу за дельные, как ему показалось, советы, в числе которых были, вероятно, и те, что касались конфискаций владычных и монастырских земельных владений. Могло статься, что именно эти «эксперты», близко знавшие положение дел в Новгородской епархии и враждебно настроенные к православной церкви, побудили Ивана III выставить непомерное требование о передаче ему «половины всех земель Софийского дома, т. е. новгородского владыки и монастырей»{1317}. Любопытно отметить, что после переговоров по данному вопросу, великий князь уступил владыке, удовольствовавшись не половиной его земельных владений, а десятью волостями, тогда как относительно монастырей остался непреклонен и отобрал-таки у шести крупнейших новгородских монастырей половину их земель{1318}. Невольно закрадывается мысль, не внушено ли это ожесточенное отношение к новгородским монастырям еретиками-советчиками (в том числе Алексеем и Денисом), отвергавшими не только монастырские «стяжания», но и самое монашество как институт. Логично допустить, что и в дальнейшем Иван III прислушивался к советам еретиков, когда приступал к очередной конфискации земельной собственности новгородского духовенства. В их поведении, помимо прочего, нельзя не почувствовать проявление злобной мести, обращенной к новгородской церкви, глава которой архиепископ Геннадий не только первым обнаружил «ересь жидовствующих», но и сделал все зависящее от него, чтобы покарать вероотступников. Новый удар по церкви Новгорода последовал в 1499 (1500) году, когда с благословения «Симона митрополита поймал князь великий Иван Василиевичь в Новегороде в Великом церковные земли за себя, владычни и монастырские, и роздал детем боярским в поместие»{1319}. Можно лишь догадываться, насколько острой была ситуация, если для отторжения церковных земель понадобилось благословение митрополита, который, казалось бы, по должности своей являлся стражем земельных владений церкви и монастырей. Обстановка, по всей видимости, достигла крайней остроты вследствие перерастания более или менее эпизодичных конфискаций церковного земельного имущества в секуляризацию как государственную политику, отрицающую землевладение духовенства вообще и, прежде всего, право монастырей на владение селами. Эта политика затронула в первую очередь Новгород. Не случайно именно здесь, в Новгороде, где-то в самом начале XVI века (а быть может, и в конце XV в.{1320}), но до 1503 года в «Чин Православия» включается ежегодно возглашаемое на первой неделе Великого поста анафематствование: «Вси начальствующий и обидящии святыя Божии церкве и монастыреве, отнимающие у них данныя тем села и винограды, аще не престанут от таковаго начинания, да будут прокляти»{1321}. Показательно и другое: в литературном кружке архиепископа Геннадия создается теория, обосновывающая святость и неприкосновенность земельной собственности церкви{1322}. Из кружка Геннадия вышел трактат «Слово кратко противу тех, иже в вещи священные, подвижные и неподвижные, съборные церкви вступаются и отимати противу спасениа души своеа дръзают, заповеди Божии и церковные прозирающе, и православных царей и великих князей истинное, клятвою законоположение разающе, и заповеди божиа приибидяще»{1323}. Существует мнение, согласно которому составителем трактата был некий доминиканец Вениамин, находившийся на службе у новгородского архиепископа{1324}. «Святейшему и разумнейшему, о Христе отцу духовнейшому господину», — с нескрываемым пиететом обращается автор «Слова кратка» к своему патрону{1325}. В добродетелях, оказывается, ему нет равных среди настоятелей «в сей пресветлой русской стране»{1326}. Он «всякому писанию учен», а «на враги церковные и еретикы ратователь крепчайший»{1327}. За этими характеристиками угадывается новгородский архиепископ Геннадий. Именно Геннадий, по свидетельству нашего книжника, «о церковных грабителех написати повелел»{1328}. Их злые деяния легли грехом на все русское племя: «мы же хрестьане греци русь», хоть и «под бременем благодати рождены есме», но «горе нам, тяжек бо грех творит противу Бога, иж нечист совестью к церкви Божий приступает»{1329}. Всякие попытки завладения церковным имуществом автор рассматривает как неугодные Богу: «Отняти благая церковнаа есть предкновение Богови, и ему обида творити»{1330}. Он приравнивает такие попытки к святотатству{1331} и обещает святотатцу, обижающему церковь, вечные муки в аду{1332}. Этими обидчиками у него выступают цари и начальники, т. е. мирские власти. К ним обращено его поучение: «Властелю мирскому не достоит быти сребролюбну хищнику, и на церковнаа благая села и имения наступати и къ своим приписовати и пастырем своим претыкание творити, но паче достоит быти мудру и силну, злых наказующу»{1333}. Все это живо напоминает Ивана III, отписывавшего церковные и монастырские земли на себя, круто обходившегося с иерархами церкви. Есть и другие намеки автора «Слова кратка» на современную ему действительность. Говоря о римском императоре Юлиане-отступнике, он замечает, что тот свое «желание святотатства еуагельским свидетельством покрываше, егда имениа и стяжания отимаша у хрестьан и церкви Божии…»{1334}. К тому же приему прибегали и сторонники «ереси жидовствующих», которым внимал Иван III. Великий князь, как известно, не только покровительствовал еретикам, призывавшим к изъятию сел, принадлежащих русскому духовенству, но и защищал их от преследований со стороны правоверных иерархов церкви. Сочинитель «Слова кратка» искал и находил в прошлом аналогичные примеры, перекликающиеся с современной ему действительностью: «Анастасии кесарь, побарая по еретицех, церковь божию с пастыри ея гоняше, стяжании их отемлюще и къ скровищу своему прилагающе и приписующе»{1335}; «и Ераклии кесарь, тогож сребролюбия и порока ради ереси монохелиския…»{1336}. Разумеется, церковная политика Ивана III имела свою специфику, обусловленную исторической обстановкой, в условиях которой она осуществлялась. Автор «Слова кратка» это хорошо понимал. Но он также знал, что Иван Васильевич был очень расположен к советам еретиков, выступавших против земельных «стяжаний» монастырей и церкви. Не потому ли «Слово кратко» упоминает тех, кто «съветуяй отемлющему», т. е. советников, обещая им равную казнь — смерть, «понеже творяй и съветуяй вменяются за едино»{1337}. Всем ходом своих рассуждений составитель «Слова» подводит к следующему положению: «Всяк убо, иже церковнаа стяжаниа, села или скровище отемлет или насилствует и врежает, от святых отець отречен и отлучен наричеся зде и в будущем»{1338}. Несмотря на анафематствование и обличения в публицистике, направленные «противу тех, иже в вещи священные, подвижные и неподвижные съборные церкви вступаются», великий князь московский продолжал покушаться на церковные земли в Новгороде. Новгородцы имели некоторые основания упрекать Ивана III в том, что он обращается с ними, «яко с пленными». Несколько иначе развивались события в центральных уездах Русского государства. «В коренных областях северо-восточной Руси, — замечает С. Б. Веселовский, — вопрос о монастырском землевладении был значительно сложнее. Здесь многочисленные и богатые монастыри были такой силой, с которой нельзя было не считаться. В борьбе за землю иосифляне взяли верх, и вел. кн. Иван ограничился частными мерами, вероятно косвенными»{1339}. Кроме отмеченных С. Б. Веселовским обстоятельств, следует, по нашему мнению, сказать и об отсутствии в «коренных областях северо-восточной Руси» острого дефицита земель, потребных для испомещения здесь служилых людей. Ведь изыскало же земли правительство даже в середине XVI века, когда вознамерилось испоместить в Московском и соседних уездах так называемую избранную тысячу{1340}. И все-таки исследователи отмечают введение в конце XV — начале XVI века некоторых ограничительных мер, касающихся земельной собственности монастырей{1341}, что вызвало замедление роста монастырских вотчин как в центральных{1342}, так и периферийных районах страны{1343}. «В истории таких крупнейших монастырей, как Троицкий Сергиев и Кириллов Белозерский, — писал опять-таки С. Б. Веселовский, — мы наблюдаем в конце XV и в начале XVI в. такое замедление роста их землевладения, что естественно возникает предположение о каких-то запретительных мерах, принятых вел. кн. Иваном»{1344}. С. М. Каштанову дело представляется так, что «с конца XV в. московским великокняжеским правительством твердо был взят курс на ограничение роста монастырского землевладения»{1345}. В наступлении правительства Ивана III на церковные земли непосредственно участвовали, надо полагать, московские правители-еретики. Примером, хотя и не прямым, здесь может служить относящаяся к 1490 году и подписанная Федором Курицыным грамота, «ограничивающая земельные приобретения пермской епископии; уже присоединенные епископом [Филофеем] волостные земли должны были быть возвращены «тем людям, кого владыка те земли и воды и угодья поймали»{1346}. Если согласиться с тем, что «Федор Курицын принимал участие в оформлении тех юридических актов, которые совершались с ведома И. Ю. и В. И. Патрикеевых»{1347}, то круг противников церковно-монастырской земельной собственности расширится, причем за счет весьма знатных и влиятельных политических деятелей конца XV века. Правомерность подобного умозаключения выглядит вполне обоснованной на фоне яростной последующей борьбы князя-инока Вассиана Патрикеева против земельных стяжаний церкви. Партия еретиков, враждебных русской православной церкви, заронила в сознание Ивана III идею о необходимости секуляризации и укрепила его в этой идее. Великий князь не скрывал своих замыслов. «Период с сентября 1502 по август 1503 г., — говорит С. М. Каштанов, — время большой сдержанности в иммунитетной и земельной политике. Позиция, занятая великокняжеским правительством, откровенно демонстрировала его секуляризационно-ограничительные намерения»{1348}. Вопрос о секуляризации церковно-монастырской земельной собственности призван был решить собор 1503 года. Понимал ли Иван III, что, выступая против сложившегося экономического уклада жизни монастырей, он расшатывает усердно создаваемую им русскую государственность, сказать трудно. К счастью, большинство духовных иерархов, заседавших на соборе, отвергло притязания правительства{1349}, осуществлявшего земельную программу «жидовствующих». Это было провалом политики не столько самого великого князя Ивана, сколько еретической придворной партии, что не могло остаться без последствий для приверженцев ереси. «Победа воинствующих церковников на соборе 1503 г., — резонно (лексическая экспрессия не в счет. — И.Ф.) замечает А. А. Зимин, — предрешила судьбу кружка вольнодумцев, которые группировались вокруг дьяка Федора Васильевича и Ивана Волка Курицыных»{1350}. Собор 1504 года приговорил наиболее опасных еретиков к смертной казни{1351}. По нашему мнению, есть основания говорить об известной обусловленности собора 1504 года победой русских иерархов на соборе 1503 года. Если это так, то естественным образом напрашивается вывод о том, что план секуляризации, вынесенный на собор 1503 года, был разработан еретиками, окружавшими Ивана III. А это означает, что собор 1504 года следует рассматривать как завершающий момент торжества православного духовенства над «жидовствующими», а соборы 1503 и 1504 годов — как этапы его достижения. Казни еретиков не сопровождались, по-видимому, полной заменой правительственных лиц в Москве. Многие бояре, служившие великому князю, оставались по-прежнему еретиками, хотя и старались держать свою причастность к ереси в тайне. Присутствие еретиков во власти, особенно в начальный период княжения Василия III, способствовало известной ее преемственности с предшествующей властью, находившейся в руках Федора Курицына и К°. Вот почему политика ограничений в области монастырского землевладения продолжалась и после того, как Василий Иванович занял великокняжеский стол. С. М. Каштанов, глубоко исследовавший проблему, говорит о том, что «мероприятия Василия III в области иммунитета являлись продолжением начинаний Ивана III, направленных на сокращение феодальных привилегий. В 1505–1507 гг. правительство произвело частичный пересмотр старых жалованных грамот»{1352}. В ближайшие годы предпринимались аналогичные ограничительные меры: «До середины 1511 года правительство чрезвычайно строго придерживалось принципов иммунитетной политики, выработанных в последние 15 лет княжения Ивана III»{1353}. По словам С. М. Каштанова, «промежуток с конца 1505 до середины 1511 гг. был временем наиболее последовательной борьбы правительства Василия III за ограничение податного иммунитета»{1354}. Сокращались льготы митрополичьего дома и монастырей{1355}. Не произошло существенных перемен в этом отношении и в 1512–1514 гг.{1356}, несмотря на то, что лично великий князь Василий, судя по всему, не испытывал желания покушаться на церковную собственность. По словам А. С. Павлова, «даже в тех случаях, когда этот государь находился в таком же положении относительно церковных и монастырских вотчин, в каком его отец — при покорении Новгорода, он поступал совершенно вопреки отцовскому примеру. Так в 1510 году, при взятии Пскова, великий князь, отобрав несколько вотчин у лучших псковичей, «не вступился в церковные земли, благоговеинства ради псковских иереев», а при покорении Смоленска в 1514 году он даже торжественно обещал охранять неприкосновенность прав местной церкви»{1357}, обязавшись «в дом Пречистые, и в скарб, и во все монастыри, и в церковные земли и в воды не вступатися и не рушити их ничем»{1358}. Но то были единичные, так сказать, проявления, отклоняющиеся от общей политики, которая продолжала развиваться в заданном Иваном III направлении. На наш взгляд, продолжение Василием III политики Ивана III в сфере церковно-монастырского землевладения объясняется двумя причинами: наличием в правительстве прямых еретиков или их сторонников, а также появлением во власти людей, придерживающихся теории нестяжателей, которых Иосиф Волоцкий считал, по мнению, А. А. Зимина, еретиками{1359}. К их числу принадлежал Вассиан Патрикеев, переведенный, по всей видимости, стараниями упомянутых выше бояр из далекого Белоозера в Москву, где ему удалось войти в доверие к Василию III, стать всесильным временщиком и ближайшим советником великого князя. Старец Вассиан пользовался, естественно, этим положением, чтобы проводить в жизнь свои отчасти нестяжательские, отчасти еретические идеи. На ключевые места он старался посадить своих людей. Нам неизвестна в деталях его «кадровая политика». Но есть основания полагать, что не без хлопот со стороны Вассиана в 1511 году на митрополичью кафедру был возведен Варлаам, живший одно время вместе с Патрикеевым в Кирилло-Белозерском монастыре — основной, по выражению А. А. Зимина, цитадели нестяжателей{1360}. До посвящения в сан митрополита Варлаам являлся архимандритом Симонова монастыря, в котором поселился приехавший в Москву Вассиан Патрикеев. Варлаам и Вассиан сблизились не только на бытовой, но и на идейной почве{1361}. О позиции Варлаама исследователи говорят как о «недвусмысленно нестяжательской» или «близкой к нестяжателям»{1362}. А. А. Зимин пишет о «нестяжательском окружении митрополита Варлаама»{1363}. Все это привело к перестановке кадров среди высших иерархов русской церкви. Если к 1509 году, по наблюдениям А. А. Зимина, «минимум пять епархий из восьми были в руках иосифлян, а одна [Новгородское архиепископство] оставалась вакантной»{1364}, то после вступления на митрополичий престол Варлаама ситуация существенно изменилась. «В 1515 г. скончались архиепископ ростовский Вассиан и епископ суздальский Симеон. В Ростове кафедру 9 февраля 1520 г. получил Иоанн, бывший архимандрит Симонова монастыря (где долгое время жил Вассиан Патрикеев), в Симонов же он попал в 1514 г., будучи до этого с 1505 г. кирилло-белозерским игуменом{1365}. Епископом суздальским 10 февраля 1517 г. был поставлен архимандрит рождественский из Владимира (с 1509 г.) Геннадий. После присоединения Смоленска епископом там 15 февраля 1515 г. был назначен архимандрит придворного Чудова монастыря Иосиф. Близкий к иосифлянам епископ рязанский Протасий покинул свою кафедру в 1516 г. и умер в апреле 1520 г.{1366} В 1514 г. ушел на покой вологодско-пермский епископ Никон. Рязанская епархия была занята сразу же после отставки Протасия: 12 февраля 1516 г. епископом поставлен архимандрит придворного Андроникова монастыря Сергий (был им еще в 1509 г.). Возможно, он был близок к нестяжателям, ибо покинул кафедру на четвертый день после поставления в митрополиты иосифлянина Даниила. Пермскую епархию занял только 16 февраля 1520 г. [!] игумен соловецкий Пимен. Не исключено, что и он входил в состав иерархов нестяжательского блока, ибо получил свою епархию в том же месяце, когда и двое других владык, сочувствовавших деятельности митрополита Варлаама. «Согнан» с престола он был сразу после поставления митрополита Даниила. Наконец, воинствующий иосифлянин Митрофан покинул Коломенскую епархию и ушел на «покой» в Троицу 1 июня 1518 г. На его место был назначен угрешский игумен Тихон (14 февраля 1520 г.). До своего назначения он был игуменом Кирилло-Белозерского монастыря (1515–1517 гг.), а покинул епархию после прихода к власти Даниила»{1367}. Следовательно, «к началу 20-х годов XVI в. среди восьми высших иерархов примерно четверо были близки к нестяжателям, двое были иосифлянами (крутицкий епископ Досифей и тверской Нил), позиции двух неясны (смоленский епископ Иосиф, суздальский епископ Геннадий)»{1368}. Благодаря этим кадровым изменениям в высшем эшелоне руководства русской церкви оказалось возможным то, о чем говорят новейшие историки. «1512–1513 гг., — замечает С. М. Каштанов, — явились кульминационным моментом союза Василия III с нестяжателями. Летом 1511 г. митрополитом стал видный последователь Нила Сорского Варлаам. Очевидно, при поддержке Варлаама правительству Василия III удалось каким-то образом приостановить рост монастырского землевладения»{1369}. По словам Л. И. Ивиной, избрание митрополитом «Варлаама, человека близкого к нестяжателям, исследователи расценивают как важное событие в истории борьбы между иосифлянами и их противниками, способное влиять на приостановку в государстве роста монастырского землевладения»{1370}. Однако роль митрополита Варлаама в этой «приостановке», судя по всему, была пассивной, так сказать, непротивленческой. Более активно и напористо вел себя Вассиан Патрикеев, религиозно-политическая деятельность которого внушала ревнителям русской церкви большие опасения. Видно, этим было вызвано обращение к Василию III старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, наставлявшего великого князя: «Не преступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды — великий Константин, и блаженный святый Владимир, и великий богоизбранный Ярослав и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе. Не обиди, царю, святых Божиих церквей и честных монастырей, еже данное Богови в наследие вечных благ на память последнему роду, о сем убо святый великий Пятый собор страшное запрещение положи»{1371}. По вполне правдоподобной версии А. С. Павлова, «в этих словах скорее содержится предостережение от возможного посягательства на церковные имущества, чем жалоба на факт, уже свершившийся. Вероятно, старец Филофей намекал вел. князю на Вассиана Патрикеева, который в это время так страшен был для защитников монастырской собственности»{1372}. Конечно, проблема не сводилась к одному лишь Патрикееву. Защитников церковных и монастырских сел, или любостяжателей, по терминологии А. С. Павлова{1373}, тревожило нестяжательское окружение великого князя, преобладание нестяжателей в церковном руководстве той поры. Надо сказать, что союз Василия III с нестяжателями, за которыми нередко скрывались прямые вероотступники, выдававшие себя за последователей Нила Сорского, а в действительности являвшиеся продолжателями дела Федора Курицына и его сотоварищей, длился примерно до конца 1510 — начала 1520-х годов. Но и за это сравнительно короткое время «нестяжатели», возглавляемые Вассианом Патрикеевым, нанесли ощутимый урон Русскому государству. Во-первых, внушаемая ими государю политика ограничения прав церкви (в том числе монастырей) и земельных конфискаций замедляла процесс церковно-государственного соединения, лежащего в основе строительства православного «самодержавства», или «Святорусского царства». То была политика, шедшая наперекор исторически обусловленному развитию теократического самодержавия в России, и в этом ее существенный вред. Во-вторых, открытые выступления Вассиана Патрикеева и его единомышленников против смертной казни еретиков, на чем настаивал Иосиф Волоцкий, в тех конкретных исторических условиях являлись не чем иным, как поддержкой приверженцев еретических учений. В Русии, таким образом, создавалась благоприятная обстановка для нового подъема ереси. Митрополит Варлаам вел себя, по меньшей мере, странно. Он не предпринимал каких-либо решительных действий против еретиков, тем самым покровительствуя им. По-видимому, это послужило основной причиной того, что Варлаам был сведен с митрополичьего престола. Правда, С. Герберштейн повествует иное, сообщая о том, что митрополит, возмущенный поведением Василия III, нарушившего клятву, данную князю Василию Шемячичу, сам отказался от должности, после чего был закован в кандалы и отправлен в заточение на Белоозеро, а затем остаток жизни провел в монастыре простым иноком{1374}. Версию С. Герберштейна принял А. А. Зимин: «Современники (Герберштейн. — И.Ф.) считали, что он (Варлаам. — И.Ф.) был сведен с престола за то, что отказался помочь Василию III в захвате его «запазушного врага» Василия Шемячича»{1375}. Однако еще Макарий замечал: «В рассказе Герберштейна есть важная ошибка: событие с Шемячичем случилось вовсе не при Варлааме, а при его преемнике (в 1523 г.), и эту ложь могли сообщить немецкому послу (в 1526 г.) намеренно люди партии, враждебной великому князю Василию Ивановичу. Но прочие частности рассказа не заключают в себе ничего невероятного»{1376}. Макарий, к сожалению, не называет эти частности, опасаясь, вероятно, ошибиться в них. Более свободно высказался Е.Е.Голубинский: «Шемячич (Василий Иванович, внук Дмитрия Шемяки, князь новгород-северский), вопреки клятвенным охранным грамотам великого князя и митрополита, был схвачен в Москве не при Варлааме, а при его преемнике Данииле; следовательно, в этом случае Герберштейн говорит неправду. Можно, однако, подозревать, что он говорит не совершенную неправду именно — могло быть так, что великий князь предлагал Варлааму вызвать обманным образом Шемячича в Москву и что этот не согласился. В остальных неопределенных словах Гербервдтейна о причине удаления митрополита с кафедры, очевидно, должно разуметь то, что великий князь хотел в каких-то отношениях присвоить себе власть последнего. Если бы Варлаам, как говорит Герберштейн, сам отказался от кафедры, то великому князю не за что было бы ссылать его. Эта ссылка, о которой говорит и наша летопись, дает знать, что митрополит пытался было протестовать против посягательства на его власть со стороны великого князя и что государь, в гневе на стойкость митрополита, не ограничился только тем, чтобы низвести его с кафедры, но и послал в заточение. Наложение на низведенного митрополита желез или оков как будто представляет нечто не совсем вероятное; однако с решительностью объявлять за невероятное мы не находим возможным»{1377}. Сложность, конечно, состоит в том, что наши летописные источники сообщают об уходе Варлаама с митрополии довольно глухо: «Варлаам митрополит остави святительство»{1378}; «митрополит Варлам оставил митрополию»{1379}. На этом фоне известие Софийской второй летописи выглядит почти как повествование: Варлаам «поиде на Симонове, а с Симонова сослан в вологоцкий уезд на Каменое»{1380}. Похоже, все-таки митрополит Варлаам не по собственной воле покинул кафедру, уйдя в Симонов монастырь, откуда был сослан в далекую обитель, где какое-то время находился в заточении. Возможно, его скомпрометировали связи с нестяжателями, среди которых имелись склонные к «ереси жидовствующих» люди, подобные Вассиану Патрикееву. Дружба с ними или покровительственное отношение к ним сильно подвели митрополита. Наше предположение не покажется надуманным, если учесть, что в это время разворачивается активная борьба государства с еретиками, о чем свидетельствуют собор, созванный по поводу некоего еретика-еврея Исаака, соборные суды над Максимом Греком (1525,1531), в особенности — соборное осуждение (1531) Вассиана Патрикеева, обвиненного в еретичестве. Весьма красноречив и тот факт, что на смену Варлааму пришел не его единомышленник-нестяжатель, а иосифлянин Даниил — непримиримый противник еретиков. С приходом на митрополию Даниила началась чистка среди высших церковных иерархов. По наблюдениям А. А. Зимина, в русской церкви «ключевые позиции занимают постриженики Волоколамского монастыря. 30 марта 1522 г. вместо умершего Нила Гречина епископом тверским стал волоцкий постриженик Акакий… Коломенским епископом становится племянник Иосифа Волоцкого Вассиан Топорков (2 апреля 1525 г.)»{1381}. Вместо сосланного с «владычества» в апреле 1523 года вологодско-пермского епископа Пимена тамошнюю епархию возглавил (апрель 1525 г.) кирилло-белозерский игумен Алексей{1382}. Двухлетняя вакансия вологодско-пермского епископства намекает, возможно, на борьбу, развернувшуюся вокруг ее замещения. В марте 1526 года новгородским архиепископом назначается последовательный иосифлянин Макарий — будущий митрополит Московский и всея Русии. Эти и другие назначения{1383} говорят нам о том, что святителю Даниилу удалось добиться занятия иосифлянами, а также их сторонниками «почти всех высших постов на церковно-иерархической лестнице»{1384}. Успех последователей Иосифа Волоцкого, возглавляемых митрополитом Даниилом, значил много больше, чем простое одоление одной группы церковных деятелей другой в их внутренней взаимной борьбе. Этот успех являлся внешним выражением усиления союза церкви и государства в деле построения самодержавства и православного царства на Руси с «земным Богом» на престоле{1385}. В данных условиях земельная политика, ущемляющая права церкви и монастырей, неизбежно должна была смениться на политику предоставления этим важнейшим институтам теократического государства всякого рода льгот и привилегий. Последний десятилетний период (1522–1533) правления Василия III служит тому наглядным подтверждением{1386}. Важно при этом иметь в виду, что всякого рода пожалования Василия Ивановича церкви и монастырям, связанные с землей, проистекали не столько из чувства признательности великого князя иосифлянам-«любостяжателям» за разработку ими угодного ему учения о теократическом характере самодержавной власти московского государя, сколько из того, что церкви и, следовательно, монастырям в этом учении отводилась важнейшая роль опорной конструкции всего здания российского самодержавства и, прежде всего, власти самодержца. Может показаться странным, но это так: жалуя церкви и монастыри, Василий III, как и впоследствии Иван IV, укреплял свою самодержавную власть. И это стало одной из причин нападок на церковное и монастырское землевладение, за которыми на самом деле скрывалось неприятие самодержавного строя Русского государства. Нельзя также забывать и о том, что Василий III вместе с руководством русской православной церкви приступил к активному подавлению вновь ожившей ереси, вследствие чего еретики утратили свое влияние при дворе, особенно после того, как пал «великой временной человек» Вассиан Патрикеев, призывавший государя «отъимати» села у монастырей и «мирскых церквей»{1387}. На некоторое время еретики, их покровители и сторонники, притихнув, затаились. Годы регентства Елены Глинской (1534–1538) не внесли принципиальных изменений в политику государства по отношению к церковно-монастырским корпорациям. Изучение источников показывает, что правительство Е.Глинской «продолжило начатое при Василии III отступление от строго ограничительного курса иммунитетной политики»{1388}. Согласно С. М. Каштанову, чьи слова приведены сейчас, «этому способствовало присоединение последних уделов, где поддерживалась традиция более широкого податного иммунитета монастырей, чем на основной территории государства. Будучи не в состоянии сразу преодолеть эти традиции, центральное правительство узаконило их в выданных монастырям грамотах»{1389}. Не отрицая того, что факторы, указанные С. М. Каштановым, в какой-то мере воздействовали, по всему вероятию, на иммунитетную политику «центрального правительства», зададимся все же вопросом, насколько желанным по сути было для «центрального правительства» Елены Глинской ограничение податного иммунитета монастырей, т. е. ущемление прав субъекта строительства «Святорусского царства». Не являлась ли политика правительства Елены Глинской в этой области прямым продолжением политики Василия III, твердой рукой развернувшего государство на сближение и конечное соединение с церковью? Как бы то ни было, не подлежит сомнению одно: при великом князе Василии III и в период правления Елены Глинской наблюдается рост церковно-монастырского землевладения{1390}, свидетельствующий о сближении, скажем больше, — о переплетении интересов православной церкви и русского государства. Правда, в исторической литературе высказывалось мнение, будто в правление Елены Глинской «сделано было несколько замечательных распоряжений в ущерб землевладельческим правам духовенства. Так, в 1535 году подтверждено запрещение монастырям покупать и брать в заклад или по душам вотчинные земли служилых людей, без ведома правительства. В следующем году у новгородских церквей и монастырей еще раз отобрано в казну довольно значительное количество земель, именно — все подгородние пожни»{1391}. Это мнение, принадлежащее А. С. Павлову, основано на двух свидетельствах источников. Первое свидетельство заключено в грамоте, данной в 1535 году вологодскому Глушецкому монастырю. А. С. Павлов полагает, что названная грамота составлена в соответствии с общей законодательной мерой, «которая касалась всех монастырей»{1392}. «В нашем государстве, — говорит великокняжеская грамота, — покупают к монастырям у детей боярских вотчины многие, села и деревни, да и в заклад и в закуп монастыри вотчины емлют; а покупают деи вотчины дорого, а вотчинники деи, которые тем землям вотчичи, с опришными перекупаются, и мимо монастырей вотчин никому ни у кого купити не мочно. А иные дети боярские вотчины свои в монастыри подавали по душе того для, чтобы их вотчины ближайшему роду не достались». Констатировав это явно ненормальное и, конечно же, нетерпимое положение, государь предписал: «И будете купили вотчины у детей у боярских или в заклад или в закуп взяли, или будут которые дети боярские вотчины свои подавали вам в монастырь по душе своей до сей нашей грамоты, за год или за два, и ты б богомолец нашь игумен Феодосии с братиею прислали ко дьяку нашему к Феодору Мишурину, что естя до сей нашей грамоты за год или за два в Глушицкий монастырь покупили вотчин у детей боярских, или в заклад или в закуп или по душе взяли, и сколько в котором естя городе у которых детей у боярских вотчин купили, или в заклад или в закуп или по душе взяли, и сколько в которой вотчине сел и деревень и починков, и что в них дворов и людей и пашни в одном поле, а в дву потомуж, и что сена и лесу и всяких угодей. А впредь бы есте, без нашего ведома, однолично вотчин не купили и в заклад и в закуп и по душе не взяли ни у кого. А учнете без нашего ведома вотчины купити, или в заклад или в закуп или по душе имати, и мне у вас те вотчины велети отписывати на себя»{1393}. Из приведенного текста явствует, что никакой «общей законодательной меры», запрещающей описанные в грамоте земельные операции, на момент ее составления не было. В противном случае земли, приобретенные монастырем указанным в грамоте образом, государь отписал бы на себя. Но он этого не сделал, отнеся санкцию на будущее и объявив ее основанием выданную монастырю грамоту, а не «общую законодательную меру». Тон грамоты, вполне благожелательный по отношению к государеву богомольцу игумену Феодосию с братией, вместе с тем исполнен обоснованной тревоги, вызванной бесконтрольным оборотом вотчинных земель детей боярских, в чем, как явствует из грамоты, повинны обе стороны: и дети боярские, стремящиеся сорвать куш на продаже земель или по каким-то соображениям не Хотящие, чтобы их вотчины достались «ближайшему роду», и монастыри, намеренно предлагающие столь высокие цены на землю, что «мимо монастырей вотчин никому ни у кого купити не мочно». По-видимому, такого рода практика получила широкое распространение, и московское правительство не только не наладило контроль над ней, но даже не имело касательно ее конкретных сведений, необходимых для реальной оценки ситуации. Все это отнюдь не способствовало укреплению военной организации страны и требовало вмешательства со стороны государственной власти. Дело было начато с того, с чего и нужно было начать: со сбора информации о совершенных за последние два года земельных операциях детей боярских с монастырями, включая данные о каждом объекте сделки (селе, деревне, починке) с указанием количества дворов и людей, размеров пашни, количества сенных, лесных и прочих угодий, а также с установления наблюдения за этими операциями в будущем («а впредь бы есте без нашего ведома однолично вотчин не купили и в заклад и в закуп и по душе не имали ни у кого»). Вряд ли это замышлялось «в ущерб землевладельческим правам духовенства», как считал в свое время А. С. Павлов. Ибо требование вершить поземельные акты не «однолично», а с ведома представителей власти, затрагивало не только покупателей и получателей или монастыри, но также продавцов и дарителей — детей боярских. Поэтому с тем же успехом можно утверждать, что распоряжения, о которых идет речь, были приняты «в ущерб землевладельческим правам» детей боярских, коим вменено теперь в обязанность распоряжаться своими вотчинами только с уведомления властей. Однако, по нашему глубокому убеждению, рассматриваемая грамота не содержит данных, позволяющих заключить об ущербе землевладельческих прав духовенства, об их ущемлении или ограничении, предпринятых государством. Если и можно, исходя из нее, говорить о государственной политике в поземельном вопросе, то лишь в смысле упорядочения земельных сделок и пресечения всякого рода ухищрений на этой почве. Второе свидетельство, характеризующее «состояние вопроса о церковных и монастырских вотчинах» в годы правления Елены Глинской, А. С. Павлов находит в известиях новгородского летописца, который под 1536 годом сообщает: «…прислал государь князь велики Иван Васильевичь всея Руси с Москвы своего сына боярского и конюха Бунду да подъячего Ивана, а повеле пожни у всех монастырей отняти, отписати около всего града и у церквей Божьих во всем граде, и давати их въ бразгу, что которая пожня стоит, тем же монастырем и церковником; а се учинилося по оклеветанию некоего безумна человека»{1394}. Иван Васильевич, как видим, отписал на себя, т. е. конфисковал, пригородные пожни, принадлежавшие новгородским монастырям и церквам. При этом он лишил полностью духовных владельцев взятых у них угодий, но дал им отнятые земли в празгу, т. е. в пользование за плату{1395}, определяемую тем, «что которая пожня стоит». Не думаем, чтобы данный случай свидетельствовал о политике секуляризации недвижимых имуществ церкви, проводимой правительством Елены Глинской, поскольку он произошел вследствие особых обстоятельств: «по оклеветанию некоего безумна человека». Приходится только сожалеть, что нам осталось неизвестным, в чем состояло это «оклеветание». Время боярского правления, наступившее после смерти великий княгини Елены Глинской в апреле 1538 года и продолжавшееся до венчания Ивана IV на царство в январе 1547 года, нередко воспринимается новейшими историками как проявление княжеско-боярской реакции, как возврат к удельным порядкам, застопоривший процесс централизации Русского государства. Эти ощущения не лишены известных преувеличений, поскольку боярское правление с присущей ему ожесточенной борьбой группировок бояр за власть не привело, по замечанию Р. Г. Скрынникова, «к распаду единого государства» и не сопровождалось «феодальной анархией» или «массовыми репрессиями», став, однако, «временем экономического процветания страны»{1396}. По достоинству должен быть оценен и тот факт, что именно в период боярского правления было подготовлено и, можно сказать, осуществлено (разумеется, не без противодействия определенных политических сил) венчание на царство Ивана IV, знаменовавшее важнейший этап формирования Русского самодержавного государства. С учетом данных обстоятельств надлежит, на наш взгляд, рассматривать политику бояр-правителей в земельном вопросе, связанном с церковью и монастырями. И уж никак нельзя согласиться с тем, что «своеволие боярщины (1538–1547) пошло» так, что, «захватывая себе дворцовые села и волости, бояре щедро раздавали их духовенству (монастырям и владыкам)»{1397}. Подобный упрощенный подход, на наш взгляд, неприемлем. Как убедительно показал С. М. Каштанов, «время боярского правления представляет собой период самой интенсивной выдачи грамот с иммунитетными привилегиями в первой половине XVI в. За этот сравнительно небольшой хронологический отрезок (11 лет) великокняжеское правительство составило… 222 жалованные и 56 указных грамот»{1398}. Требует, впрочем, некоторых оговорок причина, выдвигаемая С. М. Каштановым для объяснения предоставления духовным учреждениям этих привилегий. По мнению исследователя, в годы боярского правления «незавершенность процесса создания централизованного государства оставалась характерной чертой развития России. Вот почему реальной оказалась в 1538–1548 гг. возможность увеличения иммунитета ряда духовных корпораций, в чьей поддержке нуждались боярские группировки, неуверенно чувствовавшие себя у руля государственной машины»{1399}. Заключая свою книгу, С. М. Каштанов формулирует мысль о связи «возможности увеличения иммунитета духовных корпораций» с незавершенностью процесса централизации государства в качестве общего принципа, определяющего суть вопроса: «В XVI в. процесс образования сословного строя находился на ранней стадии, когда прежний иммунитет различных землевладельцев и корпораций еще не мог превратиться в общесословное право. В развитии иммунитетной политики побеждали поэтому то тенденции, предвосхищающие абсолютизм (унификация и строгое ограничение иммунитета), то другая линия, которая была обусловлена сохранением экономической раздробленности страны и незавершенностью процесса политической централизации»{1400}. Вряд ли иммунитетные пожалования духовенству находились в жесткой зависимости от степени централизации Русского государства. Будь иначе, мы, наверное, наблюдали бы свертывание иммунитетов по мере усиления государственной централизации на Руси. Однако в жизни было иначе. Так, после реформ 50-х годов XVI века, заметно продвинувших Россию по пути централизации, в 60–70-е годы происходит расширение иммунитетных прав, жалуемых церкви и монастырям, что, кстати, отмечает и сам С. М. Каштанов{1401}. Может показаться парадоксальным утверждение, что иммунитеты, порожденные эпохой политической раздробленности и бывшие опорой ее, к середине XVI века стали отчасти инструментом государственной централизации, превратившись в льготы и привилегии, даруемые или изымаемые из центра власти, каковым выступала Москва. Поэтому расширение практики освобождения от налогов и земельных пожалований церковным учреждениям, наблюдаемое в годы боярского правления, не следует истолковывать как уступку политике государственной децентрализации, олицетворяемой иммунистами. Совсем напротив. Ведь, к примеру, Шуйские или Бельские, «неуверенно чувствовавшие себя у руля государственной машины» и потому нуждавшиеся в поддержке крупных и влиятельных духовных корпораций (С. М. Каштанов{1402}), не сидели в удельных гнездах, а пребывали в Москве — столице государства, куда сходились нити управления всей страной. Они не распыляли власть по уделам, а концентрировали ее в Москве, держали власть в своих руках, опираясь на помощь этих корпораций. Не случайно Р. Г. Скрынников, распространяющий боярское правление и на годы регентства Елены Глинской, счел необходимым подчеркнуть, что в ту пору «были ликвидированы два крупнейших в стране удельных княжества — Дмитровское и Старицкое»{1403}. Показательно и то, что Иван Грозный, пуская гневные стрелы в бояр, правивших государством во время его малолетства, обвинял их главным образом не столько в рассеянии центральной власти, сколько в сосредоточении этой власти в своих руках и пренебрежительном отношении к ее подлинному носителю — московскому великому князю. Говоря о Шуйских, он прибегает к довольно любопытному словоупотреблению: «И тако князь Василей и князь Иван Шуйские самовольством у меня в бережении учинилися, и тако вацаришася»{1404}; «и тако свое хотение во всем учиниша, и сами убо царствовати начата»{1405}. По Грозному, следовательно, Шуйские узурпировали государеву власть, не суживая при этом ее пределы и не делясь ею ни с кем. К тому же стремились, надо полагать, и соперники Шуйских. Борьба боярских группировок за преобладание и власть, развернувшаяся в годы малолетства Ивана IV, привела к ряду негативных последствий, в том числе и к временному прекращению служебной функции московского государя как Удерживающего{1406}. В результате мы видим новое оживление ереси, разгромленной и загнанной в подполье великим князем Василием III и митрополитом Даниилом. Еретики в очередной раз проникли в святая святых Русии — московский Кремль — и приобрели большое влияние на верховного правителя. Произошло это вследствие государственного переворота, осуществленного в июне 1547 года, когда к власти пришли лица, образовавшие вскоре группу царских советников во главе с попом Сильвестром и костромским дворянином Алексеем Адашевым, ставшую именоваться Избранной Радой. Среди людей, входивших в Избранную Раду, были, по-видимому, те, кто принадлежал к еретикам или же сочувствовал им. В некотором роде повторялась ситуация, которую нам пришлось наблюдать при дворе Ивана III, где сторонники «ереси жидовствующих» занимали прочные позиции. Именно приходом к власти в конце 40-х гг. XVI века, если не еретиков, то, по крайней мере, сочувствующих и покровительствующих им деятелей, следует, на наш взгляд, объяснять ужесточение политики государства в отношении церковного, прежде всего, монастырского землевладения, а не переменной победой двух тенденций: то предвосхищавшей абсолютизм (унификация и строгое ограничение иммунитета), то сохранявшей старый строй жизни (экономическая раздробленность страны и незавершенность процесса политической централизации). Иными словами, решающую роль здесь играл субъективный фактор, хотя и действующий в условиях объективных тенденций. * * *Окинув взором реформы конца 40-х — начала 50-х годов XVI века, А. А. Зимин убедился в том, что они «проводились в известной мере за счет ущемления интересов церкви»{1407}. Однако наступление на церковь началось не сразу после известных событий июня 1547 года. Несмотря на то, что к власти пришли люди с нестяжательскими взглядами, родственными еретическим, практика иммунитетных пожалований и раздачи земель монастырям пока продолжалась{1408}. Новым властителям, по всей видимости, надо было укрепить свои позиции. Как только это было сделано, они повели атаку на земельную собственность монастырей, причем, разумеется, под благовидным предлогом забот о российской государственности и служилом воинстве. К 1548–1549 гг. относятся первые попытки нового правительства ревизии тарханов{1409}. Но, как полагает С. М. Каштанов, систематическая борьба с финансовыми льготами и привилегиями «крупных феодалов» (т. е. церкви и монастырей) началась после февральского собора 1549 года, когда полностью, можно сказать, сформировалось правительство Сильвестра — Адашева{1410}. По словам исследователя, «в 1549–1551 гг., с приходом к власти Адашева и Сильвестра, практика предоставления монастырям жалованных грамот заметно ослабевает»{1411}. В целом «земельная политика Адашева и Сильвестра не благоприятствовала росту монастырского землевладения»{1412}. Новая политика правительства сопровождалась идейным столкновением сторон, представляющим для современного исследователя большой интерес. Она вовлекла в свой круговорот большое число людей, самых разнообразных по индивидуальным способностям и общественному положению. Среди них, по мысли исследователей, встречаются признанные интеллектуалы вроде Максима Грека, высокопоставленные и рядовые монахи. В полемику был вовлечен даже митрополит Макарий. Не остался равнодушным к ней и сам царь Иван IV. Согласно А. С. Павлову, «в самом начале самостоятельного правления Ивана IV старец Максим послал к нему через Адашева 27 «поучительных глав» о государственном управлении», где содержалась «жалоба на то, что «все имущества, данные благочестивыми царями и князьями святым божиим церквам, архиереи обращают на свои излишние потребы и житейские устроения: сами они живут в полном довольстве, роскошно питаясь и обогащая своих сродников, а нищие Христовы, погибающие от голода, наготы и болезней, совершенно ими позабыты». Юному государю внушается обязанность «исправлять такие священнические недостатки, по примеру великих царей Константина, Феодосия и Юстиниана». Хотя вскользь, затронуто и монашество: «Мы всю надежду спасения полагаем на том, чтобы в постные дни воздерживаться от мяса, рыбы и масла, но не перестаем обижать бедных крестьян и разорять их своим лихоимством и сутяжничеством»{1413}. По А. С. Павлову, «влияние этих наставлений на молодую и впечатлительную душу Ивана IV несомненно — тем более, что в числе друзей и почитателей Максима находились такие лица, как известные временщики, священник Сильвестр и Адашев, которых царь приблизил к себе «на помощь душе своей»{1414}. Мы не знаем, насколько глубоко западали в душу царя Ивана подобные наставления. Но, несомненно, Сильвестр и Адашев старались тут что есть мочи. Не исключено и то, что они также инициировали написание полемических сочинений, направленных против монастырского землевладения. Во всяком случае, согласно П. Н. Милюкову, святогорец Максим подавал свой голос государю «по призыву Сильвестра и Адашева»{1415}. Затевалось это с целью «идеологической» подготовки к Стоглавому собору, с которой, кстати сказать, Г. Н. Моисеева связывает упомянутую только что пересылку Максимом Греком своей «тетратки» царю Ивану{1416}. Незадолго перед Стоглавым собором тоже, по-видимому, в плане идейного приготовления к нему Ивану «говорил и писал» известный старец Артемий, еретик и нестяжатель, бывший короткое время игуменом Троице-Сергиева монастыря{1417}. Он убеждал государя «села отнимати у манастырей»{1418}. Тесно связанный с попом Сильвестром, а через него — с Алексеем Адашевым и другими деятелями Избранной Рады (например, с А. М. Курбским){1419}, Артемий, очень могло статься, действовал по наущению Сильвестра и Адашева{1420}. Но, когда над ним во время суда над еретиками нависла угроза расправы, он стал отрекаться от того, что внушал государю письменно и устно. «А все ныне съгласно враждуют, — оправдывался Артемий, обращаясь к царю, — будтось аз говорил и писал тебе — села отнимати у монастырей… а не говаривал семи о том, ни тобе ли советую нужением и властию творити что таково. Разве межи себя говорили есмо, как писано в книгах быти иноком»{1421}. Артемий, отводя от себя обвинение в том, будто он призывал государя «села отнимати у манастырей», свидетельствует тем самым не только о чрезвычайной остроте в середине XVI века проблемы монастырского землевладения, но и о том, что всякие рассуждения на сей счет стали опасными и, следовательно, план секуляризации церковных земель, вынашиваемый Избранной Радой и ее сторонниками, не состоялся, но вызвал большое возбуждение общественной мысли. * * *Одним из ярких памятников полемики вокруг монастырских «стяжаний», развернувшейся накануне Стоглавого собора, является «Валаамская беседа» («Беседа Валаамских чудотворцев Сергия и Германа»), принадлежащая, по верному замечанию И. И. Смирнова, к числу самых известных, но «вместе с тем наименее ясных публицистических произведений XVI в.»{1422}. Вот почему, замечает И. И. Смирнов, «довольно богатая литература о «Беседе» характеризуется удивительным отсутствием единства во взглядах на этот памятник и столь же бросающейся в глаза шаткостью представленных точек зрения, и по вопросу об авторе «Беседы», и по вопросу о хронологии, да и по самому вопросу о политической физиономии этого публицистического произведения»{1423}. Очень широк спектр мнений относительно датировки «Валаамской беседы»: начало XVI века{1424}, 30-е годы XVI века{1425}, середина XVI века{1426}, после 1550 года{1427}, 60-е годы XVI века{1428}, конец XVI — начало XVII века{1429}. Не менее разноречивы суждения исследователей об авторстве «Валаамской беседы». Высказывалось предположение, что она вышла из монашеской среды, причем сочинил ее, по догадке одних ученых, «постриженик из бояр»{1430}, а по мнению других — «рядовой монах»{1431}. Существуют мнения о боярском{1432} (или околобоярском{1433}), дворянском{1434} и даже крестьянском{1435} происхождении «Беседы». Понимая важность вопроса о том, из каких социальных кругов вышла «Валаамская беседа», мы все же первостепенное значение придаем политической ее направленности. И здесь весьма существенным представляется подход П. Н. Милюкова к этому произведению как документу «московских конституционалистов XVI в.», отразившему программу партии «молодых реформаторов», возглавлявших Избранную Раду{1436}. Столь же важным нам кажется наблюдение П. Н. Милюкова насчет «программы вопросов», заложенной в «Валаамской беседе». «На первом плане, — пишет он, — стоял здесь вопрос о монастырских имуществах, за ним тотчас возникал другой, не менее серьезный для государства вопрос о форме вознаграждения за военную службу, то есть о служилых землях. С монастырской собственностью связан был <…> вопрос о правах и о внутренней дисциплине духовенства» и т. д.{1437} «Из других источников, — продолжает П. Н. Милюков, — мы знаем, что только что очерченный на основании «Валаамской беседы» круг вопросов сильно занимал «избранную раду» Ивана IV накануне созыва соборов»{1438}. Сходным образом рассуждает Г. Н. Моисеева: «Целый комплекс идей связывает это произведение с новым этапом борьбы за землю в период конца 40 — начала 50-х годов XVI в. — период деятельности «Избранной рады», подготовки и проведения Стоглавого собора 1551 г.»{1439}. Можно полагать, что «Валаамская беседа» возникла в атмосфере ожесточенных споров о церковных недвижимых имениях в качестве подготовки к Стоглавому собору, на который партия Сильвестра — Адашева возлагала большие надежды, связанные с реализацией выдвинутого Избранной Радой проекта секуляризации монастырских земель. Однако было бы ошибочно, как нам думается, сводить главное содержание «Беседы» к полемике против монастырских вотчин, как это нередко делается исследователями{1440}. Это лишь часть задачи, поставленной перед собой анонимным автором «Валаамской беседы», что, впрочем, не означает, будто «церковные споры нестяжателей и иосифлян здесь отодвинуты на задний план, а на первое место выдвинуты вопросы государственного устройства»{1441}. Если брать эту задачу в полном объеме, то она, по нашему убеждению, состояла в попытке нанести удар по русской церкви в целом, по ее экономическим и политическим основам, заодно бросив тень на официальную религию, исповедуемую православным людом. То была идеологическая акция, бьющая по самому церковно-государственному фундаменту Святорусского царства. Во избежание упреков в голословности, обратимся непосредственно к тексту памятника. Прежде всего, не надо обманываться словами автора «Беседы» о том, будто он сочинение свое «спроста написавше простою своею и неученою речию»{1442}. Перед нами простота, которая, как говорится, хуже воровства. К сожалению, это не поняли некоторые ученые. Так, издатели «Валаамской беседы» В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов замечали, что «простота и неученость автора бросаются в глаза и без его признания»{1443}. По Г. П. Бельченко, «автор Беседы — простой, неученый человек, в чем он и сам признается»{1444}. К тому же склоняется и И. У. Будовниц, заявляя, будто автор «Валаамской беседы» «был слишком груб, прост, неотесан и мало начитан в священных книгах. Он сам признает, что написал «Беседу» «спроста… простою своей и неученою речью»{1445}. Правда, чуть ниже И. У. Будовниц несколько отступает от этой аттестации автора «Беседы». Полемизируя с И. И. Смирновым, насчитавшим в «Беседе Валаамских чудотворцев» свыше 60 упоминаний о мире (в том числе о черной волости) и пришедшим к выводу о крестьянской принадлежности ее автора, И. У. Будовниц пишет: «Не имеет особого значения и то, что автор более 60 раз говорит о мире, поскольку и прочие свои положения он повторяет десятки раз. В этом сказывается либо его «простота и неученая речь», либо же мы имеем тут дело с извечным пропагандистским приемом — вдалбливать в головы людям свои тезисы путем бесконечного их повторения»{1446}. Уничижительные слова автора «Беседы» о самом себе есть тоже прием, а точнее сказать, «этикетная формула» (трафарет), применявшаяся в средневековой русской литературе{1447}. Не всегда, однако, это учитывается исследователями, которые «делают ответственные выводы, рассматривая «этикетную формулу» средневековых произведений как индивидуальную особенность памятника». Д. М. Буланин, чье суждение мы привели, далее говорит: «Неверной или, во всяком случае, не совсем верной оказывается характеристика рассмотренной «этикетной формулы» как «самоуничижительного» заявления автора, характеристика, широко распространенная в научной литературе»{1448}. Данная характеристика затронула, как видим, и составителя «Валаамской беседы». Но в действительности он не так прост, как старается это представить читателю. Его повествование представляет собою хитросплетение религиозных, политических и, если можно так сказать, экономических идей, за которым угадывается целая программа партии, оппозиционной церковно-государственному строю Русии середины XVI века{1449}. То была, несомненно, партия Сильвестра — Адашева, собравшая под свои знамена реформаторов, задумавших перестроить Россию на западный манер. Что касается непосредственно самого автора «Валаамской беседы», то его главным образом занимают три основных вопроса, относящихся к вере, собственности и власти. Весьма примечательны слова, содержащиеся в преамбуле «Беседы»: «Сице обличение на еретики и на неверныя вся, победа и одоление на царевы враги и попрание на вся премудрости их. Беседа и видение преподобных отец наших, игуменов Сергия и Германа Валамского монастыря началников, иноков, о Бозе на болшее спасение»{1450}. Во Второй редакции «Беседы» связность текста выражена более ясно: «Сице обличение на еретики и на неверныя, победа и одоление на враги царевы, и видение, и попрание на вся премудрости их. Беседа и видение преподобных отец наших, игуменов Сергия и Германа, Валамского монастыря началников, иноков, о Бозе на болшое спасение»{1451}. Собственное намерение сочинитель «Беседы», следовательно, не скрывает, сразу заявляя, что собирается обличать еретиков и неверных, одолеть и победить «враги царевы», поправ «вся премудрости их». Он, таким образом, разводит царя с теми, кого хочет обличать и ниспровергать, старается вбить клин между ними, чтобы привлечь его на свою сторону и сделать орудием своей политики. Перед нами прием, практиковавшийся «реформаторами» со времен Ивана III и успешно применявшийся некоторое время Избранной Радой во главе с Адашевым и Сильвестром. По этой детали можно догадаться, к какому лагерю принадлежал автор «Валаамской беседы» или, во всяком случае, чьи интересы отстаивал. Ситуация еще больше проясняется, когда происходит персонификация еретиков, неверных и врагов царя. «Не погребенные мертвецы», т. е. иноки, — вот кто они. Автор «Беседы» — лютый ненавистник монашеского владения вотчинами, волостями и селами. С маниакальным упорством твердит он так и этак об одном и том же: «а вотчин и волостей со христианы отнюдь иноком не подобает давати»{1452}; «обители и храмы устроили святии отцы на спасение роду человеческому, а не на высокоумство и не на величество иноком, ниже волостем за монастыри быти»{1453}; «а волостей со христианы за монастыри не залучали, а того бы бегали»{1454}; «а иноческая бесконечная погибель, что иноком волости владети»{1455}; «при последнем времен иноком невозможно спастися будет, отнюдь невозможно, что иноки возлюбят пиянство, блуд, нечистоту, свирепьство и немилосердьство, и волости со христианы, и вся неподобная мира сего»{1456}; «а ныне мы, окаяннии (иноки. — И.Ф.), тем себя высим и исправляем, и превозносим превыше дел своих своим малодушием, под собою имеем волости со християны и над ними властвуем, немилосердство и злобу показуем и всякую неправду»{1457}; «иноков от всего суетнаго и мирскаго отставити, отнюдь отставити, волостей со християны не давати»{1458}. Все эти восклицания преследуют одну цель: опорочить русское монашество, погрязшее якобы в «злокозньстве». Однако составитель «Валаамской беседы» идет еще дальше, замахиваясь не только на иноческое, но и священническое житие, т. е. на духовенство Руси в целом. Не зря в преамбуле «Беседы» говорится: «Аггельское житие на небесех свет показует, а священническое и иноческое житие доброе и образ их на земли верным человеком свет являет»{1459}. Но «увы нам грешным, увы», ибо в жизни все по-другому: «Вопиет к Богу грех священнический и иноческий»{1460}. Грех священнический и даже святительский заключается в том, что священники и святители, подобно инокам, владеют волостями «со христианы», окунаясь в мирские дела, тогда как им надобно «пещись» «о законе и благоверии и о спасении мира всего с царевы небесной грозы»{1461}. Необходимо, впрочем, заметить, что термин иноки употребляется автором «Беседы», судя по всему, не только для обозначения монахов в прямом смысле слова как членов монастырских корпораций. Под этим термином он, похоже, подразумевает и представителей высшей церковной иерархии, которые в силу своего положения также являлись монахами. Тогда понятно, почему иноки выступают у него в качестве владельцев не только вотчин или волостей с селами, но и городов{1462}, почему в их руках сосредоточена большая власть, пользуясь которой они творят суд и расправу: правят волостями, судят мирских людей, посылают «по християном приставом ездити» и велят «на поруки их давати»{1463}. Составитель «Беседы» пытается бросить тень на святителей православной церкви, подавая двусмысленный совет «избирати на святительскую власть крепко и подлино ведущих иноков на всякую добродетель, и ставити их на таковой чин не по дружбе, ниже по посулам, но истинно по правде, нелицемерных постников и к Богу подвижников»{1464}. Во второй редакции «Беседы» посулы заменены мздой, а к фразе и к Богу подвижников добавлено и к миру добродетельных же{1465}. Этот «совет», имеющий явный подтекст, отнюдь не содействовал поддержанию авторитета высших чинов (митрополита, архиепископов и епископов) русской церкви, зароняя червь сомнения относительно чистоты российского святительства и тем самым отвращая паству от священнослужителей. Но, судя по всему, то была частная задача автора «Беседы». Требуя ограничить святительскую власть только заботами о «законе, благоверии и спасении всего мира», он, в сущности, ревизует учение о теократическом государстве, в котором церковные и государственные институты находятся в органическом единстве, переплетаясь друг с другом, отвергает построение Святорусского царства, где церковь является своего рода продолжением государства и наоборот. У него принципиально иная позиция, утверждающая идею разделения светской и духовной властей. Другой строй власти, уверяет составитель «Беседы», не от Бога: «Аще где в мире будет власть иноческая, а не царских воевод, ту милости Божия несть. Таковые властвующия иноки не богомолцы, но гневители. Горе иноком, возлюбившим мир и яже в нем! Горе иноком, возлюбившим суету света сего и не сохраншим заповедей иночества и умершим не в покаянии царскою простотою! Всем владети уставлено и повелено заповедати о всем царем и его в мире везде властем мирским владети, а не святительскому, ниже священническому и иноческому чину…»{1466}. Перед нами текст Первоначальной редакции «Валаамской беседы». Во Второй редакции концовка приведенного фрагмента «Беседы» выглядит несколько иначе и, на наш взгляд, более соответствует протографу: «Всем владети и уставлено и повелено заповедати о всем царем и его в мире и везде властем мирским владети, а не святителскому чину…»{1467}. Здесь отсутствует упоминание о «священническом и иноческом чине», а говорится лишь о «святительском чине», что лучше согласуется с примыкающим текстом (причем обеих редакций), в котором фигурирует только «святительская власть»{1468}. Признав правильным данное наблюдение, мы должны констатировать выпад автора «Валаамской беседы», направленный против митрополита Макария, чья власть и влияние на царя Ивана IV, поколебленные было группой Сильвестра — Адашева после известных событий 1547 года, стали в самом конце 40-х — начале 50-х гг. постепенно восстанавливаться вновь. Начало опять усиливаться и тесное сотрудничество церкви с государством, не входившее в планы реформаторов. Именно в контексте этих событий раскрывается пафос «Валаамской беседы». Приобретает ясность и то, по какой конечной цели бил ее сочинитель. Он бил, как сейчас говорят, по штабам: по русской православной церкви и государству. Чтобы представить, насколько то было опасно, необходимо вспомнить религиозно-политическую ситуацию, сложившуюся тогда в стране. Середина XVI века — время нового оживления еретических движений на Руси. В такие моменты особенно важен вразумляющий глас пастырей, оберегающих от еретических соблазнов врученное им Богом стадо. И вот в час испытаний церкви, когда пастырское слово приобретает великое значение, появляется в публицистике сочинение, возбуждающее если не сомнения, то, по крайней мере, вопросы насчет добропорядочности поставляемых в святители людей и честности самой процедуры поставления. Трудно назвать это иначе, нежели враждебной акцией против высших церковных иерархов и лично митрополита Макария, а значит — против православной церкви и государства. Исходила она, по всему вероятию, либо из еретической среды, либо из кругов, сочувствующих еретикам. Понятно, что решиться на такую акцию можно было лишь при условии, когда у власти находились лица или покровительствующие еретикам, или настроенные оппозиционно по отношению к святоотеческой православной вере, апостольской церкви и самодержавному государству, или то и другое вместе. Именно таких лиц, сплотившихся вокруг Сильвестра и Адашева, мы видим у кормила власти в середине XVI века. Их поддержкой, видимо, пользовался анонимный автор «Валаамской беседы», не стеснявшийся в полемических приемах, называя белое черным, сваливая с больной головы на здоровую. Кстати сказать, обычно так поступали еретики, поднаторевшие в вековых спорах с христианами. В «Беседе» есть одно любопытное место, содержащее такого сорта авторский прием: «Ведомо буди о сем и известно миру всему спроста объявихом: то есть, возлюбленная братия, от беса противо новыя благодати — новая ересь, что иноком волости со христианы владети…»{1469}. Иноки, владеющие «волостями со христианы», названы в «Беседе» иконоборцами: «Таковые иноки труды своими питатися не хотят, накупаются на мирския слезы и хотят быти сыты от царя по их ложному челобитию. Таковые иноки не богомолцы, но иконоборцы»{1470}. Здесь, как и в других случаях, слово иноки не замыкается непосредственно на монашеской братии. Оно подразумевает (особенно в первой цитате), помимо монахов как таковых, иноков и несравненно более высокого ранга — святителей, т. е. высшее духовенство, имевшее вотчины, волости и села, а стало быть — церковь. Согласно автору «Беседы», «новая благодать» — это «еуаггелская благодать», т. е. Евангелие{1471}. Следовательно, не по Евангелию живут владельцы волостей «со христианы», но по «ветхой лже», или Ветхому Завету. Больше того, как утверждается в «Беседе», они идут наперекор «новой благодати», исполняя волю «беса», «лукаваго врага диявола». Умышленные приписки, подтасовки и вставки — вот их аргументы, обосновывающие право владения селами и волостями: «А сего царие не ведают и не внимают, что мнози книжницы во иноцех по диявольскому наносному умышлению из святых божественных книгах и из преподобных жития выписывают, и выкрадывают из книг подлинное преподобных и святых отец писание, и на тож место в теж книгах приписывают лучьшая и полезная себе, носят на соборы во свидетельство, будьтося подлинное святых отец писание»{1472}. Не исключено, что эти слова явились откликом автора «Валаамской беседы» на ответ митрополита Макария царю Ивану IV «О недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных», основанный на божественных правилах «святых апостол и святых отець седми собор, и поместных, и особь сущих святых отець, и от заповедей святых православных царей». Однако вместе с тем необходимо заметить, что перед нами расхожие, дезавуирующие доказательства иосифлян, доводы, которые пускали в ход противники монастырских стяжаний, например старец-князь Вассиан Косой Патрикеев, обвинявший Иосифа Волоцкого и его сторонников в нарушении евангельских заповедей и забвении святоотеческих преданий{1473}. Разница, правда, в том, что нестяжатели типа Вассиана обличали главным образом неправедные дела монахов, хотя осуждали и богатства церкви и роскошь ее иерархов. Безымянный же автор делает новый шаг, подвергая резкой критике иночество, священничество и святительство, т. е. в целом духовенство (= церковь), причем обвиняет его в еретичестве и как следствие того — в приверженности «ветхой лже», т. е. Ветхому Завету. Тут все поставлено с ног на голову, исполнено глубокой вражды к русской церкви и ее священнослужителям. Автор «Беседы», разумея, по-видимому, на какой скользкий и гибельный для себя путь он стал, старается замазать эту враждебность, призывая поклоняться «праведному и страшному царю небесному» Господу Богу и Спасу Иисусу Христу, Пречистой Богородице и всем святым, чтить «новую благодать» Евангелия и «апостольскую проповедь», не поддаваться «на прелестную незаконную нам латынскую и многих вер веру», «стояти противо врагов креста Христова крепко и неподвижно»{1474}. Все эти призывы служили, по нашему мнению, только для отвода глаз. Главное же состояло в том, что анонимный (не случайно!) автор «Валаамской беседы» нанес удар в самое сердце русского православия, объявив еретической нашу апостольскую церковь и ее служителей в сложной и напряженной обстановке нового оживления еретических учений на Руси середины XVI века. Чтобы решиться на такую дерзость, надо было иметь покровителей на самом верху власти. Своеобразной завесой сочинителю «Беседы» служили также его рассуждения насчет человеческого самовольства, связанного с проблемой самовластия души, обсуждаемой в среде еретиков и вольнодумцев еще со времен Федора Курицына. Можно подумать, что ему чужда мысль об этом самовольстве (самовластии). «Мнози убо глаголют в мире, — говорит он, — яко самоволна человека сотворил есть Бог на сей свет. Аще бы самовластна человека сотворил Бог на сей свет, и он бы не уставил царей и великих князей и прочих властей, и не разделил бы орды от орды. Сотворил Бог благоверныя цари и великия князи и прочий власти на воздержание мира сего для спасения душ наших. Аще в мире о сем всегоднем посту не царская всегодная гроза, ино в волях своих не каются по вся годы, ниже послушают попов»{1475}. П. Н. Милюков полагал, что данное возражение «направлено прямо по адресу Пересветова»{1476}. Едва ли это так, хотя бы потому, что у Ивана Пересветова (если, разумеется, относить к его творчеству «Сказание о Петре, воеводе Волосском») о самовластии человека речь идет в другом ключе, чем у составителя «Валаамской беседы». В «Сказании» читаем: «Итак рек волосский воевода: «Господь Бог милосерд надо всею вселенною искупил нас кровию своею от работы вражия; мы же приемлем создание владычне, такова же человека в работу и записываем их своими во веки, а те от бедностей и от обид в работу придаются и прелщаются на ризное украшение; и те оба, приемлющий и дающий, душею и телом перед Богом погибают во веки, занеже Бог сотворил человека самовластна и самому себе повеле быть владыкою, а не рабом»{1477}. Как видим, позиции автора «Валаамской беседы» и Пересветова отчасти совпадают, но отчасти и разнятся. Оба писателя в своих рассуждениях о самовластии человека сходят с религиозно-философской почвы, на которой изначально возникла данная проблема. Но, как говорит восточная мудрость, стоя на одном ковре, они смотрят в разные стороны: первый обращен к явлениям политическим{1478}, а второй — социальным. И конечно, нельзя не заметить того, что сочинитель «Валаамской беседы» отрицает идею о самовластном человеке, а Пересветов, напротив, признает ее. Однако это не означает, что это отрицание «направлено прямо по адресу Пересветова». По-видимому, надо согласиться с А. И. Клибановым, когда он говорит: «Вопрос о самовластии, будучи вопросом о свободе, задевал коренные интересы общества. Этим объясняется, что вопрос этот составлял одну из тем русской религиозной и светской публицистики конца XV и всего XVI в.»{1479}. Не являются здесь исключениями «Валаамская беседа» и «Сказание о Петре, воеводе Волосском». Следует далее признать еще и то, что автор «Беседы» перевел вопрос о самовластии души (человека) из богословско-философской области в политическую плоскость не случайно, а с определенным умыслом, чтобы еще раз вернуться к сюжету о сотворении и об установлении Богом правителей (царей, великих князей и пр.), о разделении им государств («орды от орды»), об удерживающем характере власти, еще раз вернуться с тем, чтобы опять-таки уколоть попов, недостойных послушания и, стало быть, почитания. Неприязнь к православному клиру прорывается у него и в данном случае. Уличая духовенство во всех, так сказать, смертных грехах, составитель «Беседы» ищет главных виновников такого положения и находит их, указывая на «простоту» и «маломыслие» государей (царей), проявляющих небрежение к своим обязанностям: «А маломыслении цари, Христу противницы, иноков жалуют и дают иноком свои царские вотчины, грады и села, и волости со християны, и отдают их из миру от християн своих завидная и вся лутчая в монастыри иноком. Отнюдь то иноком не надобно и не потребно, и не подобает <…>. Таковыми неподобными статиями и мирскими суетами царие иноков потворяют и от обещания иноков, и от молитвы отвращают, и в бесконечную погибель их вводят…»{1480}. К подобным царям наш автор суров и беспощаден: «Лучше степень и жезл, и царский венец с себя отдати и не имети царского имени на себе, и престола царьства своего под собою, нежели иноков мирскими суеты от душевного спасения отвращати»{1481}. Надо было обладать безудержным воображением и немалой злобой, чтобы решиться причислить русских государей к противникам Христа, опорочив в одночасье их многолетние усилия по обустройству святых монастырей Русии, огромное значение которых в истории страны уже тогда являлось очевидным. Перед нами полное отсутствие чувства меры, вызывающее эффект, прямо противоположный тому, на какой мог рассчитывать полемист, предусмотрительно пожелавший остаться неизвестным. Но, увлекшись, он уже не в силах был остановиться и продолжал запугивать читателей «Беседы», как сказал бы Иван Грозный, «детскими страшилы»: «И за таковы иноческие грехи и за царьскую простоту попущает Бог и на праведные люди свой праведный гнев <…>. И сего ради при последнем времени начнут люди напрасными бедами спасатися, и по местом за таковые грехи начнут быти глады и морове частые, и многие частые трусы и потопы. И межеусобные брани и воины, и всяко в мире начнут гинути грады, и стеснятся, и смятения будут во царствах велика, и ужасти, и будут никим гонимы. Волости и села запустеют, домы християнския, люди начнут всяко убывати, и земля начнет пространее быти, а людей будет менши, и тем досталным людем будет на пространной земли жити негде»{1482}. Апокалипсические пророчества о конце мира автор «Беседы», таким образом, приспосабливав ет к собственной концепции Господнего воздаяния за «иноческие грехи и царскую простоту», обедняя картину Второго пришествия и, следовательно, совершая над «святыми божественными книгами» то, в чем корил своих оппонентов, — вольное обращение с этими книгами. Описание всяких «ужастей», в кои будут ввергнуты люди (праведные и неправедные), служило для составителя «Валаамской беседы» ступенью к устрашению властей предержащих: «Царие на своих степенех царских не возмогут держатися и почасту пременятися за свою царскую простоту и за иноческие грехи, и за мирьское невоздержание»{1483}. В политических условиях Русского государства середины XVI века подобные суждения могли восприниматься как идеологическое обоснование учреждения выборной царской власти взамен наследственной, к чему стремилась Избранная Рада и что ее деятели безуспешно попытались осуществить в марте 1553 года. Под завесой Божьего наказания сочинитель «Беседы» старается протащить идею выборности часто сменяемой монаршей власти. Осуждая владение иноков волостями и селами «со христианы», автор «Валаамской беседы» допускает обзаведение ими ненаселенными землями, в частности «особными от мирян» промысловыми угодьями или «промышленными улусами», по терминологии памятника{1484}. Кроме угодий, инокам и всему «священническому чину» надлежит давать на пропитание «урочные годовые милостыни»{1485}, т. е. нечто схожее с ругой — государственным жалованьем, пособием{1486}. Однако иноки обязаны все же «питатися от своих праведных трудов, и своею потною прямою силою, а не царьским жалованием, и не хрстиянскими слезами»{1487}. Они должны следовать примеру («последовати») «прежним иноком, и во всем быти аки прочий преподобнии и пустынные жители»{1488}. Видимо, составитель «Беседы», утверждая, будто иноки «возлюбили пустынное и преподобное отец житие»{1489}, несколько поспешил. Не случайно, надо полагать, во Второй редакции памятника вместо этого безапелляционного утверждения встречаем призыв, обращенный к русскому монашеству: «Возлюбите, братия, пустынное и преподобных отец житие, пищу и питие»{1490}. Призывая возлюбить «пустынное житие» безымянный литератор реально оценивал положение дел в сфере тогдашнего устройства монастырей. Когда же он говорил, будто иноки возлюбили «пустынное житие», то он выдавал желаемое за действительное. Но в любом случае ясно одно: автор «Валаамской беседы» был сторонником пустынножительства монахов и противником сложившегося на Руси монастырского уклада. Здесь, как и во многом другом, он сходился с нестяжателями и ловко спекулирующими их идеями еретиками. То была опасная по своим последствиям идейная игра. Сойди русское монашество на путь, указываемый сочинителем «Валаамской беседы», Русское государство оказалось бы в состоянии глубочайшего религиозно-политического кризиса и распада создававшейся на протяжении длительного времени церковно-монастырской системы, основы которой были заложены преподобным Сергием Радонежским и митрополитом Алексеем{1491}. Этот кризис, несомненно, поразил бы и православную государственность, разрушающе действуя на русское «самодержавство», только что установившееся на Руси. О том, что смена вех в развитии монархии в России при таком повороте событий стала бы неизбежной, свидетельствуют взгляды автора «Валаамской беседы» на характер царской власти. В историографии существует мнение, согласно которому автор «Валаамской беседы» являлся приверженцем самодержавия. По словам И. И. Смирнова, автор «Беседы» «выступает как сторонник царской власти»{1492}. Однако, полагает И. И. Смирнов, точка зрения автора «Беседы» по вопросу о власти «не исчерпывается простым признанием необходимости царской власти. Автор выступает как сторонник самодержавной власти царя»{1493}. На той же позиции стоит и Г. Н. Моисеева, заявляя, будто «автор «Валаамской беседы» сторонник сильной, единодержавной власти московского царя, повелевающего своими «советниками»{1494}. Несколько иной взгляд у Л. В. Черепнина, по которому автор «Беседы» «является сторонником сословно-представительной монархии»{1495}. Что можно сказать по поводу этих суждений исследователей? В «Валаамской беседе» действительно встречаются высказывания, позволяющие предположить в ее авторе человека, симпатизирующего самодержавной власти московских государей. Об этом, казалось бы, говорит развиваемая им идея божественного происхождения царской власти: «Богом бо вся свыше предана есть помазаннику царю и великому Богом избранному князю. Благоверным князем русским свыше всех дана есть Богом царю власть над всеми…»{1496}. Отсюда и название самодержец: «Бог повеле ему царствовати и мир воздержати [и управляти], и для того цареви в титлах пишутся самодержцы»{1497}. По убеждению составителя «Беседы», перекликающегося идейно с Иваном Пересветовым{1498}, «достоит царю грозному быти»{1499}. Обращаясь к русскому иночеству, он взывает: «Возлюбленнии отцы и драгая братия, покаряйтеся благоверным царем и великим князем русским радейте и во всем им прямите. И Бога за них молите, аки сама за себя и паче за себя, да таковыми ради молитвы и мы помиловани будем. И добра государем своим во всем хотите, и за их достоит животом своим помирати и главы покладати…»{1500}. Не следует, однако, чересчур доверчиво относиться к этим словам автора «Валаамской беседы» и принимать их за чистую монету. Вчитываясь в текст памятника, убеждаемся, что в нем не все так просто, как может показаться с первого взгляда. Начнем с понятия самодержец. И тут уместно вспомнить Ивана Грозного, который говорил Андрею Курбскому: «Како же и самодержец наречется, аще не сам строит?»{1501}. И еще: «А Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а не боляреи вельможи»{1502}, «а се… нечестие, еже от Бога данные нам власти самем владети…»{1503}. Сопоставление этих положений царя Ивана, выдержанных в духе официальной доктрины о характере самодержавной власти, с высказываниями автора «Валаамской беседы», посвященными тому же предмету, обнаруживает как сходство, так и различие их позиций. Сходство заключается в признании ими божественного происхождения власти самодержца. Но затем идут различия, причем существенные. Само возникновение названия самодержец Иван Васильевич и сочинитель «Беседы Валаамских чудотворцев» объясняют по-разному. Если, согласно Ивану IV, самодержцем государь называется потому, что «сам строит», сам владеет властью и государством, а не бояре и вельможи, то, по автору «Беседы», цари «в титлах пишутся самодержцы» вследствие того, что Бог повелел им «царствовати и мир воздержати и управляти». Причем автор «Валаамской беседы» в этот раз не уточняет, самовластно ли должен «воздержати и управляти» царь или же вместе с вельможами. Но следом он начинает рассуждать о том, что царю предназначено данное ему Богом царство «воздержати» отнюдь «не собою», но в сообществе «с своими приятели с князи и з боляры»{1504}. О том, что это именно так, а не иначе надо понимать автора «Беседы», недвусмысленно свидетельствует его утверждение: «Не с ыноки Господь повелел царем царство и грады, и волости держати, и власть имети — с князи и з боляры, и с прочими миряны, а не с ыноки»{1505}. Этому утверждению созвучны другие слова, содержащиеся в «Беседе»: «А царем и великим князем достоит <…> всякие дела делати милосердно с своими князи и з боляры с протчими миряны, а не с ыноки»{1506}. Подобный ход рассуждений не мог не привести составителя «Беседы» к проблеме царя и советников. И он, коснувшись ее, выразил вполне определенно свою точку зрения: «А царю достоит не простотовати, с советъники совет совещевати о всяком деле, а святыми божественными книгами сверх всех советов внимати и «Беседы» Иосифа Прекрасного повести дозирати»{1507}. По поводу цитированного текста Беседы Г. Н. Моисеева пишет: «Глагол «простовата» <…> в «Валаамской беседе» имеет отрицательный смысл, поэтому данное выражение следует понимать как назидание царю решать государственной важности вопросы самому, руководствуясь чтением «божественных книг» и повести об Иосифе Прекрасном»{1508}. Противоположным образом думает Л. В. Черепнин: «Царь должен править вместе с лицами, составляющими его «совет»{1509}. Кто из исследователей прав? Похоже, не Г. Н. Моисеева. Верно, конечно, то, что глагол простоваты употребляется автором «Валаамской беседы» в отрицательном смысле. Но ошибочно думать, будто он внушает царю «решать государственной важности вопросы самому». Как раз наоборот. Его сентенция, на наш взгляд, состоит в том, что царю «достоит не простотовати», или, так сказать, дурью не маяться, а советоваться с советниками «о всяком деле», внимая помимо того «священным книгам» и мудрому Иосифу Прекрасному. В подтверждение правомерности такого прочтения «данного выражения» сошлемся на другой текст «Беседы», не оставляющий, по нашему мнению, никаких сомнений на сей счет: «А царем з боляры и з ближними приятели о всем советовати накрепко, а сверх всех советов доложитися божественных и святых книг, и внимати Беседа Иосифа Прекраснаго, царя египетского повесть»{1510}. Во Второй редакции «Валаамской беседы» зависимость царя от советников и консультантов еще более усилена: «А царем з бояры и со ближними приятели о всем советовати и думати (выделено нами. — И.Ф.) крепко-накрепко, а потом смотрити известными своей царъския полаты людми (выделено нами. — И.Ф.) святых божественных книг, и внимати Беседа Иосифа Прекраснаго царя египетьскаго»{1511}. Как видим, этих советников и консультантов автор «Беседы» делит на две группы — бояр и ближних приятелей. Не подразумевает ли он здесь Боярскую Думу (бояре) и Избранную Раду (ближние приятели)? При положительном ответе на вопрос обнаруживается большая его осведомленность в придворных делах Русии середины XVI века. А если учесть проявляемую им заботу о ближних приятелях, с которыми должен советоваться царь, то становится ясной принадлежность нашего писателя к реформаторскому кругу. Итак, термин самодержец, понятый автором «Валаамской беседы» в качестве обозначения государя, царствующего по воле Бога, не только не исключает участия во власти советников (князей, бояр, «ближних приятелей»), но, напротив, предполагает это участие, поскольку оно угодно Богу и осуществляется согласно Божьему повелению. Перед нами, надо сказать, довольно своеобразное толкование слова самодержец, выхолащивающее его истинное содержание. Не чем иным, нежели стремлением теоретически обосновать ограничение самодержавной власти Ивана IV, эту понятийную акробатику объяснить невозможно. Однако позиция сочинителя «Валаамской беседы» будет охарактеризована не полно, если опустить одну весьма существенную деталь: нескрываемое желание поставить в ряд советников царя «протчих мирян», т. е. земских, по всей видимости, представителей или «всенародных человек», по терминологии князя А. М. Курбского{1512}. И здесь, конечно же, нельзя пройти стороной мимо одного из прибавлений (добавлений) к «Валаамской беседе». «Ино сказание тоеже Беседы» — так называется это прибавление. В нем наше внимание останавливают несколько сюжетов, расположенных автором последовательно и представляющих отдельные смысловые звенья или блоки: 1) «Подобает благоверным и христолюбивым царем и богоизбранным, благочестивым и великим князем русския земли избранные воеводы своя и войско свое крепити и царство во благоденьство соединити и распространити от Москвы семо и авамо, всюду и всюду. И грады, аки крепкия и непоколебимые богоутвержденные столпы, крепко скрепити, и область вся держати не своею царьскою храбростию, ниже своим подвигом, но славным войском и царьскою премудрою мудростию»{1513}; 2) «И на таковое дело благое достоит святейшим вселенским патриархом и православным благочестивым папам, и преосвященным митрополитом, и всем священноархиепископом, и епископом, и преподобным архимаритом, и игуменом, и всему священническому и иноческому чину благословити царей и великий князей на единомысленный вселенский совет»{1514}; 3) «И с радостию царю воздвигнути, и от всех градов своих, и от уездов градов тех, без величества и без высокоумныя гордости, христоподобною смиренною мудростию, беспрестанно всегда держати погодно при себе и себе ото всяких мер всяких людей, и на всяк день их добре и добре распросити царю самому о всегодном посту и о покаянии мира сего, и про всякое дело мира сего»{1515}; 4) «А разумных мужей, добрых и надежных приближенных своих воевод и воинов со многими войсками ни на един день не разлучати от собя. Да таковою царьскою мудростию и войновым валитовым разумом ведома да будет царю самому про все всегда самодержавства его, и может скрепити от греха власти и воеводы своя, и приказные люди своя, и приближенных своих от поминка и от посула, и от всякия неправды, и сохранит их от многих безчисленных властелиных грехов, и ото всяких лстивых лстецов, и ото обавников их. И объявлено будет теми людми всякое дело пред царем. Таковою царьскою мудростию и валитовым разумом да правдою тою держатца во благоденьство царство его и войско все без измены крепко всегда»{1516}. Прежде чем приступить к выявлению содержания приведенных фрагментов «Иного сказания», необходимо коснуться вопроса о происхождении самого памятника. Ближайшая задача, встающая перед исследователем, заключается в установлении соотношения, связи основного текста «Валаамской беседы» с этим прибавлением. Иначе, является ли «Иное сказание» непосредственным продолжением «Валаамской беседы», принадлежащим перу одного и того же автора, или представляет собою самостоятельное произведение, хотя и тесно связанное с «Беседой». Ученые по-разному решают данную задачу. Еще дореволюционные издатели «Валаамской беседы» В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов доказывали позднее происхождение «Иного сказания» сравнительно с «Беседой» и, следовательно, принадлежность этих письменных памятников различным авторам{1517}. В советской историографии точка зрения В. Г. Дружинина и М. А. Дьяконова получила поддержку со стороны Г. Н. Моисеевой, высказавшей ряд дополнительных соображений (в том числе текстологических) в пользу этой точки зрения{1518}. В том же направлении рассуждал и Л. В. Черепнин. «Как известно, — писал он, — в некоторых списках «Беседы Валаамских чудотворцев» к ней приписан другой памятник под заглавием «Иносказание тое же Беседы». Автор «Иного сказания», как видно, знал текст «Беседы» и касался некоторых вопросов, в ней поднятых, однако решал их в ряде случаев иначе»{1519}. Следовательно, по Г. Н. Моисеевой и Л. В. Черепнину, «Беседу» и «Сказание» составили разные лица. Однако уже некоторые современники В. Г. Дружинина и М. А. Дьяконова принимали «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» за одно целое{1520}. К тому же склонялись и отдельные новейшие исследователи{1521}. В исторической литературе обращалось внимание и на неосновательность попыток приписать «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» различным авторам{1522}. По нашему мнению, надо все-таки признать, что «Беседа» и «Сказание» написаны разными людьми. Об этом, по-видимому, свидетельствует само название «Ино сказание тоеже Беседы», означающее другое повествование (рассказ){1523} о той же «Беседе». Вряд ли автор «Валаамской беседы» взялся бы за подобную, прямо скажем, странную работу, имея возможность высказать в основном тексте своего сочинения все, что считал нужным. Верно и то, что «Иное сказание» появилось после составления «Валаамской беседы». Но это после нельзя, на наш взгляд, понимать как позже, а тем более — как много позже. «Сказание», скорее всего, создавалось если не сразу, то по горячим следам «выхода в свет» «Валаамской беседы». На это указывает идейная связь «Сказания» с «Валаамской беседой», свидетельствующая об актуальности поднятых в «Беседе» проблем на момент создания «Иного сказания». Отсюда ясно, что между написанием памятников не могло пройти много времени. На идейную связь «Иного сказания» и «Валаамской беседы» обращал внимание И. И. Смирнов, который подчеркивал, что «факт присоединения к первичной редакции «Беседы» этого дополнения («Иного сказания». — И.Ф.) представляет большой интерес. Ибо в глазах автора «Иного сказания» оно составляло <…> органическое единство с текстом «Беседы». Мы можем, следов; ательно, рассматривать «Иное сказание» как дальнейшее развитие той политической программы, которая содержится в основном тексте «Беседы»{1524}. Принимая тезис И. И. Смирнова в общем, принципиальном плане, мы не можем признать правильным конкретное его раскрытие. К тому же (и это надо особо подчеркнуть) «Сказание» не являлось простым развитием «политической программы» «Беседы». Оно вносило в эту программу и нечто новое, свое, будучи, таким образом, некоторым дополнением к «Валаамской беседе». Но при всем том «Беседа» и «Сказание», конечно же, не должны рассматриваться изолированно друг от друга, поскольку находятся в тесной взаимосвязи, являя собою хотя и двухчастное, но, тем не менее, цельное сочинение. Обратимся непосредственно к тексту «Иного сказания», к выделенным нами смысловым блокам, формирующим «политическую программу», пропагандируемую его автором. Первое, что старается внушить русскому царю и великому князю сочинитель «Сказания», это — необходимость «крепити» войско и царство с целью распространения Московского государства (царства) «семо и авамо, всюду и всюду». Завоеванные земли он советует «крепко скрепити», возводя там «грады, аки крепкия и непоколебимые богоутвержденные столпы». Нет сомнений в том, что речь у него идет об авантюрном и провокационном проекте установления со стороны России мирового господства, разумеется в пределах, соответствующих понятиям того времени. Отсюда, очевидно, предложение автора собрать «царей и великих князей на единомысленный вселенский совет», который порою историки безосновательно относят к разряду земских соборов. Так, еще В. О. Ключевский, имея в виду «Иное сказание», писал: «Здесь, наставляя русских царей и великих князей, как крепить своих воевод и войско и соединить во благоденство царство свое, автор предлагает более определенный план всесословного земского собора»{1525}. О земском соборе в данной связи говорили также другие исследователи, например И. И. Смирнов{1526}. Однако данное истолкование «Сказания» упирается в серьезные противопоказания. В частности, термин всесословный не равнозначен термину вселенский, употребляемому автором «Иного сказания». Первый имеет внутренний (внутригосударственный) характер, тогда как второй — внешний (мировой). Если созыв «земского всесословного собора» зависел, как известно, только от решения московского государя и митрополита всея Руси, то собрание, именуемое составителем «Сказания» «единомысленным вселенским советом», требовало благословения «святейших вселенских патриархов», «православных благочестивых пап» и других церковных иерархов. Оно и понятно, поскольку «вселенский совет» созывался в связи с экспансией «Москвы семо и авамо, всюду и всюду», но не по вопросам строительства Русского государства. Этот «вселенский совет» царей и великих князей (но отнюдь не сословий!) предназначался, по всей видимости, для того, чтобы санкционировать создание вселенского православного царства, а лучше сказать, чтобы поманить московского государя соблазнительной перспективой установления православного царства. То была ловушка, в которую автор «Иного сказания» и те, чьи интересы он представлял, думали заманить царя, так как условием созыва «вселенского совета» являлось благословение церковных иерархов, в том числе «православных благочестивых пап». При поверхностном взгляде может показаться, что «православные папы» — нелепость, случайно допущенная сочинителем «Сказания». На самом же деле перед нами, скорее всего, хитрость, пущенная в ход, чтобы смазать различия между православием и католичеством, изобразив их как единоверие. Во всяком случае, сведя в одну компанию православных вселенских патриархов и римских понтификов, автор «Иного сказания» утверждал таким образом идею единства христианских иерархов и, следовательно, идею единства христианских церквей, выступая глашатаем униатства. Не указывает ли это на литовско-русское происхождение нашего публициста или на его связи с Литвой, где унийное движение в рассматриваемое время заметно активизировалось под воздействием нового наступления католичества на православие{1527}. Эмиссары католицизма, одурманенные успехом в Литве, предвкушали свою победу и в России. Один из них, Антонио Поссевино, писал: «Божественное провидение указало, что для истинной веры может открыться широкий доступ, если это дело (проповедь католической веры. — И.Ф.) будет проводиться с долготерпеливым усердием теми способами, с помощью которых так много других государств приняло на себя иго христово. Ведь не без божьего соизволения нам открылся — и это уже что-нибудь да значит — путь в Московию <…>. В том, что нынешний великий князь московский ищет дружбы с папой и другими христианскими государями, в этом мы также увидели удивительные пути божественного промысла…»{1528}. Признавая «Иное сказание» и «Валаамскую беседу» составными частями единого произведения, мы должны признать и то, что униатские мотивы автора «Сказания» являются логическим продолжением и развитием выпадов против православной веры и церкви автора «Беседы», выявленных нами в процессе исследования памятника. В той же логической схеме находится проблема о причастности к власти непривилетированного сословия мирян. Если составитель «Валаамской беседы» говорит в общем плане о привлечении мирян государем к управлению государством, то автор «Иного сказания» предлагает институализировать это участие мирян (горожан и крестьян){1529} в государственном управлении посредством постоянно находящегося при государе собрания выборных «от всех градов» и «от уездов тех городов» с ежегодной их ротацией. Мы ошибемся, если отождествим, подобно В. О. Ключевскому, это собрание, обладающее постоянным статусом, с всесословным земским собором{1530}, созываемым нерегулярно, от случая к случаю. Вряд ли будем правы и тогда, когда вслед за Л. В. Черепниным станем утверждать, будто «в «совете» с участием «мирских людей» можно видеть прообраз земского собора в его начальной форме»{1531}. Ведь, несмотря на то что данное собрание, по замыслу автора «Иного сказания», имело совещательный характер, оно все же ущемляло самодержавную власть царя, бравшего на себя обязанность совета с выборными. Иначе незачем ему было специально отмечать, что государь, учреждая собрание выборных «христоподобною смиренною мудростию», должен отрешиться от «величества» и «высокоумной гордости», т. е. обуздать свои властные амбиции ради выборного представительства. Едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что автор «Иного сказания» побуждал русского царя учредить нечто подобное западноевропейскому парламенту, обнаружив тем самым свои прозападные увлечения и симпатии, расходящиеся с московским самодержавством. В том же направлении шли рекомендации «Иного сказания» насчет приближенных к царю «разумных мужей, воевод и воинов со многими войским». Эти мужи, образующие военное сословие, должны неотступно находиться при государе, которому подобает править государством своею мудростью и «валитовым» (общим, коллективным) разумом воинов, пользующихся правом объявлять «всякое дело пред царем». Тут, по всей видимости, мы имеем дело с намеком на некий коллегиальный орган военного сословия типа литовско-польского сейма, ограничивавшего королевскую власть. Если суммировать наши наблюдения над «Иным сказанием», относящиеся к прерогативам царской власти, то станет ясно, что военное сословие в лице «воевод и воинов», а также земство в лице выборных от городов и уездов — вот та реальная сила, которой, согласно автору «Сказания», пристало управлять государством, тогда как царю надлежит взять на себя роль наделенного «христоподобною смиренною мудростию» государя, чутко прислушивающегося к советам своего окружения. Исходя, очевидно, из тактических соображений, он обращается к термину самодержавство, но обозначает им государство как территориально-политическое образование, а не форму правления{1532}. В целом же «Иное сказание» и «Валаамская беседа», связанные друг с другом столь органично, что их можно рассматривать как один памятник, трактуют самые злободневные вопросы общественно-политической жизни России середины XVI века, касающиеся веры, церкви и государства. Взятые вместе, они составляют, можно сказать, политическую программу, разработанную в атмосфере споров накануне Стоглавого собора и нацеленную на реформирование религиозно-политического строя Руси. По духу и сути эта программа настолько близка реформаторству Избранной Рады, что ее смело можно назвать политической программой партии Сильвестра — Адашева. * * *Приготовления к Стоглавому собору осуществлялись не только в форме назидательных обращений отдельных лиц к царю Ивану и вбрасываемых в общество публицистических сочинений, но и в виде коллективных челобитных, адресованных государю{1533}. В качестве примера назовем «Челобитную иноков царю Ивану Васильевичу». По предположению Г. Кунцевича, издателя этого памятника, «Челобитная иноков» «была написана до собора 1551 года и послужила, вместе с другими данными, материалом для Стоглава»{1534}. Касаясь вопроса об авторстве произведения, Г. Кунцевич говорил: «Назвать автора Челобитной трудно. Можно только заметить, что написавший просьбу был, видимо, человек книжный и, судя по слогу, не лишенный опытности в написании»{1535}. Последнее наблюдение исследователя имеет важное значение, поскольку подводит к выводу о том, что «Челобитная иноков» появилась не вдруг, а будучи порождением идейной борьбы, развернувшейся накануне Стоглавого собора по вопросам церковного реформирования. Это отчетливо понимал и сам Г. Кунцевич, когда замечал: «Партия «нестяжателей» могла поддержать Челобитную, если уж не подвинуть на написание ее»{1536}. Существенно и то, что Г. Кунцевич, как видим, не исключал возможность инициирования «Челобитной иноков» со стороны нестяжателей. А коль так, то правомерно и другое предположение, связывающее происхождение «Челобитной» непосредственно с нестяжательскими кругами. В этом случае обращение иноков к царю являлось лишь формой, за которой скрывалась идейная борьба людей, предпочитавших оставаться в тени. Подобные мысли возникали, кажется, и у Будовница, когда он заявлял: «Нет никаких положительных данных, что челобитная действительно написана иноками какого-то подмосковного монастыря, принадлежавшими к низшей братии. Во время ее появления заметные и влиятельные публицисты охотно пользовались псевдонимами или выступали анонимно»{1537}. К сожалению, затем И. У. Будовниц сводит на нет свою, как нам представляется, интересную мысль о том, что автором «Челобитной иноков» мог быть кто-либо из заметных и влиятельных публицистов того времени. «Под видом «крылошан» (клирики, лица духовного звания){1538}, — продолжает он, — мог выступить и мирянин, противник монашеских верхов, захвативших в свои руки огромные богатства и пользовавшихся большой властью. Но кто же в таком случае мог быть автором «челобитной»? Дворянин прямо писал бы об интересах и требованиях своего класса, о том, что святым отцам следовало бы поделиться своей землей с «воинниками». Посадский человек, взявшийся за перо, чтобы обличить монастырские «нестроения», обязательно привнес бы еретические моменты. Боярин не стал бы прославлять общежительные формы монастырского устройства, за которые так ратовал Иосиф Волоцкий, да еще ставить в пример Волоколамский монастырь. Остается допустить, что челобитная действительно написана иноками из низшей монастырской братии…»{1539}. И. У. Будовниц усматривает в «Челобитной» «литературный памятник, стоящий на защите интересов низшей монастырской братии»{1540}. Так ли это? Прислушаемся к словам «Челобитной». Из этих слов узнаем, как иноки подмосковных монастырей «плачутся и челом бьют» «державному государю, православному царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии», умоляя его об устроении монастырском: «Сотвори обьщая жительства во окрестных обителех града Москвы, дабы наши архимариты и игумены попечение имели о душах братия своея мнишеского чину, дабы радели о своем спасении»{1541}. У челобитчиков, стало быть, выходит так, что «архимариты и игумены» подмосковных монастырей при наличном устройстве обителей о своей монашеской братии не пекутся и о собственном спасении не радеют. Трудно придумать более серьезное обвинение в адрес монастырского начальства, чем только что упомянутое, ибо, по сути, оно обличает монастырские власти в неисполнении церковных заповедей и взятого на себя долга, т. е. в грехопадении. Неудивительно, что «архимариты и игумены» ведут порочный образ жизни, предаются обжорству, «обыкли бо суть пирове наряжати, и мирским человеком соводворятися, и от них тщетныя хвалы желающе, приимающе, да егда мирстии человецы они, честь приемше, друг со другом сошедшееся глаголют: «вчера убо или оном дни бых во оном монастыри и велию честь восприях; игумен в нем вельми добр и зело очествлив, не токмо самому честь воздаде, и слуги моя различным питием упоени быша»{1542}. Какая польза от таких благ, вопрошают челобитчики и отвечают: «По истине от таковых пиров и тщетных похвал многи монастыри запустиша…»{1543}. Небрежением монастырских властей обители обезлюдели, а «сущий под рукою их убогая братия мнишеского чину во всех онех презераеми и небрегомы духом скитаются безпутием, яко отца не имуще пастыря»{1544}. И некому постоять за них. Раньше были блаженные старцы, которые, видя, как «обычая монастырьския изменяемы и благочиние отметаемо, не молчаще, ниже в небрежение полагаху сего, но возбраняху, не попущающе бесчинию и мятежу бывати…»{1545}. Ныне, как явствует из «Челобитной», нет таких старцев. Идеалом челобитчиков является «общее житие», по правилам которого «ядению и питию предложение равно учинена суть: якова же игумену и соборным братиям, такова и последнему брату; такожде и одежда и обуща все имеют от монастырьския дохия, всем же по равенъству, ни малым чем разньствующе, ниже никто какова стяжания в келий имеяше, разве образов и книг и нужных свит, их же ношаше»{1546}. Устами настоятелей «Челобитная» говорит, что в «монастырех московских такого чину не повелося»{1547}. Иная картина наблюдается «во всех Заволских монастырех, и в Соловецком монастыри, такоже и на Ладоском озере, на Валаме, и на Коневце, и на Сеинном такожде и во обители преподобного старца Иосифа, иже на Волоце…»{1548}. Перед нами откровенное противопоставление московских обителей заволжским монастырям, причем в выгодном для последних свете. Автора «Челобитной» нисколько не смущает тот факт, что Заволжье стало средоточием жизни монахов в скитах и пустынях, располагавших иноков больше к отшельничеству, нежели к «общему житию», как это имело место в Центре Русского государства. Он с большим воодушевлением вспоминает «преподобного игумена Кирила чюдотворца», «чин и устав», введенные в Белозерском монастыре{1549}, и странным образом забывает Сергия Радонежского, который, как известно, в сотрудничестве с митрополитом Алексеем распространял в Северо-Восточной Руси общежитийные монастыри, игуменами которых, как правило, становились ближайшие ученики и сподвижники святого старца{1550}. Созданный Сергием общежитийный Троицкий монастырь превратился, так сказать, в инкубатор игуменов и высших иерархов русской церкви{1551}. Такая «забывчивость» составителя «Челобитной», конечно, не случайна и вполне объяснима. Ему надо было убедить читателя в том, что в окрестных обителях города Москвы «общежитийного чину не повелося», и мотивировать обращенную к государю просьбу: «Не о множестве бо потребъных пекущеся молим твое державъство, дабы на братию ядения или пития много было и преизлишно. Несть тако, не буди сего, господи! Не [Но?] о равеньстве и о общем пребывании: аще воздержание, да вси имуть равно; аще недостатки, да все купно потерьпят; аще ли прохлажъдение, то вси же равно; а не два бы или три в монастыри покойны были, а всей братии тъщета и унижение. Приклонися, христолюбче, Господа ради, и умилным сим молением к твоей Богом хранимеи державе исполнити таковое прошение в конец»{1552}. Мы ошибемся, если смысл «Челобитной» сведем лишь к просьбе иноков о введении общежитийного устава в подмосковных монастырях. За этой просьбой скрывалось нечто более важное, обусловленное религиозно-политической борьбой конца 40-х — начала 50-х годов XVI века. В частности, есть основание говорить о скрытой здесь попытке выступления против митрополита Макария, который, с одной стороны, являлся предстателем русской православной церкви в целом, а с другой — главой московской епархии в отдельности. Поэтому автор «Челобитной», говоря о «нестрояниях» в окрестных обителях Москвы, тем самым молчаливо возлагал вину за них на Макария как руководителя столичной епархии, у которого под боком творились перечисляемые жалобщиками безобразия. К этому надо добавить, что «Челобитная» обращена непосредственно к царю Ивану через голову митрополита, в чем опять-таки нельзя не видеть выпад против Макария, стремление вбить клин между ним и государем. Осуждая жизненный уклад подмосковных обителей, сочинитель «Челобитной» всячески расхваливает быт Заволжских монастырей. Он, безусловно, не мог не знать, что Заволжские монастыри служили в ту пору пристанищем и укрытием для еретиков, развращавших русское общество с конца XV века, и в этом отношении пользовались дурной репутацией. Выдавать их за образец мог человек, не отличающийся особой твердостью в православной вере. В «Челобитной» есть соответствующий намек, выраженный в словах: «Кто имеет тело и душа едино и смысл един»{1553}. Тут душа и тело выступают, можно сказать, на равных и в тесном единстве, тогда как, согласно православному вероучению, «душа человека сотворена была Богом как «ечто отдельное, самостоятельное и отличное в материальном мире, способом, который называется вдуновением Божиим… Особенные свойства души состоят в единстве, духовности и бессмертности ее, в способности разума, свободы и дара слова»{1554}. Утверждая «смысл един» тела и души, автор «Челобитной» отрицает, в сущности, идею бессмертия души. Кроме того, он этим своим утверждением как бы реабилитирует людскую плоть, являвшуюся, по понятиям того времени, средоточием пороков человека. Здесь слышны отзвуки западных гуманистических учений, возникавших нередко на еретической почве. Становится ясно, в какой общественной среде составлялась «Челобитная иноков». То была среда, враждебная русской православной церкви, но рядящаяся под ее доброхотов. Конец 40-х — начало 50-х годов были периодом наибольшей активности представителей этой среды. Не случайно именно тогда «прозябе» ересь на Руси. В «Челобитной» содержится одна деталь, служащая датирующим признаком документа. Вот она: «Токмо приносим многотрудное моление твоему благородию, его же прием с обычною тихостию твоею (курсив наш. — И.Ф.), возри свои богомоли»{1555}. На данную деталь обратил внимание еще Г. Кунцевич, который, комментируя «Челобитную», писал: «Далее читаем «со обычною тихостию твоею». Это выражение, во всяком случае, более идет к юному царю, времени Стоглава, чем к Грозному времени казней»{1556}. Г. Кунцевич, безусловно, прав: к Ивану Грозному «времени казней» приведенное выражение не подходит. Иное дело Иван, переживший после летних событий 1547 года душевное потрясение и нравственный переворот, возжелавший свести всех в любовь, царствуя кротостью и миром. По-видимому, государь тогда отличался «тихостию» своей, о чем и сказано в адресованной ему «Челобитной иноков», полученной им, надо думать в конце 40-х или в самом начале 50-х годов, но до начала работы Стоглавого собора. Писания Максима Грека царю Ивану IV, советы старца Артемия, обращенные к государю, «Валаамская беседа» и «Челобитная иноков» — все это свидетельствует о напряженной идейной борьбе вокруг монастырского землевладения и русской церкви вообще. Естественно, что в этой ситуации митрополит Макарий не мог молчать и отсиживаться, наблюдая со стороны за идейной схваткой, а тем более — за приготовлениями наступления на православную церковь. Известен «Ответ Макариа, митрополита всея Русии от божественых правил святых апостол и святых отець седми собор, и поместных, и особь сущих святых отець, и от заповедей святых православных царей, к благочестивому и христолюбивому и боговенчанному царю великому князю Ивану Васильевичу, всеа Русии самодръжцу, о недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных»{1557}. * * *Некоторые исследователи полагают, будто ближайшим поводом к написанию «Ответа» послужило то обстоятельство, что царь Иван, «идя навстречу настойчивым требованиям «избранной рады», особенно сторонников попа Сильвестра, обратился непосредственно к митрополиту Макарию с запросом относительно возможности секуляризации домовых митрополичьих вотчин», на что святитель и откликнулся в виде специального открытого послания{1558}. Возможно, это так. Но из текста послания не видно, чтобы митрополит Макарий писал его в качестве ответа на запрос Ивана IV. Поэтому не исключено, что слово ответ, содержащееся в заголовке послания, означало оправдание, защита{1559}. Митрополит, таким образом, располагая информацией о ведущейся правительством Избранной Рады законодательной подготовке по отчуждению церковного имущества, обратился к царю Ивану с открытым посланием, в котором оправдывал и защищал «имения» церкви. Это обращение позволяет представить, насколько остро стоял тогда вопрос о церковных владениях. По мнению А. А. Зимина, «Ответ Макария» был написан до сентября 1550 года{1560}. А. А. Зимин, однако, не исключал и того, что «Макарий отвечал на вопросы, поставленные Иваном IV еще в феврале того же года»{1561}. Вскоре исследователь предложил иную датировку памятника: «Очевидно, около 15 сентября 1550 г. митрополит Макарий произнес большую программную речь в защиту права монастырей на владение недвижимыми имуществами»{1562}. Позднее А. А. Зимин высказал уже другую версию: «Около 1550 г. Макарий пишет послание (ответ) Ивану Грозному, посвященное монастырскому землевладению»{1563}. В одном из разделов обобщающего труда по истории русского православия А. А. Зимин вместе со своими соавторами А. М. Сахаровым и В. И. Корецким относит «Ответ» к 1550 году: «В 1550 г. появился «Ответ» митроцолита Макария, в котором говорилось о принципиальной допустимости для церкви владеть недвижимым имуществом»{1564}. Хронологические колебания, проявленные А. А. Зиминым, — показатель сложности проблемы датировки источника. Поэтому, надо полагать, А. И. Плигузов поступает более осторожно, устанавливая временные рамки возможного появления митрополичьего ответа между 16 января 1547 года — июлем 1551 года{1565}, считая, что в нем нашел отражение «самый напряженный этап полемики о методах государственной регламентации церковного и монастырского землевладения»{1566}. С. Н. Кистерев несколько сузил промежуток времени, в течение которого мог быть составлен «Ответ Макария», ограничив его маем 1549 года — февралем 1551 года (до начала работы Стоглавого собора){1567}. Эту датировку принял В. В. Шапошник{1568}. Она и нам кажется приемлемой, правда, с небольшой поправкой: верхнюю хронологическую грань написания «Ответа» следует, на наш взгляд, отодвинуть ко времени, предшествующему июню 1550 года, когда «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии <…> Судебник уложыл»{1569}. Определяя главное содержание «Ответа Макария», одни историки говорят о защите митрополитом монастырского землевладения{1570}, другие — церковных земель{1571}, третьи — церковного и монастырского землевладения{1572}. Ученые, как видим, расходясь в несущественных деталях, едины в основном, а именно в том, что в своем ответе митрополит Макарий отстаивал неприкосновенность земельной собственности духовенства. Но если строго следовать источнику, придется признать, что Макарий рассуждал не о монастырских или церковных землях, а о принадлежащих святым монастырям и святым церквам «недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных»{1573}. К числу этих «недвижимых вещей» он относит храмовый «завес», церковные сосуды и книги, а также «непродаваемые вещи, рекше села, нивы, земли, винограды, сеножати, лес, борти, воды, езеро, источницы, пажити и прочая…»{1574}. «Митрополит Макарий приводит данный перечень еще раз: «Аще кто от церковнаго имениа святых завес или святых съсуд, или святых книг, или от иных вещей, их же не подобает продати или отдати, възложенных Богови в наследие благ вечных недвижимыя вещи, рекше села, нивы, винограды, сеножати, лес борти, воды, езера, источници, пажити и прочая, вданная Богови в наследие благ вечных»{1575}. Иногда Макарий заводит речь о «недвижимых вещах» вообще без какой-либо их конкретизации{1576}. В тех случаях, когда он говорит о селах и угодьях, то обычно добавляет: «и прочна недвижимый вещи»{1577}. Помимо упомянутых «недвижимых вещей», он еще называет пошлины{1578}, суды{1579} и др. Включенные митрополитом Макарием в «недвижимые вещи» храмовые завесы, церковные сосуды и книги, пошлины и суды подводят нас к пониманию термина недвижимые как неотъемлемые. По Макарию, недвижимые вещи нельзя двигнути, поскольку они недвижимы (т. е. неотчуждаемы){1580}. «Никто не может, — возглашает святитель, — церкви Божиа оскорбити или поколебати, или недвижимая от церкви Божиа двинути, понеже бо церкви Божиа небес вышше и твердейше, и земли ширьше, и моря глубочайше, и солнца светлейши, и никто не можеть ея поколебати, основана бо бе на камени, сиречь на вере Христова закона»{1581}. Если следовать историкам, полагающим, что митрополит Макарий посвятил свой ответ исключительно защите церковного и монастырского землевладения, станет не совсем понятно, почему среди «недвижимых вещей» он счел необходимым упомянуть церковную утварь, книги, а также неземельные доходы церкви. Конечно, можно думать так, будто ему это понадобилось для усиления идеи неотъемлемости церковных и монастырских земельных владений. Но с равным основанием мы можем предположить, что Макарий выступил в защиту церковно-монастырского «имения» в целом, утверждая мысль о неприкосновенности имущества духовных учреждений. Надо еще раз вспомнить то, в какой исторический момент состоялось выступление митрополита Макария. Как мы знаем, то было время когда, по выражению летописца, «прозябе ересь на Руси». Еретики снова, как и на исходе XV века, проникли в Кремль, окопавшись во дворе князей Старицких. Их отношение к церковному богатству и к самой православной церкви хорошо известно. Оно было резко отрицательным. Надо полагать, они вели соответствующую пропаганду. К тому же сравнительно недавно в княжеском дворце проповедовал свои идеи друг «жидовствующих» Вассиан Патрикеев, являвшийся противником украшения церковных икон и зданий драгоценностями{1582}. Старец Вассиан призывал вернуть церковь к ее «первой духовной красоте»{1583}. Своей агитации князь-инок придавал вид благопристойности, апеллируя к авторитету Иоанна Златоуста и Нила Сорского, в особенности последнего, говорившего в своем «Предании» о ненужности украшения церквей драгоценностями{1584}. Правящая группировка, возглавляемая Адашевым и Сильвестром, близкими к нестяжателям и даже — еретикам, не только прислушивалась к противникам русской церкви, но и пыталась реформировать ее в духе их высказываний. Необходимо подчеркнуть, что инициатива здесь шла не от царя Ивана, а от людей из его окружения{1585}, прежде всего, по-видимому, со стороны Сильвестра{1586}, соперничавшего с митрополитом Макарием из-за власти и влияния на государя. Глухие намеки на это имеются в «Ответе». Там читаем следующее наставление царю: «…тебе, царю, от Бога ныне възвышенному и почтенному, единовластному царю в всем великом Росийском царствии, самодръжцу сущу и в конець сведущему Христов закон евангельскаго учениа и святых апостол и святых отець заповеди, и вся тебе божественная писаниа в конець ведущу и на языце носящу не человечьскым бо учением, но данною ти от Бога премудростию. И сего ради, благочестивый царю, подобает тебе, разсудив, смотрити и творити полезная и богоугодная, яко же и прочий благочестивии цари, блюди и храни свою царскую душу и свое христолюбивое царство от всех врагов видимых и невидимых»{1587}. Митрополит, таким образом, призывает Ивана исполнить свой долг самодержца, знающего «Христов закон и евангельское учение», опирающегося на данную ему Богом премудрость, а не на человеческое учение, идущее от врагов видимых и невидимых на погибель царской души и христолюбивого царства. Макарий, как бы разумея, в какой сложной ситуации оказался царь Иван, говорит «Человецы бо есмы, плаваем в многомлъвленом сем море. Въпредь что будет нам, не вемы»{1588}. О том, что партия Адашева — Сильвестра зло на церковь замышляла, будет позднее свидетельствовать сам Иван Грозный: «Антихриста же вемы: ему же вы подобная творите, злая советующе на Церковь Божию»{1589}. Итак, есть основания предполагать, что в конце 40-х — начале 50-х годов XVI века московское правительство, руководимое А. Ф. Адашевым и попом Сильвестром, планировало крупную церковную реформу с конфискацией «недвижимых вещей» церкви, состоящих не только из сел и других земельных владений, но также из всякого рода церковных ценностей. Характерны в этой связи слова Ивана Грозного; «Праги же церковныя, — елика наша сила и разум осязает, яко же подовластные наши к нам службу свою являют, сице украшении всякими Церкви Божий светится, всякими благостинями, елико после вашея бесовския державы сотворихом, не токмо праги и помост, и предверия, елико всем видима и иноплеменным украшения»{1590}. Отсюда следует, что реформаторы, группировавшиеся вокруг Сильвестра и Адашева, противились украшению и одариванию церквей. Они, похоже, не почитали должным образом иконы и отвергали некоторые таинства. Грозный говорил Курбскому: «Жив Господь мой, жива душа моя, — яко не токмо ты, но вся твои согласники, бесовские служители, не могут в нас сего обрести. Паче же уповаем, Божия слова воплощением и пречистые его матери, заступницы християнския, милостию и всех святых молитвами, не токмо тебе сему ответ дати, но и противу поправших святыя иконы, и всю христианскую божественную тайну отвергшим, и Бога отступльшим (к ним же ты любительно совокупился еси)…»{1591}. Иван Грозный уверенно предрек: «И ваша злобесная на Церковь восстания разсыплет сам Христос»{1592}. Однако, чтобы «восстать» на церковь и подвергнуть ее реформированию, надо было обладать огромной властью, святительской и царской. Грозный прямо обвиняет своих бывших советников в покушении на эту власть: «Святительский сан и царский восхищаете, учаще, и запрещающе, и повелевающее»{1593}. Да и письменный «Ответ» митрополита Макария во многом показателен. Он свидетельствует о том, что глава русской церкви был отстранен от обсуждения и подготовки замышляемой партией Сильвестра — Адашева реформы, что он был лишен возможности непосредственного влияния на государя, и единственным средством воздействия на него оставалось лишь публичное письменное заявление предстоятеля православной церкви. Все это позволяет, на наш взгляд, увидеть направление намечавшейся партией Сильвестра — Адашева церковной реформы. Она, по всему вероятию, должна была идти путем «опрощения» церковной организации по типу западной протестантской церкви, что означало слом апостольской церкви в России, доселе заботливо оберегаемой. Царь Иван если не сразу, то вскоре понял, чем русской церкви угрожает реформа. «На церковное разорение стали есте», — скажет он потом{1594}. Митрополит же Макарий разгадал это изначально. Вот почему святитель, по свойству характера своего не склонный к открытым конфликтам и ссорам, решительно, твердо и смело выступил против пагубного для русской церкви начинания, заявив в «Ответе» царю: «Егда рукополагахся, сиречь поставляхся в святительский сан, и тогда посреди священнаго събора в святей съборней апостольстей церкви пред Богом и пред всеми небесными силами, и пред всеми святыми, и пред тобою, благочестивым царем, и пред всем сунклитом, и пред всем народом кляхся судбы и законы, и оправдание наше хранити, елика наша сила. И пред цари за правду не стыдитися, аще и нужа будеть ми от самого царя или от велможь его, что повелят ми говорити, кроме божественых правил, не послушати ми их, но аще и смертью претять, то никако же не послушати их. И сего ради бояхъся, глаголю ти, о благочестивый царю, и молю твое царское величьство: останися, государь, и не сътвори такова начинания, его же Бог не повеле вам, православным царем, таковая творити. Но и вси святии его възбраниша вам, православным царем, и нам, архиереем, священными правилы зело претиша и запечатлеша седмью съборы по данней им благодати от святого и животворящаго духа. И того ради молим твое царское величьство и много с слезами челом бием, чтобы еси, царь и государь, князь великий Иван Васильевич всея Русии самодръжець, по тем божественным правилом у Пречистой Богородицы и у великих чудотворцев из дому тех недвижимых вещей, вданных Богови в наследие благ вечных, не велел взяти»{1595}. «Ответ» митрополита Макария, заявившего о своем намерении стоять за истину и правду до смерти, охладил реформаторов и вынудил их отступить. Три, по крайней мере, обстоятельства способствовали тому. Во-первых, несгибаемая позиция Макария, готового положить жизнь на алтарь русской православной церкви и предавшего гласности планы реформаторов. Во-вторых, поддержка митрополита большинством церковных иереев и, несомненно, частью бояр и дворян, а также массой православного люда. И, наконец, в-третьих (а может быть, во-первых), инициатива реформирования церкви исходила не от самого государя, а от временщиков — Сильвестра с Адашевым и других членов Избранной Рады{1596}. Иван IV некоторое время стоял как бы над схваткой придворных группировок. Но, будучи глубоко православным человеком, вскоре принял сторону митрополита. А. С. Павлов в свое время писал: «После такого ответа (митрополита Макария. — И.Ф.) «благочестивому царю» оставалось только заняться другими сторонами вопроса о церковных и монастырских вотчинах»{1597}. Историк прав, за исключением «благочестивого царя», поскольку заниматься «другими сторонами вопроса о церковных и монастырских вотчинах» пришлось не столько ему, сколько тем, кто задумал Церковную реформу, — царским советникам во главе с Сильвестром и Адашевым. Современный исследователь говорит: «Давая раз и навсегда категорическое несогласие на уступку церковных земель, митрополит резко сузил поле действия для сторонников секуляризационных проектов. Им оставалось только одно — обратить главное внимание на ограничение дальнейшего роста церковных земель и на решение финансовых проблем государства за счет (или при участии) Церкви»{1598}. По нашему мнению, существо вопроса заключалось не в «секуляризационных проектах», а в более широком реформировании церкви, задуманном Избранной Радой. Натолкнувшись на мощное сопротивление руководства православной церкви, реформаторы, изменив тактику, перешли к маневрированию, полагая добиться своего «не мытьем, так катаньем». Отказавшись от общей церковной реформы, они повели наступление на иммунитетные привилегии и земельную собственность духовенства, особенно на монастырские права и льготы. Сделать это было не так уж трудно, поскольку в прошлом имелись подобного рода прецеденты. * * *Данное наступление нашло отражение в Судебнике 1550 года, где наше внимание привлекает статья 43, которая гласит: «А велит государь кому какову грамоту дати лготную, или уставную, или полетнюю с красной печатью, и что возмет печатник от печати от которые грамоты, а дьяку от подписи взяти то же. Торханных вперед не давати никому; а старые тарханные грамоты поимати у всех»{1599}. Важно отметить, что статья эта — новая{1600}. Не менее важным является наблюдение Б. А. Романова, согласно которому «категорическое постановление о тарханных грамотах имеет здесь вид как бы приписки к тексту, вполне законченному и изготовленному, возможно, даже в иной момент: он не имеет здесь никакого отношения ни к побору печатника, ни к доходу дьяка»{1601}. Следовательно, статья 43 составлялась в два приема: сначала был написан текст о льготных уставных и полетных грамотах с указанием оплаты услуг печатника и дьяка, а затем к этому тексту законодатель присовокупил распоряжение о прекращении выдачи новых тарханных грамот и об изъятии старых. Приписка, надо думать, появилась в результате возникновения каких-то неожиданных обстоятельств. Нет ничего невероятного в том, что эти обстоятельства были вызваны решительным противодействием митрополита и верного православным традициям клиpa попыткам изъятия церковных «недвижимых вещей», т. е. захвата государственной властью, оказавшейся в руках чуждых Святорусскому царству элементов, имущества церквей и монастырей. Реформаторам на ходу пришлось перестраиваться, несколько умерить свой пыл и зайти к цели с другой стороны. Следует, впрочем, сказать, что по поводу статьи 43 у исследователей нет единого суждения. Некоторые из них сомневаются в том, применялась ли эта статья вообще. Так, по мнению А. С. Павлова, «предположение Судебника (ст. 43) об отобрании старых тарханов, по отношению к монастырям, так и осталось одним предположением»{1602}. Сходные мысли высказывал С. В. Рождественский, согласно которому «постановление Судебника [ст.43] совсем почти не применялось на практике»{1603}. Аналогичным образом рассуждал Н. П. Павлов-Сильванский: «Царским судебником тарханы были отменены… Но постановление это совсем почти не применялось на практике»{1604}. С точки зрения Б. А. Романова, статья 43 носила «чисто декларативный характер», будучи предписанием, обращенным «к самой верховной власти»{1605}. В комментариях к Судебнику 1550 года он отмечал, что вопрос «об осуществлении постановления ст. 43 Судебника 1550 г. о «тарханных грамотах»«является малоизученным как в досоветской, так и в советской исторической литературе{1606}. При этом Б. А. Романов снова возвращается к идее о декларативном характере статьи 43: «Общая форма ст. 43 лишила ее практически применимого содержания. Она носит чисто декларативный характер и сформулирована как предписание, обращенное не к подчиненным органам управления или подданным, а к самой верховной власти (потому что только она сама и выдает тарханные грамоты и аннулирует их, давая «грамоту на грамоту»). Можно говорить о более или менее полном или неполном исполнении заключающейся в ст. 43 программы, а не о нарушении или соблюдении закона»{1607}. В отзыве о дипломной работе С. М. Каштанова, посвященной феодальному иммунитету в XVI веке (1954), А. Т. Николаева писала о том, что статья 43 Судебника 1550 года «реализована не была, т. к. создавшаяся обстановка заставила Ивана IV отступить от намеченного плана в этом вопросе»{1608}. Необходимо все-таки признать, что статья 43 Судебника 1550 года имела практическое применение, и сомнения на сей счет, по-видимому, избыточны{1609}. Другое дело, в полной ли мере применялся закон или частично, избирательно. Здесь среди историков также нет согласия. Необходимо заметить, что закон предписывал «тарханные грамоты поимати у всех», т. е. равно как у светских, так и духовных землевладельцев. Это предписание было истолковано некоторыми исследователями в качестве общего принципа законоприменительной практики. П. П. Смирнов, рассмотрев соответствующий материал, замечал: «Из сделанного перечня, конечно, далеко не полного и случайного, грамотчиков, представлявших для пересмотра свои жалованные грамоты в мае — июне 1551 г., можно сделать заключение, что пересмотр касался не того или иного грамотчика, а очень многих из них, возможно, даже всех, потому что статья 43-я Царского судебника говорит именно о всех: «а тарханных вперед не давати никому, а старые тарханные грамоты поимати у всех». Поэтому, хотя наш материал касается исключительно монастырей, можно думать, что были затребованы также тарханы и митрополита, архиепископов и епископов, а также светских лиц, хотя мы не располагаем ни одной такой грамотой»{1610}. И еще: «Статьей 43-й Царского судебника было запрещено выдавать тарханы кому бы то ни было, следовательно, и церковным учреждениям, а «старые тарханные грамоты поимати у всех»{1611}. Согласно И. И. Смирнову, статья 43 «наносила удар по основным группам привилегированных землевладельцев — тарханников»{1612}. На ее основе в мае 1551 года был произведен пересмотр жалованных грамот, затронувший не только монастыри, но и все категории грамотчиков-иммунистов как церковных, так и светских{1613}. Сходным образом рассуждал и Н. Е. Носов: «Ставя вопрос об отмене тарханов, правительство имело в виду их упразднение у всех категорий феодалов, ранее обладавших правом на получение тарханов и несудимых грамот, а не только у одних монастырей. И именно это общее правило было закреплено в <…> новом Судебнике: «тарханных вперед не давати никому, а старые тарханные грамоты поимати у всех» (ст. 43). А коли даже бояре поступились в угоду своих общеклассовых интересов тарханными грамотами <…>, то тем труднее было духовенству отстаивать право на отарханивание только церковных земель — митрополичьих, епископских и монастырских вотчин»{1614}. Более доказательной нам представляется другая точка зрения, высказанная, кажется, впервые С. М. Каштановым. Комментируя статью 43 Царского судебника, он говорил: «Статья 43 была направлена не против светских феодалов, а против духовных вотчинников, получивших в период боярского правления много щедрых тарханов»{1615}. Дальнейшее изучение источников лишь укрепляло С. М. Каштанова в данном мнении. Поэтому в книге, трактующей о финансах в средневековой Руси, историк скажет, что цель майской 1551 года ревизии тарханов, осуществленной в плане реализации статьи 43, «заключалась не в рассмотрении отдельных конкретных грамот, а в широком проведении в жизнь принципа централизации государственных финансов путем ограничения главных податных привилегий духовных феодалов <…>. Принципом ограничения тарханов в мае 1551 г. было уничтожение привилегий монастырей в отношении уплаты важнейших налогов»{1616}. С. М. Каштанова в этом вопросе поддержал А. А. Зимин, который замечал: «Анализ жалованных грамот, произведенный С. М. Каштановым, позволил сделать вывод, что статья 43 Судебника имела совершенно конкретное содержание, т. е. ликвидацию тарханов»{1617}. Причем «статья 43 своим острием была направлена против податных привилегий духовных феодалов»{1618}. Не случайно, надо думать, другие историки, изучавшие практику применения статьи 43, констатировали отсутствие соответствующих документов, относящихся к светским землевладельцам. «Наш материал касается исключительно монастырей», — отмечал П. П. Смирнов{1619}. «К сожалению, в отношении ст. 43 Судебника, — говорил Б. А. Романов, — мы не располагаем материалом общего значения, и далее приходится ограничиться материалом, относящимся лишь к монастырскому землевладению»{1620}. Нам представляется, что концовка статьи 43 Судебника 1550 года, составленная в спешном порядке, была действительно направлена главным образом против привилегий монастырских земельных собственников, хотя положения закона, заключенного в ней, касались всех землевладельцев — и светских, и духовных («тарханных вперед не давати никому; а старые тарханные грамоты поимати у всех»). Но эта всеобщность закона носила, по всему вероятию, формальный характер, являясь видимостью справедливости и равенства всех тарханников перед законом. Это был юридический прием, рассчитанный на то, чтобы затруднить несогласие духовенства с отменой податных привилегий в сфере монастырского землевладения, т. е. обеспечить успешное прохождение статьи 43 Судебника{1621}. Добившись принятия закона, можно было ограничить его действие определенной группой грамотчиков, что мы, собственно, и наблюдаем в практике ревизии тарханов, последовавшей за принятием статьи 43 и затронувшей преимущественно монастырское землевладение. Для этого Избранная Рада обладала необходимыми рычагами власти. Статья 43 дает возможность заглянуть в механизм политики Избранной Рады, построенной на ложных и обманчивых движениях, предпринимаемых ради того, чтобы сбить с толку и заморочить голову противникам проводимого ею курса. Разумеется, бывало и так, что расхождение между законодательством и практикой возникало не по задуманному плану, стихийно, о чем говорит Н. Е. Носов: «Одно дело законодательство, другое — практика, которая зачастую вносила не только коррективы, но и видоизменяла уже принятые правительством общенормативные предписания»{1622}. Однако в данном случае мы имеем дело с преднамеренностью. * * *В связи с обсуждаемой нами сейчас проблемой вспоминается и статья 91 Судебника 1550 года, где говорится: «А попа, и дьякона, и черньца, и черницу, и старую вдовицу, которые питаются от церкви божией, ино их судити святителю или его судьям; а будет простой человек с церковным, ино суд вопчей; а которая вдовица питается не от церкви божией, а жывет своим домом, ино то суд не святителской. А торговым людем городцким в монастырех в городских дворех не жити, а которые торговые люди учнут жыти на монастырех, и тех с монастырей сводити да и наместником их судити. А на монастырех жыти нищим, которые питаются от церкви божией милостынею»{1623}. Толкуя данную статью, И. И. Смирнов, пишет: «Вопросам привилегированного землевладения посвящена также ст. 91 Судебника. Статья эта по содержанию непосредственно примыкает к ст. 43, с той только разницей, что в отличие от ст. 43, рассматривающей вопрос о тарханах в общей форме, ст. 91 рассматривает вопрос о привилегиях монастырского землевладения»{1624}. Видит связь между названными статьями Судебника 1550 года и Н. Е. Носов, полагая, что они закрепили принятое по рекомендации Собора 1549 года «общее решение о ликвидации тарханов»{1625}. Как мы уже отмечали, общая форма статьи 43 служила завесой, скрывающей частный замысел законотворца, направленный против монастырей. Вот почему, на наш взгляд, сходство статей 43 и 91 обнаруживается, прежде всего, в вопросе об отношении законодателя к монастырским привилегиям, которое в обоих случаях является явно негативным, что позволяет усматривать в этих статьях правовую акцию, подрывающую традиционные устои жизни русских монастырей. Статью 91 Царского судебника исследователи обычно сравнивают со статьей 59 Судебника 1497 года{1626}, которая гласит: «А попа, и диакона, и черньца, и черницу, и строя, и вдову, которые питаются от церкви божиа, то судить святитель или его судия. А будет простой человек с церковным, ино суд вопчей. А котораа вдова не от церкви божий питается, а живет своим домом, то суд не святительской»{1627}. Сопоставляя статью 59 Великокняжеского судебника со статьей 91 Царского судебника, Б. А. Романов замечал: «Дополнение, сделанное к ст. 59 Судебника 1497 г. составителем Судебника 1550 г., придало статье 91 острополитический характер»{1628}. Для убедительности он при этом ссылался на исследования некоторых ученых, в частности на труды М. Ф. Владимирского-Буданова, Н. П. Павлова-Сильванского и М. А. Дьяконова. М. Ф. Владимирский-Буданов, оценивая статью 91, писал: «Это первое известие о прикреплении посадских людей к посаду (к тяглу). Воспрещается задаваться за частных лиц во избежание тягла (причем и право суда в известных границах переходило к частному владельцу, здесь к церкви). Вместе с тем отсюда же вытекает и следующее постановление: люди монастырские не имеют права заниматься торговлею не неся тягла»{1629}. Н. П. Павлов-Сильванский, говоря о закладничестве, замечал: «Впервые было оно воспрещено в середине XVI в. ст. 91 царского судебника 1551 г.»{1630}. М. А. Дьяконов нашел в статье 91 Судебника 1550 года указание на существенное ограничение тяглых городских людей «в праве перехода»{1631}. В советской историографии по-разному отнеслись к этим высказываниям дореволюционных авторов. П. П. Смирнов, например, возражал им: «Запрещение «торговым людям городским» жить «в монастырех», в подмонастырных слободках и около церквей не является новостью. Оно воспроизводит соответствующие положения законодательства Ивана III, писцы которого отбирали у монастырей дворы за исключением одного и все слободки в городах. Возможно даже предположить, что в статьях Судебника мы имеем воспроизведение несохранившегося «указа слободам» Ивана III, на который ссылался для оправдания своего законодательства Иван IV в речи Стоглавому собору. Во всяком случае, статья 91-я Царского судебника говорит об ограничении права церковных слободчиков, а не об ограничении права посадских людей на выход из посада. Торговых и городских людей выводят из слобод по торгу и промыслу, а не по посадской старине. Статья ни в коем случае не может быть истолкована как указание на прикрепление посадских людей к тяглу, как это думали Н. П. Павлов-Сильванский и М. А. Дьяконов»{1632}. Иначе была принята идея о закладчиках и закладничестве согласно статье 91 Судебника 1550 года. Так, А. А. Зимин говорил: «Посадским людям — закладчикам посвящена статья 91, провозгласившая, что «торговым людем городцким в манастырех в городских дворех не жити». П. П. Смирнов полагал, что в статье воспроизведен в какой-то мере текст несохранившегося указа о слободах Ивана III, на который ссылался Иван Грозный в речи, обращенной к Стоглаву. Так это или иначе, но статья 91 еще не решала вопроса о слободах по существу, и к этой теме правительству пришлось вернуться уже в конце 1550 г. Общее постановление, направленное на борьбу с закладничеством, показывало возросшую роль посада и стремление правительства учесть в какой-то мере требования горожан»{1633}. Довольно обстоятельно развивает тему о закладчиках и закладничестве применительно к статье 91 Царского судебника И. И. Смирнов. Приведем его суждения по возможности полнее. «Одной из важнейших привилегий монастырского землевладения, — пишет он, — было право принимать закладчиков. Лица, заложившиеся за монастырь, попадали под защиту монастыря (так как на них распространялось действие монастырских иммунитетов), становясь вместе с тем и подсудными монастырскому суду. Закладничество представляло собой широко распространенное явление в XVI в. Закладчики составляли основной контингент населения монастырских слобод, насчитывавшихся в большом количестве в XVI в. и быстро увеличивавшихся в числе. Причины развития закладничества надо искать в общих процессах социально-экономического развития Русского государства. Закладничество было одним из каналов, дававших возможность торгово-ремесленному населению посадов освобождаться от все растущего посадского тягла, создавая вместе с тем для закладчиков более благоприятные условия их хозяйственной деятельности. Монастыри в свою очередь были заинтересованы в росте количества закладчиков, с которых монастырь взимал подати в свою пользу. Напротив, правительство Ивана IV заняло в вопросе о закладничестве резко отрицательную позицию. Политика правительства Ивана IV в вопросе о закладчиках являлась политикой борьбы с закладничеством и была направлена на создание условий, долженствовавших если не ликвидировать закладничество совсем, то, во всяком случае, ограничить его размеры и затруднить дальнейшее развитие закладничества. Вместе с тем это была политика укрепления позиций посада, население которого особенно ощущало на себе результаты развития закладничества. Ст. 91 Судебника явилась конкретным выражением этой политики. Статья эта запрещала городским торговым людям жить «в монастырех» (т. е. на монастырской «белой» земле), предписывая им жить в городских дворах. При этом ст. 91 устанавливала, что в случае нарушения городскими людьми запрещения жить в монастырях, их следовало «сводить» с монастырей в посад. Запрещая таким образом закладничество торговых людей за монастыри, ст. 91 одновременно изымала этих торговых людей — бывших закладчиков — из-под монастырской юрисдикции, восстанавливая подсудность их наместникам («да и наместником их судити»)»{1634}. В приведенных словах И. И. Смирнова немало верных наблюдений. Но это отнюдь не означает, что к ним нечего больше добавить. Нуждается в дальнейшем обсуждении вопрос о закладничестве в контексте событий середины XVI века и в том числе с точки зрения религиозно-нравственной и моральной. Нет должной ясности и в том, какую цель преследовало правительство Сильвестра и Адашева, вступая в борьбу с монастырским закладничеством. Мысль об «укреплении позиций посада» здесь хотя и правильна, но, по нашему мнению, недостаточна, поскольку Избранная Рада, как мы неоднократно убеждались, подстраиваясь под запрос текущего момента и якобы соответствуя велению времени, на самом деле проводила свою политику и решала собственные задачи, расходившиеся с историческими потребностями Русского государства. Н. П. Павлов-Сильванский, характеризуя закладничество, писал: «Закладничество было не сделкой залога лица, но добровольным подчинением одного лица другому, более сильному, с целью снискания защиты, покровительства господина. Закладень и закладчик был не заложенным человеком, закупом или кабальным холопом; он был клиентом господина-патрона»{1635}. Важно иметь в виду, что между господином-патроном (в нашем случае монастырем) и закладчиком устанавливались такого рода отношения, которые позволяли последнему ближе познакомиться с монастырской жизнью и оценить ее привлекательные стороны. Наверное, кое-кто из закладчиков уходил потом в монахи, а кто-то через своих родственников, оставшихся на посаде, содействовал связям посадских людей с тем или иным монастырем. Следовательно, закладничество являлось, помимо прочего, фактором определенного влияния монастырей на посадские миры, линией связи посадского люда с духовными корпорациями, причем связи многосторонней: экономической, политической, культурной и религиозной. Мы полагаем, что именно против этих связей русских монастырей с посадскими людьми и монастырского влияния на посадские миры была направлена статья 91 Судебника 1550 года, подготовленного правительством Избранной Рады, хотя внешне все выглядело так, будто власть намеревается осуществлять политику ограничения закладничества ради укрепления позиций посада. Избранная Рада, как нам представляется, старалась не столько укрепить позиции посада (подобное укрепление безусловно имело место), сколько усилить свои позиции среди посадского населения. Перед нами политическая борьба за влияние на горожан, особенно жителей Москвы и других, расположенных поблизости, крупнейших городов Русии. Этот своеобразный интерес Избранной Рады к посадскому люду объясняется, по всей видимости, возможностью его использования в политических целях. Пример тому — спровоцированные противниками русского «самодержавства» июньские 1547 года события в Москве, которые покончили с правлением Глинских и едва не оказались роковыми для Ивана IV и, следовательно, самодержавия, а вместе с ним и православной церкви. Избранная Рада, таким образом, могла рассматривать население посадов как свою политическую опору в борьбе с самодержавной властью царя Ивана. Однако не только с нею, но и с православной церковью. Опять и опять нужно вспомнить религиозную ситуацию, возникшую в середине XVI века. То было время нового оживления ереси в России. И надо сказать, что восприимчивость к ней нередко демонстрировали как раз жители городов, т. е. представители посадских общин. Руководители Избранной Рады, в частности Сильвестр, благосклонно относились к еретикам, усматривая в них своих политических союзников. Вот почему, помимо прочего, они проявляли особый интерес к посадам, где часть людей, напоминавших бюргерство Западной Европы, расположена была (как и на Западе) к ересям. Поэтому ограничение влияния монастырей на жизнь посадов, изоляция их от православных духовных корпораций составляли для Сильвестра и К° одну из важнейших задач. Если оценивать в целом политику Избранной Рады относительно монастырей, отраженную частично в статье 91 Судебника, то надо согласиться с А. Г. Поляком, который писал: «Запрещение Судебника жить посадским людям в монастырях препятствовало закладническим тенденциям церковных феодалов и являлось законодательным отражением борьбы, которую вело правительство с церковью»{1636}. Речь только следует вести о специфическом правительстве во главе с Сильвестром и Адашевым. * * *Положения статьи 91 Судебника 1550 года, по мнению А. А. Зимина, подверглись конкретизации 15 сентября 1550 года, когда «правительство обсуждало с митрополитом Макарием вопрос о церковно-монастырских слободах»{1637}. Сам факт совещания по этому вопросу, состоявшегося после записи статьи 91 Судебника, запрещающей торговым городским людям «жити» в монастырских дворах, свидетельствует о напряженной борьбе, развернувшейся вокруг статуса церковно-монастырских слобод в городах и, в конечном счете, — вообще вокруг земельных прав монастырей. Сентябрьское совещание являлось частным эпизодом общей ситуации, сложившейся к 1550 году и состоявшей, как верно заметил А. А. Зимин, в том, что «правительство Адашева и Сильвестра, используя поддержку близких к ним нестяжателей, рассматривало вопрос о ликвидации церковно-монастырского землевладения. Однако иосифлянскому большинству русской церкви удалось воспрепятствовать осуществлению секуляризационных планов русского правительства»{1638}. Тут у А. А. Зимина все правильно, за исключением словосочетания русское правительство. Более удачно, на наш взгляд, выражение правительство Адашева — Сильвестра, проводившее во многих фундаментальных вопросах государственной жизни, касающихся, прежде всего, русского самодержавия, апостольской церкви и православной веры, антирусскую, прозападную политику. Совещание 15 сентября 1550 года — пример подобного воспрепятствования осуществлению секуляризационных планов правительства Сильвестра — Адашева. По его итогам был составлен «приговор» о монастырских слободах{1639}, утвержденный впоследствии Стоглавым собором и дошедший до нас в главе 98 Стоглава{1640}. «Приговор» гласит: «Лета 7059 сентября в 15 день говорил с государем царем и великим князем преосвященный митрополит Макарий московский и всеа Русии: приговорил еси государь, преже сего с нами с своми богомолцы, и со архиепископы, и епископы о наших митрополичьих слободах, и о архиепископльих, и епископльих, и о монастырских, что слободам всем новым тянути с городскими людьми всякое тягло и с судом; и мы ныне тот приговор помним: в новых слободах ведает Бог да ты, опричь суда; а ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том тем слобожанам нашим запустети; а преже того твои государевы наместники и властели наших слобожан не суживали; а ты бы, государь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан судити не велел. А ныне твой царский приговор с нами: что в те новые слободы вышли посацкие люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад, и о том ведает Бог да ты, государь, как тебе Бог известит; а впредь бы митрополиту, и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судити о всяких делех по прежним грамотам; а новых бы слобод не ставити и дворов новых в старых слободах не прибавливати, разве от отца детем, или от тестя зять, или от брата братия отделяются и ставят свои дворы; а в которых старых слободах дворы опустеют, и в те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по старине, как преже сего было, а отказывати тех людей на срок о Юрьеве дни осеннем по государеву указу по старине же; а с посаду впредь градских людей в слободы не называти и не приимати, разве казаков нетяглых людей; а которые християне митрополичьи или архиепископльи и епископльи похотят из слобод идти на посад или в села жити, и тем людем ити вольно на тот же срок»{1641}. Рассматривая данный «приговор» и называя его уложением (положением) о слободах{1642}, П. П. Смирнов обращает внимание на следующие его установления: «1. Новых слобод не ставить. Возникшие новые слободы лишить всяких привилегий по суду и налогам и включить в тягло: «слободам всем новым тянут з градскими людми во всякое тягло и з судом». Вышедших в них после писцов посадских людей вернуть в город на посад. 2. В старых слободах дворов не прибавлять. Новые дворы можно ставить только в случаях семейных разделов среди слобожан, «а опричным прихожим людем градским в тех старых слободах дворов не ставити». 3. Только в запустевшие дворы разрешается называть «по старине» пашенных и непашенных людей, но исключительно из волостей и сел, а не городских людей. Из городов допускается прием в пустые места лишь казаков, т. е. работных наемных бестяшых людей, но не посадских тяглых людей. 4. «Отказывать» таких приходцев можно только в Юрьев день осенний. Также и своих слободчан владельцы слобод обязаны выпускать в Юрьев день как в посад, так и в села»{1643}. По П. П. Смирнову, «эти решения царь Иван Васильевич не напрасно мотивировал законами своего деда и отца: принципиально нового в них не было ничего»{1644}. В последний тезис П. П. Смирнова следует внести ясность и подчеркнуть: эти решения не содержали ничего принципиально нового не потому, что находились в главном русле политики предшественников Ивана IV, а потому, что имели прецеденты, обусловленные влиянием на верховную власть еретических группировок Федора Курицына и Вассиана Патрикеева. И в этом отношении в середине XVI века имело место возвращение к тому, что мы наблюдали в княжения деда и отца Ивана Грозного: хозяйничанье во власти фаворитов, проводивших чуждую национальным интересам Русии политику. Уложение о слободах, согласно П. П. Смирнову, отразило стремление царя Ивана Васильевича и правительство Избранной Рады ликвидировать новые слободы церковных учреждений, «а равно удержать старые владельческие слободы в прежних размерах и роли XIV–XV вв., уничтожая в их лице конкурентов посадскому населению государевых городов»{1645}. И.И.Смирнов, в отличие от П.П.Смирнова, резюмировал содержание «приговора» о слободах «в виде пяти пунктов: 1. Посадские люди, вышедшие в новые слободы «после описи», должны быть выведены обратно «в город на посад» с оговоркой, что в каждом отдельном случае вопрос о выводе решается по усмотрению государя. 2. В отношении старых слобод церковные и монастырские власти сохраняли прежние права «о суде и о всяких делех, по прежним грамотам». 3. Запрещалось ставить новые слободы и новые дворы в старых слободах (в отношении «опричных прихожих людей», городских и сельских, запрет носил абсолютный характер; старым слобожанам разрешалось «выставливатися и своими дворами жити» в случае семейных разделов: «от отца детем или от тестя зятии или от братии братии»). 4. Владельцы слобод сохраняли право «называть» в запустевшие дворы в старых слободах «сельских людей пашенных и непашенных»; посадских же людей (кроме нетяглых «казаков») запрещалось как «называть» самим, так и принимать пришедших добровольно. 5. За населением же церковных и монастырских слобод, напротив, сохранялось право выхода как «в город на посады», так и «села», с соблюдением правил Судебника о крестьянском отказе»{1646}. «Приговор» о слободах, по словам И. И. Смирнова, «не разрешил вопроса во всем его объеме. Линия правительства Ивана IV на ликвидацию привилегированных слобод и на слияние их с тяглыми посадами <…> встретила упорное сопротивление со стороны церкви. Правительство Ивана IV оказалось не в силах преодолеть это сопротивление и вынуждено было пойти на компромисс, уступив в ряде пунктов требованиям церковных и монастырских властей. Наиболее крупной уступкой церкви со стороны правительства Ивана IV было оставление за церковью в неприкосновенности ее иммунитетных привилегий в отношении старых слобод. Уступив церкви в этом основном вопросе, отказавшись от мысли ликвидировать привилегированные слободы, правительство Ивана IV, тем не менее, существенно ограничило сферу действия церковных и монастырских иммунитетов запрещением устройства новых слобод и новых дворов в старых слободах. А также выводом тех посадских людей, которые поселились в новых слободах после «описи», обратно на посад. Другим направлением, по которому шло ограничение церковных и монастырских привилегий, был запрет перезывать или принимать на запущенные дворы в старых слободах пришлых посадских людей. Запрещая, таким образом, закладничество посадских людей за церковь и монастыри, правительство Ивана IV одновременно стимулировало обратный процесс — выход закладчиков из церковных и монастырских слобод, как в посад, так и в села»{1647}. Б. А. Романов рассматривает «приговор» 15 сентября 1550 года в качестве представления о слободах, сделанного в тот день митрополитом Макарием царю Ивану{1648}. Указав на то, что И. И. Смирнов резюмирует «текст закона о слободах» в 5 пунктах, а П. П. Смирнов — в 4-х (несмотря на количественное различие тожественных друг другу), Б. А. Романов предлагает выделить «следующие пять моментов: 1) изложение Макарием прежнего приговора о новых слободах, который он, митрополит, «помнил», 2) жалоба его на расширительное толкование наместниками этого приговора (отразившегося в ст. 43 Судебника) в смысле распространения его на старые слободы <…>, 3) пожелание-просьба к царю прекратить это самоуправство («и ты бы государь своим наместником впред… не велел судити»), 4) изложение приговора, текст которого был в руках митрополита («с нами») и не подлежал ни перетолковыванию, ни оспариванию: «что в те новые слободы вышли посадские люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад», и тут же выражение готовности против приговора не возражать: «и о том ведает бог да ты, государь, как тебе о них бог известит», и 5) изложение в виде пожелания-просьбы, проекта указа о слободах старых и новых <…>»{1649}. Обращался к содержанию сентябрьского «приговора» и А. А. Зимин. «Согласно «приговору» 15 сентября 1550 г., духовным феодалам запрещалось основывать новые слободы, хотя старые за ними сохранялись. В церковно-монастырских слободах запрещалось ставить новые дворы (за исключением случаев семейного раздела) <…>. Из новых слобод на посад выводились бежавшие туда посадские люди-закладчики. Запрещался впредь прием в эти слободы городских людей-новоприходцев (кроме казаков). В запустевшие слободы разрешалось сзывать людей, но из сельских местностей (за неделю до и после Юрьева дня), а не с посада. В те же сроки разрешался выход слободским людям духовных беломестцев на посад или в деревню. В целом же «приговор» 15 сентября 1550 г. носил компромиссный характер, ибо сохранял за духовными феодалами старые слободы и предоставлял им даже некоторые возможности для пополнения их населения со стороны»{1650}. Довольно обстоятельный, можно сказать, детальный обзор положений «приговора» 15 сентября 1550 года произвел Н.Е.Носов: «1). «Что в те новые слободы вышли посацкие люди после писца, и тех бы людей из новых слобод опять вывести в город на посад, и о том ведает Бог да ты государь, как тебе о них Бог известит». Итак, предполагалось, чтобы критерием для определения факта — является ли слобода новой или старой — было последнее государево письмо безотносительно времени, когда оно было произведено. Слободы, попавшие в него, считаются «старыми», не попавшие — «новыми». Критерий же давности, таким образом, терял силу, а главное, все церковные приобретения времени царского малолетства (после Василия III), попавшие в письмо, считались уже не подлежащими действию нового закона. Но тогда получается, что большинство церковных городских приобретений времени боярского правления не попадало под действие нового закона, поскольку последние наиболее широкие поуездные переписи были проведены правительством в середине 40-х годов XVI в., когда уже имело место явное ограничение боярского произвола. В то же время правительство 50-х годов <…> добивалось как раз обратного — ограничения льгот белых слобод, полученных церквами именно «при боярах». Значит, и тут предложения церковных иерархов отнюдь не совпадали с намерениями правительства. И Макарий это прекрасно понимал. Не случайно же он ставил принятие нового приговора в зависимость от царской совести: «о том ведает Бог да ты государь, как тебе о них Бог известит» (ясен и подтекст: пусть царь еще раз взвесит, достойно ли утеснять церковь, ведь ликвидация белых слобод — дело Богу неугодное, и ответственность за это небогоугодное деяние лежит на самом царе). 2) «А впредь бы митрополиту и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судьи о всяких делех по прежнем грамотам». Тут уже все в пользу церкви — полное сохранение старых слобод и старых тарханов. 3) «А новых бы слобод не ставити и дворов новых в старых слободах не прибавляти, разве от отца детем, или от тестя зять, или от брата братия отделяются и ставят свои дворы». Но это на будущее — запрет создания новых слобод. Конечно, церковных иерархов это вряд ли радовало, но зато не влекло ни к каким ограничениям уже имеющихся городских льгот. 4) «А в которых старых слободах дворы опустеют, и в те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по старине, как преж сего бывало, а отказывати тех людей на срок о Юрьеве дни осеннем по государеву указу по старине же». Опять рекомендация отнюдь не ограничительного свойства в отношении «старых слобод» — обеспечение их законного людского «воспроизводства». 5) «А с посаду впредь градских людей в слободы не называть и не принимати, разве казаков нетяглых людей. А которые християне митрополичьи или архипископльи и епископльи похотят из слобод итти на посад или в села жити, и тем людем ити вольно на тот же срок». Постановления, явно направленные в защиту интересов черных посадских людей, поскольку, с одной стороны, оберегали черные миры от «переманивания» посажан в белые слободы. А с другой — открывали даже «старым» беломестцам широкие и «законные» возможности выхода из феодальной зависимости от церкви на посад. Значит, именно в данном вопросе требования посадских людей были настолько решительными, что не считаться с ними было уже невозможно»{1651}. Свою задачу мы видим не в том, чтобы вслед за упомянутыми исследователями «разложить» сентябрьский 1550 года «приговор» на содержательные составляющие элементы. Это сделано ими достаточно хорошо и основательно. Для нас сейчас важнее оценить «приговор» со стороны религиозно-политической борьбы, развернувшейся в верхах русского общества середины XVI века. И здесь весьма существенным является тот факт, что «приговор» о слободах состоялся в обстановке подготовительных мер к секуляризации церковно-монастырского землевладения, предпринимаемых правительством Сильвестра — Адашева{1652}, что этот приговор вырабатывался на фоне «того радикализма в отношении ограничения церковных имуществ, который столь явственно дает о себе знать во всей правительственной политике после 1549 г. и особенно в канун Стоглавого собора»{1653}. Не менее значимо и то обстоятельство, что встреча и разговор митрополита с царем о слободах имели место уже после включения в Судебник 1550 года статей о церковно-монастырских слободах, к чему привлек внимание Н. Е. Носов{1654}. Им же высказана догадка, согласно которой встреча и беседа Макария с Иваном, завершившаяся принятием «приговора» о монастырских слободах, состоялась по ходатайству первосвятителя{1655}. Не от хорошей, разумеется, жизни митрополит Макарий просил государя об аудиенции. Русская православная церковь переживала тогда тревожные дни в один из наиболее опасных и критических моментов в своей истории. Государственная власть, оказавшаяся в руках противников Святой Руси, наносила церкви удар за ударом. Их отзвуки слышны и в сентябрьском «приговоре» («а ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том тем слобожанам нашим запустети; а преже того твои государевы наместники и властели наших слобожан не суживали»). О чем тут речь? По-видимому, как только вопрос о слободах вошел в Судебник 1550 года, наместники и волостели, исполняя указание центрального правительства, руководимого Сильвестром и Адашевым, начали судить церковно-монастырских слобожан, не дожидаясь окончательного утверждения закона, почему митрополит Макарий и обратился к царю Ивану{1656}. Но главная причина обращения Макария к Ивану IV заключалась в самом государе, его личном отношении к православной церкви. Секуляризационную политику середины XVI века в России некоторые историки всецело связывают непосредственно с Иваном IV, в крайнем случае — с правительством Ивана IV, выводя на авансцену этой политики царя и делая его чуть ли не вдохновителем ее. Под их пером царь Иван выглядит как «самостоятельная политическая сила», как «активный политический деятель», знающий, чего он добивается, и выступающий в «ряде острых вопросов против интересов церкви»{1657}. Это — спорная, если не ошибочная точка зрения. Прав был Н. Е. Носов, когда говорил: «Царь вряд ли уж был так последователен в своих взглядах на церковь, к которой он всегда имел особое пристрастие»{1658}. Возражая А. А. Зимину, писавшему о провале «царской программы реформ», предусматривающей секуляризацию церковных земель{1659}, Н. Е. Носов замечал: «Правильно ли так уж подчеркивать, что это была именно «царская» программа, ведь отношение самого царя к вопросу о секуляризации далеко не так уже ясно»{1660}. Эти ремарки Н. Е. Носова тем более оправданны, что сам А. А. Зимин в другой части своей книги писал: «Сильвестр оказывал большое влияние на всю правительственную деятельность конца 40-х — начала 50-х годов XVI в. и явился инициатором секуляризационных проектов…»{1661}. Есть основания полагать, что «программа секуляризации церковных земель» была навязана Ивану IV Сильвестром и Адашевым «с товарищи», т. е. Избранной Радой. Царя, впрочем, нетрудно было в данном случае уговорить, поскольку предшествующий период боярского правления надолго оставил в нем тяжелые воспоминания. А ведь именно в данный период щедро раздавались монастырям податные и судебные льготы{1662}. Спекулируя на этих воспоминаниях, партия Сильвестра — Адашева добивалась своих целей в борьбе с церковно-монастырским землевладением. Однако необходимо подчеркнуть, что при всем том Иван Грозный всегда являлся верным сыном православной церкви, что митрополиту Макарию, конечно же, было хорошо известно. Поэтому он и обратился к царю с жалобой на утеснение церкви представителями светской власти, ободряемыми правительством Избранной Рады. Результатом встречи с государем митрополит мог быть доволен. Иван IV подтвердил права духовенства на старые слободы («а впредь бы митрополиту, и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свои старые слободы по старине, а судити о всяких делех по прежним грамотам»). «Полное сохранение старых слобод и тарханов» — так резюмировал, насколько мы знаем, данное решение Н. Е. Носов{1663}. «Оставление за церковью в неприкосновенности ее иммунитетных привилегий в отношении старых слобод», — говорил, как известно, по тому же поводу И. И. Смирнов{1664}. Иван, стало быть, в своем благожелательном отношении к царским богомольцам (митрополиту, архиепископам, епископам и монастырям) зашел настолько далеко, что пренебрег собственным Судебником, в частности статьей 43, предписывающей «старые тарханные грамоты поимати у всех». Думается, здесь заключено, помимо прочего, свидетельство о том, что к составлению статьи 43 Иван IV был не причастен, что это дело рук Сильвестра и его друзей{1665}. Распоряжением царя Ивана насчет новых слобод митрополит Макарий был, по-видимому, также удовлетворен, поскольку, согласно этому распоряжению, к новым относились лишь те слободы, куда «вышли посацкие после писца», т. е. после переписи середины 40-х годов XVI века{1666}. Стало быть, белые слободы, которыми обзавелось духовенство, можно сказать, совсем недавно, в годы боярского правления, переводились в соответствии с «приговором» в разряд старых, находящихся в собственности «по старине» с правом суда «о всяких делех по прежним грамотам». Это полностью противоречило усилиям правительства Избранной Рады, добивавшегося «как раз обратного — ограничения льгот белых слобод, полученных церквами именно «при боярах»{1667}. В этой связи Н. Е. Носов заключает: «Значит, и тут предложения церковных иерархов отнюдь не совпадали с намерениями правительства»{1668}. Следовало бы, на наш взгляд, сказать, что и тут царь защитил своих богомольцев, разойдясь с установками Сильвестра и Адашева, настроенных явно не в пользу русской православной церкви. Ограничения, касающиесяновых слобод, не затрагивали основ церковного здания и потому с легким сердцем могли быть приняты митрополитом Макарием и другими иерархами русской церкви, прекрасно осознававшими финансовые нужды государства, начавшего войну с давним врагом — Казанским ханством. Но и в вопросе о новых слободах Иван IV сделал серьезное послабление духовенству, состоявшее в том, что в них всем ведал государь, «опричь суда». Правда, формула «опричь суда» вызывает у исследователей разное видение проблемы. М. А. Дьяконов, к примеру, полагал, что эта формула была составлена на Стоглавом соборе, который «вспомнил недавний приговор 1550 года 15 сентября и внес его в Стоглав с некоторыми изменениями. По старому приговору было поставлено, «что слободам всем новым тянути з градскими людьми во всякое тягло и з судом». Собор постановил: «и мы ныне тот приговор помним, — в новых слободах ведает бог да ты, государь, опричь суда»{1669}. И. И. Смирнов не согласился с М. А. Дьяконовым в истолковании формулы опричь суда: «С таким толкованием формулы «в новых слободах ведает Бог да ты, государь, опричь суда» согласиться нельзя. Формула эта никак не может быть признана за новый приговор»{1670}. И. И. Смирнов предлагает перевести ее словами кроме наместничьего суда{1671}. В результате «исследуемый текст принимает следующий вид: новыми слободами ведает бог да государь, кроме наместничьего суда»{1672}. Затем историк спрашивает: «В чем смысл этой формулы?» И отвечает: «Я полагаю, что смысл ее заключается в утверждении, что, за исключением вопросов суда (подлежащих ведению наместников), никто, кроме государя, не имеет права вмешиваться в дела новых слобод. Иными словами, я считаю., что в словах «в новых слободах ведает бог да ты, государь, опричь суда» следует видеть формулу, определяющую характер и объем иммунитетных привилегий новых церковных и монастырских слобод»{1673}. Наблюдения И. И. Смирнова показались А. А. Зимину неосновательными. Он писал: «И. И. Смирнов слова «опричь суда» трактует как указание на наместничий суд, который он почему-то противопоставляет подведомственности слобод царю. Скорее всего речь шла о сохранении подсудности церковных людей митрополиту <…>»{1674}. Формула сентябрьского «приговора» 1550 года опричь суда навела Н. Е. Носова на мысль о существовании «двух приговоров о новых слободах — первого, отменяющего все их тарханные и судебные привилегии, и второго, отменяющего лишь тарханные привилегии. Иначе говоря, первый («прежний») царский приговор о ликвидации тяглых и судебных привилегий новых церковных городских слобод к сентябрю 1550 г. имел силу (и то по усмотрению царя) лишь в отношении тягла, а в отношении же суда он якобы уже был изменен (и именно об этом митрополит и напоминал царю) — теперь слобожане снова, как и в старину, подсудны лишь церковным властям»{1675}. Для нас не столь важно, был ли один «приговор» о церковно-монастырских слободах или два. Нам представляется более существенным, что Иван IV внял просьбе митрополита и, вопреки наставлениям своих советников из круга реформаторов, вооружившихся, как он потом скажет, на церковь, и даже вопреки закону (ст. 43 Судебника 1550 г.), восстановил в значительной мере иммунитетные права церкви и монастырей на городские слободы, включая определенную подсудность новослободчиков церковным властям. Вот почему мысль о компромиссном характере «приговора» 15 сентября 1550 года, развиваемая некоторыми историками{1676}, является, по нашему мнению, весьма условной и не вполне соответствующей реальному ходу событий. Царю Ивану не было никакой надобности идти на компромисс с митрополитом Макарием, поскольку государь всегда сохранял верность православной церкви. И уж если говорить о компромиссе, то по отношению к Ивану и его советникам, начавшим атаку на апостольскую церковь. Но и здесь Иван Васильевич поступил так, как это едва ли могло понравиться Сильвестру и другим деятелям Избранной Рады, оставив им в «утешение» запрет на учреждение новых церковно-монастырских слобод, а в остальном восстановив отнятые было реформаторами права церкви и монастырей на городские слободы и население этих слобод. Сильвестр, Адашев и другие их «приятели» готовились к решающей схватке с митрополитом и его сторонниками на Стоглавом соборе{1677}. * * *Однако, судя по всему, они переоценили свои силы и упустили время, пребывая в некоторой самоуверенности насчет исхода борьбы. И для них, похоже, была неожиданной неколебимая стойкость митрополита Макария и других высших иерархов, решительно отвергающих планы изъятия церковного имущества. Но особенно ошеломляющее впечатление на временщиков, по-видимому, произвела уступчивость по отношению к митрополиту, проявленная царем Иваном, который, как им казалось, должен был поступать согласно предписаниям Избранной Рады и ее вождей Сильвестра с Адашевым. Случилось, однако, нечто иное: появились признаки восстановления былого согласия митрополита и царя. Вот почему правительство Избранной Рады пытается в спешном порядке укрепить «свои позиции среди высших церковных иерархов. В конце 1550-го — начале 1551 года епископом Рязанским был назначен архимандрит новгородского Юрьева монастыря Кассиан, откровенный противник иосифлян. Во время Стоглава в Москву вызывается игумен Соловецкого монастыря Филипп, принадлежавший к известной боярской фамилии Колычевых. В 1537 г. в связи с делом князя Старицкого были казнены троюродные братья Федора (Филиппа), а сам он был пострижен в монахи. Колычевы принадлежали к оппозиционному боярству. Характерна близость Филиппа к заволжским старцам и Сильвестру, который, как и семейство Колычевых, поддерживал старицких князей»{1678}. Кроме того, в самый канун открытия Стоглавого собора игуменом крупнейшего Троице-Сергиева монастыря назначается старец Артемий{1679} — известный нестяжатель и еретик, зарекомендовавший себя ярым противником монастырского землевладения{1680}. Это назначение состоялось, как полагает А. А. Зимин, при активном участии попа Сильвестра{1681}. По словам ученого, «подготовляя созыв Стоглавого собора, Сильвестр и другие сторонники нестяжательства стремились назначить Артемия как своего единомышленника на важный церковный пост троицкого игумена»{1682}. Надо сказать, что Н. А. Казакова несколько иначе расставляет акценты, приписывая инициативу назначения заволжского старца на столь ответственный пост всецело Ивану IV: «Из Порфирьевой пустыни в 1551 г. по повелению царя Артемий был вызван в Москву и поставлен в игумены Троице-Сергиева монастыря. Перемена в судьбе Артемия была связана с намерением Ивана IV поставить на Стоглавом соборе вопрос о секуляризации монастырских земель: готовясь к проведению этой важной меры, царь нуждался в единомышленниках»{1683}. Полагаем, что роль царя Ивана здесь была в значительной мере формальной: хотя Артемий и стал игуменом Троице-Сергиева монастыря «по государеву велению»{1684}, но с подачи попа Сильвестра{1685} и, конечно же, под его влиянием{1686}. Артемий потянул за собой своих единомышленников: «В свою очередь Артемий добивается назначения одного из видных заволжских старцев — Феодорита архимандритом суздальского Ефимьева монастыря»{1687}. Большие надежды реформаторы возлагали на авторитетное слово Максима Грека, переведенного в Троице-Сергиев монастырь по ходатайству новоиспеченного игумена Артемия{1688}, за которым, безусловно, стоял все тот же Сильвестр. Все названные лица (за исключением Максима Грека) так или иначе участвовали в работе Стоглавого собора. Несмотря на эти меры, противникам митрополита Макария не удалось создать среди духовенства, присутствующего на соборе, сколько-нибудь серьезную группу поддержки секуляризационного проекта. Показательно, что в составе святителей (архиепископов и епископов), которые на соборных заседаниях имели решающий голос{1689}, идеи нестяжателей разделял, по наблюдению А. А. Зимина, лишь один рязанский епископ Кассиан{1690}. Понятно, отчего в исторической литературе не раз высказывалось мнение об «иосифлянском большинстве» на Стоглавом соборе{1691}. Это верно, но, пожалуй, отчасти. И поэтому Н. Е. Носов имел основание усомниться в мысли о «полном засилии иосифлян на соборе»{1692}. Однако эти историографические контроверзы нуждаются в пояснении. Дело в том, что каждая из них, на наш взгляд, частично воспроизводит реальную картину, запечатлевшую состав участников Стоглавого собора. Как явствует из обращения царя к собравшимся в Кремле, на Соборе присутствовали не только представители духовенства (в том числе, возможно, белого{1693}), но и миряне: «И вы, господне, святии святителие, пресвященнейший отець мой Макарий, митрополит всея Русии, и все архиепископы, и епископы, и преподобный архимандриты, и честный игумени, и весь освященный събор, и иноцы, и прочии вси Божии молебници, тако же и братиа моя, и вси любимии мои князи и боляре, и воини, и все православное христианьство…»{1694}. О присутствии мирян на Стоглавом соборе историки говорят сравнительно давно{1695}, хотя роль им при этом отводят разную: одни — пассивную, другие — активную. По мнению Л. В. Черепнина, «наряду с царем и духовными иерархами на соборе присутствовала Боярская дума. Юридически это было совещание церковное; очевидно, духовенству принадлежало и решение разбиравшихся там дел; фактически же то или иное соборное постановление подсказывалось реальным соотношением сил представителей господствующего класса, встретившихся на соборе»{1696}. И надо заметить, что это соотношение сил было не в пользу реформаторов{1697}. У них, по-видимому, имелось немало сторонников среди светских лиц, принимавших участие в обсуждении вопросов, вынесенных на соборное рассмотрение{1698}. Некоторая, причем весьма незначительная, часть духовенства шла в фарватере их секуляризационной политики. Отсюда Н. Е. Носов мог заключить об отсутствии полного засилья иосифлян на соборе. Но среди тех же мирских людей, участвовавших в соборной деятельности, особенно среди духовенства и, прежде всего, высшего, подавляющее число оставалось за приверженцами традиционного уклада церковной жизни, что позволило исследователям говорить об «иосифлянском большинстве» на Стоглавом соборе. Следовательно, обе точки зрения допустимы, поскольку каждая из них по-своему права. Ну, а что Иван IV? Какова его роль на Стоглавом соборе? С. Б. Веселовский, касаясь данного сюжета, замечал: «Обе стороны, т. е. нестяжатели и иосифляне, стремились в борьбе использовать авторитет царской власти и вовлекали в свою борьбу молодого царя, облекая свои решения в форму «царских вопросов и ответов»{1699}. Еще более безвольным выглядит царь Иван под пером И. Н. Жданова, согласно которому государь «во всяком деле полусознательно и полуохотно должен был подчиняться влиянию других»{1700}. И уже вовсе опереточный образ Ивана встает перед взором В. В. Шапошника: «Иван, как маятник, качался из одной стороны в другую — то поддерживал церковное руководство, то Адашева»{1701}. На Стоглавом соборе «царь выступал лишь рупором сторон, озвучивал поступавшие к нему предложения»{1702}. Несмотря на молодость, царь не был столь безынициативен и безволен, как его изображают названные историки. Он был глубоко верующим православным христианином, преданным всей душою русской церкви, и с этой позиции государь не сходил до конца своих дней. К церковно-монастырскому землевладению Иван относился более чем терпимо, можно сказать, благосклонно. Его в данном случае никоим образом нельзя объединять с Избранной Радой и ее «начальниками» Сильвестром и Адашевым. Мы видели, как легко митрополит Макарий и царь Иван нашли общий язык относительно церковно-монастырских слобод. На Стоглавом соборе наблюдалось нечто схожее. Иван не дал реформаторам увлечь себя, выступив в качестве арбитра, стоявшего над противоборством сторон. Здесь, кажется, партия Сильвестра — Адашева сильно просчиталась, полагая, что самодержец будет послушным орудием в ее руках. Этого, однако, не произошло. В речах Ивана IV на соборе прямых выводов о необходимости секуляризации мы не найдем{1703}. Такая уклончивая и потому исполненная скрытого смысла позиция царя Ивана не могла не вдохновлять иосифлян. Следовательно, «иосифлянское большинство» обеспечило хотя и не полную, но все ж таки победу церкви в спорах о церковно-монастырском землевладении на Стоглавом соборе, тогда как предопределило эту победу поведение царя, хотя и произносившего на нем немало слов, но занявшего в данном вопросе неопределенную, как бы отстраненную позицию, стимулировавшую и в известном смысле поощрявшую активность противников секуляризации, которые, воодушевившись, реализовали свое большинство. Судя по всему, борьба в преддверии Стоглавого собора и на самом Соборе приобрела весьма острый характер. Сторонники ликвидации церковно-монастырского землевладения цеплялись за любую возможность, чтобы провести свое соборное решение. Они пытались мобилизовать даже тех сторонников, которые не принимали непосредственного участия в работе Собора. А. А. Зимин пишет: «После окончания основной части работ Стоглава Иван Грозный предпринимает еще одну попытку добиться изменения принятых решений в духе его программы. По его настоянию решения Стоглава были посланы в Троице-Сергиев монастырь трем сведенным с престола «святителям» — бывшему митрополиту Иоасафу, бывшему ростовскому архиепископу Алексею и бывшему Троицкому игумену Ионе Шелепину, которые должны были высказать свое мнение о соборных постановлениях»{1704}. Мы не стали бы утверждать, что секуляризация входила в программу Ивана Грозного. Она являлась частью программы Избранной Рады, против которой Грозный по ряду политических причин и обстоятельств середины XVI века не мог пока открыто выступить{1705}. Не все просто и со временем отправки соборных материалов на «экспертизу» «трем сведенным с престола «святителям». Надо сказать, что в этом вопросе А. А. Зимин шел вслед за Д. И. Стефановичем, который заседания Стоглавого собора приурочил к январю — февралю 1551 года (не исключая, впрочем, их продолжения вплоть до 11 мая), а поездку соборных посланцев в Троицу отнес ко времени «около 23 февраля», когда завершилась основная работа собора{1706}. Точка зрения Д. И. Стефановича показалась убедительной и Н. Е. Носову, который писал: «Собор 1551 года <…> проходил, как установил Д. Стефанович, в январе — феврале, завершив основную работу до 23 февраля, когда было начато составление самого соборного уложения, т. е. Стоглава. Примерно в это же время (около 23 февраля) решения Стоглава были направлены в Троице-Сергиев монастырь на просмотр бывшему митрополиту Иоасафу, ответ которого, адресованный, как полагает Д. Стефанович, видимо, непосредственно самому царю, был получен около 10 марта…»{1707}. Другой срок прибытия делегации собора в Троице-Сергиев монастырь, причем довольно неопределенный, называет Л. В. Черепнин: «До 11 мая текст «Соборного уложения» посылался еще на просмотр бывшему митрополиту Иоасафу в Троице-Сергиев монастырь»{1708}. Несколько иную картину, чем Д. И. Стефанович и его продолжатели, рисует Р. Г. Скрынников: «После собора Иван IV направил в Троице-Сергиев монастырь своего ближайшего советника попа Сильвестра. Реформаторы надеялись, что крупнейший русский монастырь станет их надежным союзником в деле преобразований. Формально Сильвестр ездил в Троицу к бывшему митрополиту Иоасафу с просьбой одобрить решения Стоглава»{1709}. Для датирования пересылки решений Стоглавого собора бывшему митрополиту Иоасафу, предложенного Д. И. Стефановичем, А. А. Зиминым и Н. Е. Носовым, есть, казалось бы, некоторое основание. В начале Стоглава говорится: «В лето 7059-е месяца февраля въ 23 день. Быша сии въпроси и ответы мнозии о различных церковных чинех въ царствующем граде Москве въ царскых полатах от благовернаго и боговенчаннаго царя и государя великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодръжца къ отцу его Макарию, митрополиту всея Русии, и ко всему священному собору въ осмоена-десять лето царьства его, в двадесять же первое лето от рожества его, при его отце Макарие, митрополите всея Русии, в десятое лето святительства его…»{1710}. Тем не менее хронологическая версия Д. И. Стефановича, А. А. Зимина и Н. Е. Носова (а тем более Л. В. Черепнина и Р. Г. Скрынникова) упирается в серьезное препятствие. Чтобы яснее это видеть, необходимо вспомнить рассказ Стоглава о доставке Иоасафу соборных решений и передаче им в Москву своего ответа. Из этого рассказа узнаем следующее: «По совету благочестиваго царя и митрополита, и архиепископов, и епископов царьское предисловие соборному совету и о всяких потребах вопроси, и противу царьского предложениа ответи святительский писанию преданы по правилом святых апостол и святых отец, и по прежним царьских и великих князей православных законов. И сиа вся писаниа царьских вопросов и святительских ответов посылано к живоначалной Троицы в Сергиев монастырь к бывшему Иасафу митрополиту и Ростовъскому архиепископу бывшему Алексею, и Чюдовскому бывшему архимандриту Васиану, и Троецькому бывшему игумену Ионе, и всем соборным старцем. Иасаф митрополит со всеми, выслушав царьское и святительское уложение, и всему тому соборному уложению согласуют вкупе, и о которых делех поразсудя, и писанием съгласуются съ царем и святители и приказывают съ Троецьким игуменом с Серапионом и с Осифовским соборным старцем з Герсимом с Ленкевым и з Благовещеньским попом с Селиверстром. И сии совет царю и государю и святителем и всему собору предан бысть…»{1711}. Как видим, к бывшему митрополиту Иоасафу вместе с попом Сильвестром и соборным старцем Герасимом Ленковым был направлен действующий игумен Троице-Сергиева монастыря Серапион. Но не кто иной, как сам Н. Е. Носов обратил внимание на документ, свидетельствующий о том, что еще в начале февраля 1551 года троицким игуменом был уже не Серапион, а старец Артемий, что явствует из царского подтверждения от 9 февраля 1551 года на жалованной грамоте Троице-Сергиеву монастырю от сентября 1550 года{1712}. Следовательно, Серапион не мог быть направлен к Иоасафу в должности игумена Троицкого монастыря, если речь идет о времени «около 23 февраля» 1551 года, поскольку в то время он уже не являлся главой Троицкой обители. Тем более это относится ко времени «около 10 марта» — предполагаемому Д. И. Стефановичем и другими исследователями моменту получения Иваном IV ответа Иоасафа, доставленного из Троицы в Москву все теми же Серапионом, Герасимом Ленковым и Сильвестром{1713}. Таким образом, вопрос о времени посещения посланцами Стоглавого собора бывшего митрополита остается пока открытым, во всяком случае далеко не однозначным. Однако сам факт этого посещения не подлежит сомнению. И тут важно уяснить, кем и с какой целью оно было организовано. А. А. Зимин, как мы знаем, полагал, что решения Стоглава были посланы в Троицкий монастырь бывшим святителям — митрополиту Иоасафу, ростовскому архиепископу Алексею и троицкому игумену Ионе Шелепину — по настоянию царя Ивана. «При этом, — замечает историк, — ответ Иоасафа передается собору с Сильвестром»{1714}. Однако чуть ниже он говорит: «Иосифлянам удалось также послать с Сильвестром своего видного представителя — старца Герасима Ленкова, который вместе с ним доставил собору ответ Иоасафа»{1715}. Несмотря, впрочем, на это замечание, Сильвестр здесь играет, так сказать, первую скрипку. Не то в другой книге А. А. Зимина, где, хотя и говорится о том, что «ответ Иоасафа передается собору с Сильвестром», вместе с тем сказано: «Иосифлянам удалось также послать с Сильвестром своего видного представителя — старца Герасима Ленкова. Они доставили собору ответ Иоасафа»{1716}. Тут Сильвестр и Герасим Ленков выступают как бы на равных. Однако в исследовании А. А. Зимина о реформах Ивана Грозного акценты снова меняются. Оказывается, ответ Иоасафа был передан Собору Сильвестром{1717}, а не с Сильвестром, как это изображено в других работах того же автора. Герасим же Ленков, который доставил с Сильвестром ответ Иоасафа собору, является теперь чем-то вроде «пристяжного». И уж, конечно, нельзя согласиться с Р. Г. Скрынниковым, когда он говорит о том, будто Иван IV направил в Троице-Сергиев монастырь одного лишь Сильвестра{1718}. Если следовать тексту источника, придется признать, что в нем говорится о факте посылки Стоглава в Троице-Сергиев монастырь безотносительно к царю Ивану или к кому-то другому, т. е. безлично, глухо: «И сия вся писания царьских и святительских ответов посылано к живоначалной Троицы в Сергиев монастырь…»{1719}. Эти «писания», как мы знаем, были оформлены по согласному решению царя и митрополита с остальными святителями: «По совету благочестиваго царя и митрополита, и архиепископов, и епископов царьское предисловие соборному совету и о всяких потребах вопроси, и противу царьского предложения ответи святительский писанию преданы по правилом святых апостол и святых отец, и по прежним царьских и великих князей православных законов»{1720}. Логично предположить, что и решение о направлении делегации к бывшему митрополиту Иоасафу в Троицу принималось «по совету» упомянутых лиц, или коллегиально, соборно. Не думаем, чтобы инициатива здесь исходила от государя. Скорее всего, она принадлежала одной из боровшихся на Соборе партий иосифлян и нестяжателей, а быть может, — обеим партиям одновременно. Возможно, на Соборе велись споры, кому ехать к бывшему митрополиту{1721}. В конце концов, сошлись на игумене Серапионе Курцеве, соборном старце Герасиме Ленкове и попе Сильвестре. Случаен ли данный подбор посланцев? По-видимому, не случаен. Он, надо полагать, соответствовал раскладу сил на соборе, где большинство имели иосифляне. Поэтому в число посланцев вошли, с одной стороны, двое иосифлян, приверженцев церковно-монастырской земельной собственности (Серапион Курцев и Герасим Ленков){1722}, а с другой — один ее противник (Сильвестр){1723}. Стало быть, Серапион, Герасим и Сильвестр были посланы в Троице-Сергиев монастырь не по настоянию отдельных лиц (царя Ивана или митрополита Макария), но по решению самодержца, всех духовных иерархов и, можно думать, от лица Собора. А. А. Зимин, характеризуя ситуацию с посланцами, говорит, что иосифлянам удалось «послать с Сильвестром своего видного представителя старца Герасима Ленкова»{1724}. Вернее, на наш взгляд, было бы сказать: нестяжателям удалось вместе с Серапионом Курцевым и Герасимом Ленковым послать своего представителя. Этим представителем стал «всемогий» тогда Сильвестр, что свидетельствует о важном значении, какое придавали поездке делегатов собора в Троицу благовещенский поп и его «нестяжательское окружение». В чем оно заключалось? Отнюдь не в желании со стороны царя и Собора соблюсти этикет, проявив знак любезности в отношении бывшего митрополита Иоасафа, как считал Д. И. Стефанович{1725}, а вслед за ним — В. В. Шапошник{1726}, и, конечно же, не в просьбе «одобрить решения Стоглава», обращенной к Иоасафу, как думал Р. Г. Скрынников{1727}. Более убедительной нам представляется точка зрения А. А. Зимина, который увидел здесь стремление повлиять на соборные решения. Жаль только, что исследователь односторонне смотрит на проблему, находя в поездке посланцев собора (прежде всего Сильвестра) в Троицу попытку изменения принятых решений в духе нестяжательской программы{1728}, и не учитывает противоположной цели, преследуемой Серапионом Курцевым и Герасимом Ленковым. У иосифлян ведь тоже была своя задача, состоявшая в том, чтобы вернуться в Москву с одобрением принятых на Соборе решений. И представители каждой из соперничавших партий надеялись на успех. Сильвестр, придерживающийся секуляризационных идей{1729}, возлагал надежды на Иоасафа, близкого, по мнению ряда исследователей, к нестяжателям{1730}. Аналогичные ожидания Сильвестр, очевидно, связывал с бывшим ростовским архиепископом Алексеем, дружески расположенным к Иоасафу{1731}. Что касается бывшего архимандрита Чудовского монастыря Вассиана Глазатого, получившего наряду с другими священнослужителями решения Стоглава, то сказать что-либо определенное о его воззрениях затруднительно{1732}. Несколько иначе обстоит дело с бывшим троицким игуменом Ионой Шелепиным. Он являлся, как полагают некоторые историки, противником Сильвестра, Артемия и Иоасафа, будучи соратником иосифлян{1733}. На его поддержку могли рассчитывать Серапион Курцев и Герасим Ленков. Но основная группа поддержки этих иосифлян, судя по всему, состояла из соборных старцев, находившихся в Троицком монастыре. Их также привлекли к обсуждению решений Стоглавого собора{1734}. Кстати сказать, рассмотрение решений и подготовка соответствующего ответа осуществлялись не в индивидуальном, а соборном порядке: «Иасаф митрополит со всеми ими [архиепископом Алексеем, игуменами Вассианом, Ионой и соборными старцами], выслушав царьское и святительское уложение, и всему тому соборному уложению согласуют вкупе, и о которых делех поразсудя, и писанием съгласуются съ царем и святители…»{1735}. Перед нами нечто вроде мини-собора, производящего экспертную оценку постановлений Стоглава. С учетом данного обстоятельства необходимо воспринимать и ответ, направленный в Москву от имени бывшего митрополита Иоасафа, т. е. индивидуально, но составленного на общем собрании в Троице, или коллективно. Содержание ответа не оставляет сомнений в том, что на данном собрании иосифляне если не возобладали, то, во всяком случае, блокировали включение в ответ Иоасафа таких положений, которые позволили бы внести соответствующие замыслам реформаторов-нестяжателей изменения в принятые Стоглавым собором решения, особенно в сфере церковного землевладения. Возможно, впрочем, и то, что сам Иоасаф, зная о перевесе иосифлян на Соборе, не стал из осторожности противоречить его решениям, сосредоточившись на второстепенных вопросах соборных обсуждений{1736}. Отстраненность ответа бывшего митрополита от наиболее острых проблем дискуссии на Стоглавом соборе обратила на себя внимание исследователей. Например, по словам Г. Н. Моисеевой, «близкий к «нестяжателям», живший «на покое» бывший митрополит Иоасаф, к которому благовещенский протопоп (?!) Сильвестр свез решения Стоглавого собора, ограничился небольшими замечаниями по вопросу о выкупе пленных на деньги митрополичьего двора (замечания эти также не были приняты). Основное внимание Иоасаф направил на высказывание «обиды» «нестяжателей» по поводу того, что в решениях Стоглавого собора было упомянуто имя только Иосифа Волоцкого…»{1737}. В целом это верно, но в отдельных деталях — не вполне. В ответе Иоасафа речь все же идет о некоторых церковных льготах, но в связи с «пустыми» церквами: «О пустых церквах. Пригоже, государь, лгота им дати, а отдати бы им пошлина десятиннича и заезд, и все мелкие пошлины митрополичи. А дань митрополича имати на попех, да тем церковь соружати. А збирали бы тот приход люди лутчие и сооружали тем церкви. А священники бы тех церквей жили о приходе да о церковной земле»{1738}. Некоторым, кажется, отступлением от заветов Нила Сорского прозвучало замечание Иоасафа о мелких пустынях, содержащееся в ответе: «Пригоже, государь, тебе велеть их сносити в ъдну пустыню, где пригоже, или в монастыри упокоити, как им мочно питатися»{1739}. Наиболее значительным, по нашему мнению, предложением святителя было то, что касалось выкупа пленных: «О искуплении пленных. Чтобы государь не с сох имати откуп, имати бы откуп из митрополичи и из архиепископли, и изо всех владычни казны, и с манастырей со всех, кто чего достоин, как, государь, ты пожалуешь, положишь, на ком что велишъ взяти. А крестианом, царь государь, и так твое много тягли в своих податех. Государь, покажи им милость, как тебе, государю, Бог положит на сердце»{1740}. Иоасаф знал, на каких душевных струнах царя надо играть, чтобы вызвать в нем сочувствие к своему предложению. Он вспомнил об отце государя, великом князе Василии III, при котором «имали с митрополита и с архиепископов, и со владык ис казны владыке Смоленьскому пошлину для его недостатков, и они, государь, о том не тужили, а полоняники, государь, нужнее того»{1741}. Здесь как бы в скрытом виде противопоставляются потребности рбщества и государства материальным интересам иерархов русской церкви, не желающих якобы поступиться частью церковных богатств ради общественных нужд. Перед нами своеобразное проявление нестяжательских настроений, присущих, как мы знаем, митрополиту Иоасафу. Стоглавый собор не согласился с этим предложением святителя, приняв решение о выкупе пленных «из царевы казны» с последующей раскладкой «на сохи по всей земли, чей кто ни буди — всем равно, занеже таковое искупление общая милостыня нарицается, и благочестиву царю и всем православным велика мъзда от Бога будет»{1742}. Зная, как вырабатывался ответ митрополита Иоасафа, можно полагать, что его предложение выкупа пленных за счет средств духовенства исходило если не от всех, то, по крайней мере, от большинства священнослужителей, обсуждавших решения Стоглава в стенах Троице-Сергиева монастыря. Следовательно, среди духовенства в целом не было единства по этому вопросу. Но возобладала все ж таки другая точка зрения, требующая посошного обложения для выкупа русских христиан, оказавшихся в плену. Обосновывалась она религиозно-этическими соображениями, обусловленными заветами Христа, поучениями пророков и праведных мужей: «…рече праведный Иенох: «Не пощадите злата и сребра брата ради, но искупуй его, да от Бога сторицею приимете». И пророком рече Бог: «Не пощади сребра человека ради». Христос же не токмо сребра, но и душу свою повелеваеть по братии положити. «Болши бо тоя рече любви никто же не имать, аще кто душу свою положить по братии своей». И того ради Христова слова благочестивым царем и всем православным христианом не токмо пленных окупати, но и душу свою за них полагати, да сторичныа мъзды въ он день сподобятся. Не лож бо рекий: «В нюже меру мерите, възмерится и вам»{1743}. Новейший историк, неверующий и невоцерковленный, может легко вообразить, что за этими доводами Собора скрыта банальная корысть, нежелание церкви поделиться своими богатствами и обратить их на общественные нужды. Но думать так — значит упрощать прошлое, подгоняя его под привычные для нас сегодня понятия и нравы. Было бы, по нашему мнению, намного плодотворнее толковать решение Стоглава о выкупе пленных с точки зрения религиозно-нравственной и общественно-воспитательной. Тогда в этом соборном решении наблюдателю откроется главное: забота русской церкви о морали своей паствы, воспитуемой в духе действенной любви к ближнему, приучаемой к чувству коллективизма, взаимопомощи и взаимной выручки, т. е. к тому, что запечатлела известная формула один за всех и все за одного. Данное решение способствовало сплочению русского народа перед лицом внешнего врага, укрепляло в нем решимость защищать Веру и Отечество, что было особенно важно в исторических условиях середины XVI века, характеризуемых войнами с ханствами Поволжья и надвигающейся Ливонской войной. Таковым нам представляется внутренний смысл решения Стоглавого собора о выкупе пленных. Предложение Иоасафа брать деньги на откуп полоняников из одной лишь церковной казны, уступало по общественной значимости решению Стоглава, поскольку превращало общенациональное дело в фискальную обязанность отдельного сословия. Сознавал ли это Иоасаф и те священнослужители, которые были с ним в совете, сказать трудно. Столь же трудно судить о том, понимал ли он, что ставит митрополита Макария и церковных иерархов в неловкое положение, заставляя их отклонить внешне привлекательное, но ошибочное и вредное по своей сути предложение. Если понимал, то не было ли в его поступке группового умысла, направленного против тогдашнего руководства русской православной церкви в угоду партии Сильвестра — Адашева. Все эти вопросы останутся, по-видимому, навсегда без ответа. Тем не менее они должны быть обозначены. Довольно прозрачно бывший митрополит намекнул на неполадки в церковном суде, существовавшие до Стоглавого собора и допущенные по недосмотру руководства церкви, — упрек, направленный своим острием в сторону митрополита Макария: «А суд уложен по правилом: архимандритом и игуменом, и всякого священническаго и иноческаго чину самем святителем судити, — и будеть по правилом суд. Ино то достойно и праведно. А только одному таков суд, а иному не таков, ино то не по Бозе. Яко же ныне слышим»{1744}. Еще один укол митрополиту! Мы упомянули наиболее крупные проблемы, затронутые в ответе Иоасафа. Остальное, — можно сказать, мелочи, вроде колокольного звона, общих трапез в обителях, монастырских квасов («старых» и «черствых», «выкислых» и «слатких», «жытных» и «сычевых»), «молодых строев, которые волосаты ходят по миру», скоморохов и пр. Важно еще раз отметить, что в ответе Иоасафа самый острый вопрос, дебатировавшийся на Стоглавом соборе, — вопрос о церковно-монастырском землевладении, — обойден. Как уже нами отмечалось, в бывшем митрополите возобладала, по-видимому, осторожность. Надо полагать, Иоасаф был осведомлен о ситуации, сложившейся на Соборе, где нестяжатели оказались в меньшинстве. И он не стал, как говорится, «лезть на рожон», хотя и не удержался от соблазна лишний раз задеть иосифлян, разразившись пространным рассуждением «О игумене Иосифе Волоцком». Вот что он сказал: «Написано, государь, в твоих спискех: у деда твоего, государя нашего, у великого князя Ивана Васильевича на соборе был игумен Иосиф Волоцкой, как, государь, соборовал дед твой, государь нашь, о вдовых священникех. И на том соборе у деда твоего были многых монастырей честные архимандриты и игумены, и старцы многые, тех же монастырей пустынникы, которые житием были богоугодны и святое писание известно разумели, по тому же, государь, как ныне у тобя, государь, на соборе многые архимандриты и игумены, и многые старцы из всех монастырей. И опричь, государь, игумена Иосифа никто не написан, кто у деда твоего на том соборе был. И будет, государь, тебе угодно деда твоего, государя нашего тот собор, и ты бы, государь, Бога ради и тех честных монастырей архимандритов и игуменов, и старцев велел написати в той статьи в своем списке. А спрашивай, государь, о том соборе бояр своих старых — те, государь, помнят, кто на том соборе был — архимандритов и игуменов, и честных старцев. А о всем о том, государь, ведает Бог да ты, как тебе, царю государю, Бог известить»{1745}. Данное рассуждение весьма примечательно. Иоасаф, как бы восстанавливая справедливость, напомнил Ивану IV, что в деятельности Собора о «вдовых попах» (1503), помимо Иосифа Волоцкого и его сторонников, принимали активное участие (причем в достаточном количестве) и другие высокочтимые священнослужители. То были нестяжатели, лидером которых выступал Нил Сорский{1746}. Поднимая их престиж, Иоасаф тем самым возвышал присутствующих на Стоглавом соборе нестяжателей. Что это так, видно из прямого сопоставления соборов 1503 и 1551 гг. в плане их участников («по тому же, государь, как ныне у тобя, государь, на соборе многые архимандриты и игумены, и многые старцы из всех монастырей»). Отсюда сам собою напрашивался вывод о том, что государь должен прислушиваться к мнению этих почтенных «соборян», подобно тому, как к ним в свое время прислушивался дед царя Иван III, являющийся примером, достойным подражания. Надо заметить, что преклонение Ивана Грозного перед памятью отца и деда, с одной стороны, и резко негативное его отношение ко времени боярского правления — с другой, партия Сильвестра — Адашева умело использовала в борьбе с церковно-монастырским землевладением. Такого рода спекуляцию на чувствах молодого Ивана IV следует, по-видимому, рассматривать как некий способ психического воздействия, применяемый кликой Сильвестра и Адашева с целью управления поведением монарха. И отставной митрополит Иоасаф действовал в том же ключе, побуждая царя Ивана вспомнить, кроме вопроса о вдовствующих священниках, кое-что еще о соборе 1503 года, в частности неудавшуюся попытку добиться соборного решения относительно ликвидации церковной собственности на землю. Тем самым Иоасаф старался возбудить в молодом самодержце ревность относительно начинаний чтимого им прародителя. Но сделано это довольно туманно и завуалировано: «А о всем о том, государь, ведает Бог да ты, как тебе, царю государю, Бог известить». Поездка к Иоасафу не оправдала надежд реформаторов. Бывший митрополит повел себя уклончиво, ограничившись малозначимыми замечаниями, а серьезные вопросы либо обошел, либо истолковал обтекаемо. Но обращение Иоасафом внимания Грозного к делам Ивана III все же не «ушло в песок». Под занавес Стоглавого собора противникам русской церкви удалось склонить Ивана IV к «приговору», где опять-таки фигурируют ссылки на порядки, установленные дедом и отцом государя — Иваном III и Василием III. «Приговор», состоявшийся 11 мая 1551 года, установил жесткий контроль государственных органов над приобретением вотчин духовенством: «Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приговорил с отцом своим с Макарьем с митрополитом всеа Русии, и с архиепискупы, и епискупы, и со всем собором, что вперед архиепискупом, и епискупом, и манастырем вотчин без царева и великого князя ведома и без докладу не покупати ни у кого; а князем и детем боярским и всяким [людем] вотчин без докладу им не продавати же; а хто купит или продаст вотчину без докладу, и у тех, хто купит, денги пропали, а у продавца вотчина взяти на государя царя и великого князя безденежно»{1747}. В этом контроле над земельными операциями духовенства «приговор» опирался на прецеденты, связанные с именами деда и отца царя Ивана, которые запрещали давать «без докладу в монастыри вотчины», расположенные в Твери, Микулине, Торжке, Оболенске, на Белоозере и в Рязани: «А что изстарины по уложенью великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и по уложенью великого князя Василья Ивановича всеа Русии во Твери, в Микулине, в Торшку, во Оболенску, на Белеозере, на Резани мимо тех городов людей иных городов людем вотчины не продавали и по душам в манастыри по душам не давали»{1748}. Затем в «приговоре» сказано: «А Суздальские князи, да Ярославские князи, да Стародубские князи без царева и великого князя ведома вотчин своих мимо вотчич не продавали никому же и в манастыри по душам не давали; а ныне деи в тех городах князи и дети боярские в манастыри отчины свои продавали и по душам давали»{1749}. И вот теперь — строгий наказ: «Суздальским, и Ярославским, и Стародубским князем вотчин никому без царева и великого князя ведома не продати и по душе не дати. А хто вотчину свою без царева и великого князя ведома через сей государев указ кому продаст, и у купца денги пропали, а отчичи отчины лишены. А хто без царева великого князя ведома в сех городех во Твери, в Микулине, на Белеозере, на Резани, да Суздальские князи, да Ярославские князи, да Стародубские князи в которой монастырь кто даст по душе без государева докладу, и та отчина у манастырей безденежно на государя имати. А которые вотчины свои в манастыри по душам до сего приговору давали без государева докладу, и те отчины имати на государя, да за них по мере денги платити, да те отчины отдавати в поместье»{1750}. Далее закон гласит: «А хто без государева ведома в которой манастырь вотчину свою даст по душе, и та вотчина у манастырей безденежно имати на государя»{1751}. Приведенный материал позволяет увидеть, как из частных правительственных распоряжений, имеющих местное значение, возникал закон, применявшийся повсеместно. Б. Д. Греков по этому поводу замечал, что при сыне Ивана III Василии «было издано Уложение, в котором запрещалось жителям некоторых городов и некоторым северо-восточным князьям давать вотчины в монастыри без доклада и без ведома великого князя. 11 мая 1551 г. это правило получило силу общего закона»{1752}. Этот закон, как мы видели, касался не только земельных вкладов, но и купли-продажи земли. Само по себе появление подобного закона нельзя, по нашему мнению, рассматривать как меру, направленную против монастырского землевладения. В Московском царстве, где служба с земли получила базовое развитие, учет земельного фонда являлся важнейшей государственной потребностью. Поэтому земельные сделки и мобилизация земли не могли находиться вне поля зрения и контроля правительства. Это вполне естественно. Другое дело, каково это правительство и какую политику оно проводит, определяя конкретное содержание закона. Что касается московского правительства середины XVI века, т. е. правительства Избранной Рады, то мы неоднократно убеждались в негативном его отношении к русскому самодержавству и, следовательно, к православной церкви, пестовавшей самодержавную власть. Стало быть, в конкретных условиях того времени контроль за монастырскими операциями по земле, требующий вершить эти операции «с государева ведома» и «с доклада государю», использовался в качестве средства борьбы с землевладением монастырей, нацеленной на секуляризацию церковно-монастырской земельной собственности. Вот почему «в 50-х годах прекратилась покупка земель крупными монастырями. Не приобретали в 50-х годах земли покупкой ни Волоколамский, ни Троице-Сергиев, ни многие другие монастыри»{1753}. Кроме закона, запрещавшего бесконтрольный оборот земли, связанный с церковью и монастырями, майский «приговор» 1551 года содержал распоряжения об изъятии церковно-монастырских земель, добытых духовенством якобы силой и пособничеством писцов, а также полученных в годы боярского правления: I. «А которые царевы и великого князя поместные и черные земли задолжали у детей боярских и у крестьян и насилством поотымали владыки и манастыри или которые земли писцы, норовя владыкам же и манастырем, подавали, а называют владыки и манастыри те земли своими, а иные починки поставляли на государевых землях, и того сыскати: чьи земли были изстари, за тем те земли и учинити»; II. «А которые села, и волости, и рыбные ловли, и всякие угодья, и оброчные деревни после великого князя Василья бояре подавали архиепискупом, и епискупом, и манастырем и, того сыскав, учинити так, как было при великом князе Василье»{1754}. «Приговор» привел в соответствие с тем, как было при деде и «батке» Ивана IV, выдачу «руг» и «милостыней» церковно-монастырским корпорациям: I. «А которые будут манастыри или к которым церквам к нищим в ругах и в милостынях придача ново после великого князя Василья, и те руги и милостыни новопридачные, сыскав, отставити; а учинити по старине по тому же, как где давали руги и милостыни наперед сего при великом князе Иване и при великом князе Василье Ивановиче всеа Русии»; II. «А которые милостыни будут наперед же сего в которые манастыри или к которым церквам времянем шли, года в два, или в три, или болши, или менши, в приказ, а не ежегод, а они будут после великого князя Василья поймали грамоты, что имать им милостыни те ежегод, и, того сыскав, отставити же, а давати им милостыня в приказ по старине же, в колко годов как государь пожалует»{1755}. «Приговором» 11 мая 1551 года Стоглавый собор, судя по всему, завершил свою работу{1756}. Необходимо подчеркнуть, что данный «приговор» состоялся именно в конце соборных заседаний, а не после, когда участники собора покинули Москву. Впрочем, поскольку «приговор» принимался в самый последний момент деятельности Стоглава, то не исключено, что часть духовенства, бывшего на Соборе, могла уже разъехаться по домам{1757}. Тем не менее то был соборный документ{1758}, что со всей очевидностью явствует из его преамбулы: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил со отцем своим с Макарьем, митрополитом всеа Русии, и со архиепископы и епископы, и со всем собором»{1759}. Отсюда понятно, почему он помещен в Стоглаве (в ряде списков, причем самых ранних) и даже обозначен в перечне глав памятника: «Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил со отцом своим Макарием, митрополитом всеа Русии, и со всем священным собором о всяких вотчинах»{1760}. Иное дело, кому принадлежала инициатива подготовки и сама подготовка этого документа. В. В. Шапошник высказал вполне правдоподобную в данном случае версию, согласно которой «приговор формулировал не государь», а правительственная группа во главе с А. Ф. Адашевым{1761}. Исследователь полагает, что «после составления так называемой первой редакции «Стоглава», отправленной в Троицу к Иоасафу и другим, большая часть игуменов, считая дело сделанным, разъехалась. Этим моментом и воспользовались деятели, группировавшиеся вокруг А. Ф. Адашева — сумев убедить царя в своей правоте, они добились у усеченного состава Собора согласия на вошедшие в Приговор меры»{1762}. Если это так, то здесь должен быть обязательно помянут и Сильвестр — сподвижник Адашева, принимавший активное участие в деятельности Стоглавого собора. Ясно также и то, что ни царь, ни митрополит не могли выступать здесь законотворцами. Эту роль взяли на себя Сильвестр и Адашев со своими сторонниками. Именно они составили проект «приговора» и добились согласия государя представить этот проект Собору на утверждение, причем без предварительного обсуждения в самый последний момент соборных заседаний, так сказать, в «Разном» и при неполном, возможно, числе его участников{1763}. Поспешность, с которой была проделана данная операция, на наш взгляд, не случайна. Она выдает преднамеренность составителей при^ говора, обусловленную их стремлением во что бы то ни стало протащить закон, явно не устраивающий соборное большинство, тем более что некоторые пункты «приговора», по наблюдениям новейшего исследователя, вошли в противоречие с только что принятыми решениями Стоглава. «Удивляет сама возможность принятия подобного Приговора, противоречащая в некоторых пунктах соборным постановлениям», — говорит он{1764}. Удивляться тут, однако, нечему. Сильвестр, Адашев и руководимая ими Избранная Рада обладали в ту пору влиянием и властью, достаточными, чтобы настоять на своем если не целиком, то в значительной мере. В могуществе этих людей и крылась причина того, что им удалось провести через собор документ, принципиально иного характера, нежели главные соборные постановления, касающиеся церковно-монастырской земельной собственности. Поэтому едва ли можно согласиться с Н. Е. Носовым в том, будто майский «приговор» 1551 года явился итогом «обсуждения на Стоглавом соборе вопроса о секуляризации церковных земель»{1765}. На самом деле это не так. Итогом названного обсуждения стало заявление собора о неприкосновенности церковных «стяжаний» и «пошлин», аттестация посягающих на церковные «имения» и «приношения» как «татей», «хищников» и «разбойников», подтверждение, наконец, незыблемости правил «святаго Седьмаго вселенского собора и прочих святых отец», где «речено бысть о недвижимых вещех, вданных Богови в наследие благ вечных, рекше: и села, нивы, винограды, сеножати, лес, борти, воды, источницы, езера и прочее, вданное Богови в наследие благ вечных — никто же их можеть от Церкви Божий восхытити или отъяти, или продати, или отдати»{1766}. Что касается «приговора» 11 мая 1551 года, то он представлял собою определенную оппозицию итогам обсуждения на Стоглавом соборе вопроса о церковно-монастырском землевладении, поскольку «предусматривал частичную секуляризацию церковных владений»{1767}, «частичную конфискацию монастырских земель»{1768}, нарушив, следовательно, правила Вселенских соборов (в частности, 38-е правило Седьмого собора), святых отцов церкви и христианских властителей. Поэтому вряд ли безоговорочно можно принять рассуждения некоторых историков о провале на Стоглавом соборе программы секуляризации церковных земель или утверждения их о том, будто секуляризация не прошла{1769}. Майский «приговор» 1551 года, навязанный Стоглавому собору группой Сильвестра — Адашева, свидетельствует о частичном изъятии государством земель, принадлежавших духовенству. И тут важны не столько масштабы этого изъятия, сколько отход от принципа неприкосновенности церковных «стяжаний», освященного авторитетом Вселенских соборов и отцов церкви. Тем самым создавался прецедент, открывающий возможность осуществления в будущем более радикальных мер по части ликвидации церковно-монастырской земельной собственности. Как видим, реформаторы нанесли русской православной церкви отнюдь не роковой, но все ж таки ощутимый удар{1770}. И мы не стали бы в данном случае разделять интересы белого и черного духовенства, как это делает В. В. Шапошник, заявляя, будто «святители, как определенная часть духовенства, оказались в наибольшем выигрыше. Видимо, их общие интересы перевесили их интересы как представителей определенных корпораций. Может быть, на Соборе состоялся определенный торг за архиерейские места (ведь практически сразу же после Стоглава в составе иерархии произошли некоторые изменения). Одно белое духовенство почти не затронули финансовые изменения — оно лишь получило твердые размеры пошлин. Таким образом, решения Собора определялись борьбой внутри церковной организации между отдельными группами духовенства и представителями различных духовных корпораций. Этой борьбой в самом конце Стоглава умело воспользовалась светская часть правительства и провела решение, несколько облегчавшее положение государственной казны. Т. е., можно сказать, что в самом конце работы Собора произошел фактически сговор иерархов с правительством за счет монастырей{1771}. Противопоставление интересов белого и черного духовенства, церковных иерархов и монастырских настоятелей, проводимое В. В. Шапошником, нам представляется искусственным уже потому, что архиереи православной церкви являлись одновременно монахами и многие из них в прошлом, близком или далеком, вышли из игуменов крупнейших русских монастырей, попавших под удар «приговора» 11 мая 1551 года. Весьма спорен и тезис автора о том, будто «решения собора определялись борьбой внутри церковной организации между отдельными группами духовенства и представителями духовных корпораций». Решения Собора, по нашему глубокому убеждению, определялись борьбой не внутри церковного лагеря, а между светскими реформаторами во главе с Адашевым в смычке с Сильвестром и поддерживающей их группой духовенства нестяжательского толка, с одной стороны, и иосифлянским большинством Собора, возглавляемым митрополитом Макарием, — с другой. Царь Иван стоял, похоже, над схваткой, но в душе все-таки тяготел к митрополиту. Таким образом, если исходить из решений одного лишь майского «приговора» 1551 года, то вряд ли можно считать доказанной мысль о том, что «наибольшие экономические потери» понесли тогда монастыри{1772}. Но, если учесть совокупность мер по ограничению и утеснению церковно-монастырского землевладения, предпринятых Избранной Радой в 1549–1551 годах, включая, помимо прочего, Постановление Судебника 1550 года о тарханах и решения «приговора» от 11 мая 1551 года, то данная мысль получит достаточные основания. Получается, следовательно, что реформаторы сконцентрировали свою «преобразовательную», а по сути разрушительную политику в сфере церковной жизни православной Русии прежде всего на монастырях{1773}. Понятно, почему они лишили обители финансовой самостоятельности и поставили под контроль назначение архимандритов и игуменов со стороны государственной власти, принудив Стоглавый собор принять соответствующие постановления. Об избрании монастырских настоятелей в Стоглаве сказано следующее: «Избирати митрополиту и архепископом, и епископом, коемуждо въ своем пределе, архимандритов и игуменов в честныа монастыри по цареву слову и совету и по священным правилом <…>, и избрав, посылают их ко благочестивому царю. И аще будет Богу угоден и царю — и таковый архимандрит и игумен по священным правилом да поставлен будет»{1774}. Судя по всему, подобный способ поставления архимандритов и игуменов явочным порядком уже применялся Избранной Радой, и Собор лишь юридически оформил его легитимность. Вспомним старца Артемия, назначенного игуменом Троице-Сергиева монастыря по совету, данному царю попом Сильвестром{1775}. Вряд ли то был единичный случай. Как видно из постановления Стоглава, высшие монастырские чины только формально избирались митрополитом, архиепископами и епископами, тогда как последнее слово здесь принадлежало царю, фактически на тот момент Избранной Раде и ее вождям Сильвестру и Адашеву, которые получали возможность таким способом сажать в монастыри на командные посты своих людей, облегчая тем задачу реформирования, а точнее сказать — уничтожения традиционного монастырского уклада в России. Ту же цель, как нам думается, преследовало, несомненно, навязанное Стоглавому собору решение, изымавшее у монастырей право самостоятельно распоряжаться собственными финансами: «А монастыри и казну монастырскую, и всякие обиходы монастырскые царя и великого князя дворетцкым по всем монастырем ведати и посылати считати и отписывати, и отдавати по книгам архимандритом и игуменом, и строителем с соборными старци в коемждо монастыре»{1776}. Избранная Рада и ее лидеры, державшие в своих руках нити управления государством, могли через дворецких контролировать денежные расходы монастырей, лишая их свободы хозяйствования и, в конечном счете, подчиняя светской власти. Возникает вопрос, по какой причине правительство Избранной Рады нанесло удар в первую очередь по монастырям? В исторической литературе бытуют разные мнения на сей счет. Б. Д. Греков, например, замечал, что «растущее централизованное государство проявило максимум стараний к тому, чтобы расширить свои военные кадры и обеспечить армию землей. Созданы были новые тысячи землевладельцев, далеко не всегда имевших возможность удовлетворять свои растущие потребности»{1777}. Ради удовлетворения этих «растущих потребностей» и предприняты были меры, которые «несколько затруднили дальнейшее расширение монастырских земельных владений»{1778}. По мнению Б. А. Романова, как в Судебнике 1550 года, так и в «приговоре» 11 мая 1551 года «все должно было быть пересмотрено под углом зрения ликвидации последствий боярского правления»{1779}. При этом основной проблемой здесь являлось «обуздание владычного, и особенно монастырского, безудержного и бесконтрольного, напора на земли всего светского сектора вотчинного землевладения безотносительно к калибрам и общественному положению его представителей вплоть до детей боярских и даже «всяких людей»{1780}. Б. А. Романов не жалеет черных красок, говоря, что «монастырский ростовщический капитал» выступал «в совершенно разнузданном виде, как грызун, принявшийся точить оборонный земельный фонд государства по линии простого кредита»{1781}. Согласно И. И. Смирнову, меры «правительства Ивана IV» середины XVI века в отношении земельной собственности монастырей обусловливались стремлением разрешить три задачи: 1) остановить монастырскую экспансию в земельном вопросе; 2) поставить под правительственный контроль дальнейший рост монастырского землевладения; 3) свести «на нет те успехи, которые сделало монастырское землевладение за годы господства княжеско-боярской реакции»{1782}. Осуществлялось это в интересах дворянства. «Обширные земельные владения, за неприкосновенность которых ратовали осифляне, — писал С. В. Бахрушин, — привлекали внимание бояр, которые мечтали за счет церковных земель удовлетворить интересы дворян»{1783}. К чести автора надо сказать, что ему удалось преодолеть узкосословный подход при объяснении причин наступления на монастырское землевладение и льготные права монастырей, предпринятого правительством Избранной Рады, и взглянуть на проблему шире, в плане реформирования церковной организации как таковой: «На Стоглавом соборе правительство выступило с законченной программой реорганизации церкви в духе нестяжательских учений. От имени царя были внесены предложения, клонившиеся к умалению как церковного землевладения, так и судебных прав церкви»{1784}. Важным в этой связи является наблюдение исследователя о существовании «реформационных течений в среде самого духовенства»{1785}. Оно позволяет предположить о том, что эти течения уносили некоторых церковников очень далеко от православия в сторону ересей и протестантизма, с позиций которых они затем вели борьбу с русской православной церковью и ее передовым отрядом — монастырями. В обстановке резкого обострения классовых противоречий и подъема реформационного движения в середине XVI века решался, по А. А. Зимину, вопрос о церковно-монастырском землевладении. Историк пишет: «Правительство было крайне заинтересовано в уменьшении податных и судебных привилегий крупных духовных феодалов и рассчитывало поставить вопрос об ограничении (если не о полной ликвидации) прав церкви на владение недвижимыми имуществами в городах и сельских местностях. Монастырское землевладение являлось важным резервуаром, за счет которого можно было удовлетворить дворянские требования. Ликвидации монастырских слобод и беломестных дворов в городах добивалось посадское население страны»{1786}. Существенную роль А. А. Зимин отводит здесь духовенству, разделявшему идеи нестяжательства и потому выступавшему против монастырской земельной собственности. «Требование осуществить ряд важнейших преобразований, — говорит он, — высказывались также нестяжательским духовенством, которое в середине XVI в. фактически возглавлял Сильвестр — один из руководителей правительства того времени. Нестяжатели выступали против землевладения духовных корпораций…»{1787}. В книге, изданной двумя годами позже, А. А. Зимин усиливает последний мотив, указывая на то, что «нестяжательское окружение Сильвестра, одного из фактических руководителей правительства компромисса, как ранее в начале XVI в. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, идеологически обосновывало необходимость ликвидации земельных богатств церкви. Представитель крайнего течения нестяжателей — старец Артемий сначала говорил Ивану IV, а затем и писал в послании к церковному собору 1551 г., что следует «села отнимати у монастырей»{1788}. Весьма существенным представляется наблюдение А. А. Зимина, по которому правительство Сильвестра и Адашева, проводя нестяжательскую политику, старалось воспользоваться заинтересованностью «боярства и дворян в ликвидации земельных богатств церкви»{1789}. Тем самым исследователь, хотел он того или нет, поставил на первое место религиозно-политические причины борьбы вокруг земельной собственности духовенства, развернувшейся в середине XVI века, а все остальные, включая потребность обеспечения землей служилого сословия, отодвинул на второй. Отсюда был, можно сказать, один шаг до верного понимания сути происходившего на Стоглавом соборе. Тем досаднее, что в другой своей книге А. А. Зимин снова возвращается к земельным нуждам служилого люда, ставшим якобы главной причиной секуляризационных попыток середины XVI столетия, а царя Ивана изображает инициатором этих попыток и автором экспроприаторской программы, изложенной в царских вопросах к Собору 1551 года{1790}. Среди требований, исходящих непосредственно от Сильвестра и близких ему людей, А. А. Зимин теперь не упоминает мер по ликвидации или ограничению монастырской земельной собственности. «Стоглавый собор, — читаем у него, — пошел на ряд уступок, которые требовали Сильвестр и его союзники из числа нестяжателей. Отцы собора вынуждены были декларировать запрет симонии (поставления по «мзде»), а также провозгласить борьбу с злоупотреблениями властью в монастырях-вотчинниках»{1791}. Нуждами дворянства, не обеспеченного землями, объяснял изъятие монастырских земель царским правительством в середине XVI века Р. Г. Скрынников. Он, в частности, писал: «Реформаторская деятельность адашевского кружка, критика злоупотреблений боярского правления, возведенная в ранг официальной доктрины, способствовали пробуждению общественной мысли в России. Вслед за Ивашкой Пересветовым на общественную арену выступает другой талантливый публицист поп Ермолай-Еразм. Дворянская публицистика подвергает всестороннему обсуждению вопрос об «оскудении» дворянства и необходимости «землемерия», т. е. перераспределения земель в пользу дворянства. Официальные проекты дворянского «землемерия», составленные в кружке Адашева, получили наиболее полное обоснование в так называемых царских вопросах митрополиту (февраль 1550 г.)»{1792}. Вслед за этим правительство «выдвигает вопрос о частичной секуляризации монастырского землевладения. Планы секуляризации получили энергичную поддержку со стороны придворного духовенства в лице благовещенского протопопа Сильвестра и тяготевших к нему монахов-нестяжателей»{1793}. Сходные суждения Р. Г. Скрынников высказывает в книге об Иване Грозном (1975). Но при том у него в данном конкретном случае куда-то ушла дворянская публицистика, стимулировавшая секуляризационные замыслы власти, и скрылся благовещенский поп Сильвестр, оказывавший поддержку планам секуляризации{1794}. Вместо последнего в этом качестве появились вызванные царем в Москву «заволжские старцы»{1795}, возглавляемые Артемием{1796}. Р. Г. Скрынников снова возвращается к вопросу о причинах секуляризации церковных земель в Русии середины XVI века в книге «Царство террора», в которой читаем: «Приняв на себя обязательство об обеспечении поместными землями всех служилых людей и их сыновей, казна принуждена была постоянно искать новые источники для пополнения фонда поместных земель. По этой причине власти время от времени возвращались к проектам частичной секуляризации церковных вотчин. В речи к членам Стоглавого собора в начале 1551 г. Иван IV весьма недвусмысленно указал на то, что монастыри не умеют как следует распорядиться доставшимися им землями и доходами. Одновременно старец Артемий подал собору совет «села отымати у монастырей». Митрополит Макарий употребил все старания, чтобы доказать царю греховность и преступность любых покушений на церковное имущество и доходы. Тем не менее, церкви пришлось поступиться частью своих земельных богатств»{1797}. Потребностями казны обусловил изъятия земельной собственности у монастырей и другой новейший исследователь, В. В. Шапошник{1798}. В результате этих изъятий, замечает он, «в распоряжение правительства поступало некоторое количество земель»{1799}. * * *Итак, в исторической литературе сложилось устойчивое мнение, усматривающее причину наступления государственной власти на церковно-монастырское землевладение во времена правления Избранной Рады в стремлении оградить служилый люд от монастырской экспансии и получить земли, необходимые для обеспечения исправной службы дворянства. Полагая, что в этом мнении есть определенный резон, мы все-таки не можем останавливаться на нем и считать его исчерпывающим. Больше того, следует подчеркнуть, что оно, на наш взгляд, страдает некоторым преувеличением земельного дефицита, «земельного голода», якобы испытываемого государством, и несет на себе печать ограниченности, поскольку не выходит за рамки сугубо материальных интересов и хозяйственных потребностей служилого сословия, с одной стороны, и монастырских корпораций — с другой. Приверженцы этого мнения не считаются с тем, что существует духовная мотивация поведения людей, в том числе и в сфере политики{1800}. И вот если взглянуть на дело с точки зрения духовной, или культурно-исторической, то придется признать, что секуляризационные меры инициировали религиозные и политические деятели, стоявшие на нестяжательских и еретических позициях, что разрушительная политика, проводимая ими в отношении церковно-монастырского землевладения, являлась следствием их религиозного мировоззрения. Придется также признать преемственную связь этих деятелей с кремлевскими священнослужителями Алексеем и Денисом, дьяком Федором Курицыным, князем-иноком Вассианом Патрикеевым и другими еретиками, достигшими на некоторое время огромного влияния и власти при дворе московских великих князей в лице Ивана III и Василия III, но потерпевшими в конечном счете крушение своих планов. Наконец, придется признать и то, что курс Избранной Рады на секуляризацию церковно-монастырских земель являлся продолжением в новых исторических условиях курса, начатого при Иване III группой еретиков во главе с Федором Курицыным и, пропагандируемого при Василии III сановным старцем Вассианом Патрикеевым и его единомышленниками. Главной целью этого курса было реформирование русской православной церкви в духе еретических идей, занесенных в Россию с Запада{1801}. Реформаторы шли к ней, прикрываясь лозунгами защиты служилого землевладения от расхищения его монастырями. Кроме продолжения старых попыток реформирования традиционной церковной организации, передаваемых с конца XV века еретиками, как по цепочке, от поколения к поколению, в середине XVI столетия появились новые причины, побуждавшие определенные круги княжеско-боярской знати включаться в борьбу с православной церковью. Эти причины были связаны с завершением процесса формирования московского самодержавства, ознаменованным венчанием Ивана IV на царство. Противники самодержавной власти, которых насчитывалось немало среди тех, кто входил в Избранную Раду, неизбежно оказывались в оппозиции к официальной церкви, являвшейся структурной опорой царского самодержавия. Целясь в русское самодержавие, они били по православной церкви, по ее важнейшему звену — монастырям, стремясь лишить монашество экономической основы посредством государственной конфискационной политики и добиться в результате двойного эффекта, состоящего в разрушении сложившегося на Руси церковно-монастырского уклада и в расстройстве союза церкви с государством. Существо обсуждаемых нами сейчас событий почувствовал Г. Флоровский. Протоиерей Георгий Флоровский усмотрел в начинаниях попа Сильвестра влияние Запада, прежде всего немецкое влияние, т. е. протестантское, или, по понятиям Восточной церкви, еретическое{1802}. Весьма любопытно охарактеризовал он Стоглавый собор, который, по его словам, «был задуман как «реформационный», но «осуществился как реакционный»{1803}. Надо сказать, что тут есть предмет для размышлений. Действительно, группа Сильвестра — Адашева готовила Собор как в некотором роде реформационный, призванный осуществить первый, но довольно решительный шаг на пути реформирования русской церкви в соответствии с еретическими учениями Запада. Этот шаг предусматривал секуляризацию церковно-монастырской земельной собственности и ликвидацию единства церкви с государством, что резко меняло положение православной церкви в экономической, социальной и политической жизни Руси. Трудно было предугадать, куда могла завести подобная реформа. Ясно только было, что она разрушала основы теократического самодержавия, подрывала устои Святорусского царства, или Святой Руси. Г.Флоровский, говоря о том, что Стоглавый собор «осуществился как реакционный», подчеркнул тем свое отрицательное отношение к итогам соборной деятельности, поддавшись субъективному восприятию события. Но позволительно спросить, почему Собор «осуществился как реакционный»? Не потому ли, что иосифляне не позволили реформаторам провести всеобщую секуляризацию церковно-монастырского землевладения, экономически удушить церковь и разорвать ее союз с государством, поставив русское общество на грань национальной катастрофы. Если это так, то мы не найдем ничего реакционного в том, как Собор «осуществился». Напротив, любому не зашоренному либеральными идеями исследователю ясно, что на Стоглавом соборе здоровые национальные силы взяли верх над деструктивными антицерковными и противогосударственными элементами, хотя и с некоторыми потерями. Однако эти потери оказались с лихвой восполненными превращением собора из духовного учреждения в институт, наделенный как церковными, так и государственными функциями. В исторической науке это превращение не осталось незамеченным. Историки давно уже говорят о том, что Стоглавый собор, приняв постановления, касающиеся церковно-монастырской жизни, утвердил, кроме того, документы внецерковного характера — Судебник 1550 года, Уставные грамоты, относящиеся к местному управлению, ввел общий налог на выкуп пленных и т. п.{1804} Некоторые исследователи считают, что при непосредственном участии Собора был составлен и утвержден «приговор» 11 мая 1551 года{1805}. Высказывалось также предположение о рассмотрении на Стоглавом соборе вопросов, связанных с предстоящей новой кампанией против Казани{1806}. Не знаем, как насчет войны с Казанью, но относительно утверждения Судебника, Уставных грамот и совета «о всяких земских строениях» сомнения излишни, ибо в речи Ивана IV, обращенной к участникам Собора, сказано: «Се Судебник пред вами и уставные грамоты. Прочтете и разсудите, чтобы было наше дело о Бозе в род и род неподвижно по вашему благословению, аще достойно сие дело на святом соборе утвердив и вечное и благословение получив, и подписати на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти. Да с нами соборне попрося у Бога помощи во всяких нужах, посоветуйте и разсудите, и уложите, и утвердите по правилам святых апостол и святых отець и по прежним законом прародителей наших, чтобы всякое дело и всякие обычен строилися по Бозе в нашем царствии при вашем святительском пастырстве, а при нашей дръжаве. А которые обычен в прежние времена после отца нашего, великого князя Василия Ивановича всея Руси, и до сего настоящаго времени поизшаталося или в самовластии учинено по своим волям или в предние законы, которые порушены, или ослабно дело, и небрегомо Божиих заповедей что творилося, и о всяких земских строениах, и о наших душах заблужение о всем о сем доволно себе духовне посоветуйте, и на среду собора. И сие нам возвестите, и мы вашего святительскаго совета и дела требуем и советовати с вами желаем — о Бозе утвержати нестройное во благо. А что наши нужи или которые земские нестроениа, и мы вам о сем возвещаем. И вы, разсудя по правилом святых апостол и святых отець, утвержате во общем согласии вкупе, а яз вам, отцем своим и з братиею, и з своими бояры челом бью»{1807}. Существенное значение для понимания исторической ситуации, отраженной в приведенном тексте, имеют так называемые «дополнительные царские вопросы», сохранившиеся в рукописи игумена Волоколамского монастыря Ефимия Туркова, найденные И. Н. Ждановым и отнесенные им к деяниям Стоглавого собора{1808}. Однако привязка этих вопросов к Стоглавому собору была не без основания оспорена как в досоветской{1809}, так и в советской историографии{1810}. В преамбуле к ним читаем: «Говорити перед государем, и перед митрополитом, и передо владыки, и передо всеми бояры дияку, как было перед великом князе Иване Васильевиче, при деде, и при отце моем, при великом князе Василье Ивановиче, всякие законы тако бо и ныне устроити по святым правилом и по праотеческим законом, и на чом святители, и царь, и все приговорим и уложим, кое бы было о Возе твердо и неподвижно в векы»{1811}. Далее идут разнообразные вопросы, касающиеся земельной, торговой и таможенной политики, местничества, вотчин и поместий, новых слобод, корчем, мытных, перевозных и мостовых пошлин, пограничных застав, вотчинных и писцовых книг, вдовых боярынь и пр{1812}. За сведениями, заключенными в преамбуле к «царским вопросам», не просматривается, как нам кажется, ни церковный, ни земский собор. Препятствует тому усеченный состав слушателей, перед которыми велено было «говорити диаку». Это — царь, митрополит, владыки (архиепископы и епископы), а также все бояре (Боярская Дума). Но для того, чтобы назвать данное совещание земским собором, необходим более широкий круг его участников: для церковного собора — весь Освященный собор, а не только митрополит и владыки; для земского собора — хотя бы на крайний случай представители дворян, а не одни лишь бояре. По-видимому, то было некое подготовительное совещание, предшествующее Стоглавому собору, независимо оттого, когда были составлены и предложены «царские вопросы»: около февраля 1550 года{1813}, между мартом — сентябрем 1550 года{1814}, одновременно с Судебником в июне 1550 года{1815} или, наконец, в летние месяцы 1550 года{1816}. Не столь существенно и то, состоялось ли заседание, на котором рассматривались эти вопросы{1817}, или же дело ограничилось только составлением «проекта реформ»{1818}. Куда важнее засвидетельствованный источником принцип совместного обсуждения и решения носителями светской и церковной власти проблем государственной жизни. Этот принцип был реализован в полном объеме на Стоглавом соборе 1551 года, что стало весьма наглядным фактом срастания государства и церкви. Таким образом, «царские вопросы», обращенные к руководству православной церкви, возможное их обсуждение с принятием соответствующих решений на совете (собрании) царя с высшими церковными иерархами и Боярской Думой явились своеобразной технической подготовкой к Стоглавому собору и вместе с тем определенным этапом на пути формирования теократической монархии в России. В своей речи на открытии Стоглавого собора царь Иван IV, как мы видели, очертил весьма широкий круг соборной компетенции, распространявшейся и на церковные, и на светские дела. Земские интересы Собора 1551 года долгое время находятся в поле зрения исследователей{1819}. Возникла версия о Стоглавом соборе как церковно-земском, основанная на том, что в работе Собора участвовали светские представители власти (Боярская Дума) и что предметом обсуждения на нем, помимо церковных вопросов, были еще и земские вопросы. Эта версия, заявленная впервые И. Н. Ждановым{1820}, приобрела немало сторонников среди именитых историков. Назовем лишь некоторых, в частности М. А. Дьяконова, признававшего «вполне правильной мысль Жданова, что земский собор «вырастает на одном стволу с собором церковным», которым на первых шагах своей жизни значительно и закрывается. Поэтому Жданов и назвал Стоглавый собор «церковно-земским»{1821}. На Стоглавом соборе, по С. Ф. Платонову, царь Иван «выражает намерение обращаться к собору со всем тем, что «наши нужи или которые земские нестроения». Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а «церковно-земским» собором»{1822}. В другой раз С. Ф. Платонов говорит: «Одновременно с Казанскими походами Грозного шла его внутренняя реформа. Начало ее связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550–1551 годах. Это не был земский собор в обычном смысле этого термина <…>. Как показал впервые И. Н. Жданов, в Москве заседал тогда собор духовенства и боярства по церковным делам и «земским»{1823}. Некоторые видные советские ученые также соглашались с терминологией И. Н. Жданова. С. О. Шмидт, например, говорил: «Стоглавый собор, по содержанию своей работы и по составу напоминавший собор весны 1549 г., еще И. Н. Жданов и М. А. Дьяконов с полным основанием называли церковно-земским»{1824}. Называл церковно-земским Стоглавый собор и Н. Е. Носов{1825}. Знаток истории соборов в России XVI–XVII веков Л. В. Черепнин полагал «достаточно обоснованным наименование, данное И. Н. Ждановым Стоглавому собору: церковно-земский»{1826}. Были, конечно, и оппоненты, возражавшие против такого наименования. К ним относился В. Н. Латкин, отвергавший название «церковно-земский» по отношению к Стоглавому собору. Суть его возражений сводилась к тому, что, во-первых, церковно-земский собор, как и земский, предполагает присутствие всех сословий, чего не было на Стоглаве, во-вторых, земские вопросы решались и на других церковных соборах, вследствие чего их тоже следовало бы именовать церковно-земскими, что не правомерно{1827}. Второй довод В. Н. Латкина показался В. В. Шапошнику особенно привлекательным{1828}. И он, подобно Латкину, не нашел «убедительных причин считать Собор 1551 г. церковно-земским»{1829}. Своими сомнениями насчет термина «церковно-земский» применительно к Стоглавому собору поделилась Т. Е. Новицкая. В обращении государя к собору она обнаружила не только духовенство, но и князей, бояр, воинов, православное христианство, что заставило ее подумать, «о каком соборе здесь идет речь. И. Н. Жданов и многие другие авторы видят в соборе 1551 года церковно-земский собор, а в Стоглаве — один из документов, принятых на этом соборе». Однако, замечает Т. Е. Новицкая, «обращение царя к князьям, боярам и народу в целом можно рассматривать и как публицистический прием»{1830}. Верно: можно рассматривать. Но можно и не рассматривать. Следовательно, тут все амбивалентно. Тем не менее надо признать, что именование Стоглавого собора церковно-земским действительно порождает сомнения, особенно с точки зрения характера соборных решений. В этом плане Собор 1551 года выступает не в качестве совещательного органа, каковым преимущественно являлся каждый земский собор XVI века, а как высший законодательный орган государства, с одной стороны, и как высшая церковная инстанция — с другой. Вот почему мы предлагаем его называть не церковно-земским, а церковно-государственным собором и видеть в нем важнейший элемент русской государственности середины XVI века, возведенной на основе единения церкви с государством. На эту особенность Стоглавого собора обратили внимание еще досоветские историки. «Церковный собор XVI–XVII вв., — писал Н. Ф. Каптерев, — это орган, при посредстве которого царь осуществлял свои верховные права»{1831}. Однако наиболее, на наш взгляд, проницательные суждения о Стоглавом соборе принадлежат И. В. Беляеву и А. Я. Шпакову. По словам И. В. Беляева, «Стоглав — образец сближения государственного и церковного права». Это сближение «так многосторонне и так тесно, что лучшего образца, по которому бы мог историк составить понятие об отношении на Руси церкви и государства в XVI в., трудно и найти»{1832}. Весьма примечательны наблюдения А. Я. Шпакова; который обнаружил в Стоглаве «обильнейший материал, освещающий отношение государственной власти и церкви». Исследователь усматривал в Стоглавом соборе — «кульминационный пункт теократического характера Московского государства, когда государство и церковь, слитые в единой организации, осуществляют совместную также единую программу»{1833}. Таким образом, перед нами высший законодательный церковно-государственный орган, только что возникший в итоге формирования Святорусского царства. Церковь и государство сошлись в этом царстве, образовав единство, составившее фундамент государственного здания России того и последующего времени. Вряд ли нужно распространяться о том, сколь благодатным для обеих сторон и для России в целом был этот редчайший в истории религиозно-политический альянс. Заметим только, что церковь, соединяясь с государством, получала мощную ограду от врагов внешних и внутренних, что было чрезвычайно важно в условиях, когда соседние западноевропейские страны раздирали ереси. В свою очередь государство, оцерковляясь, обновляло и умножало собственные силы, а посредством церковной организации проникала в глубокие сферы народного бытия, преобразуясь в государственную систему, блестяще обрисованную в свое время Л. А. Тихомировым и И. Л. Солоневичем{1834}. Что касается России, то ее величие и особая роль в мировой истории в значительной мере определялись союзом самодержавия с православной церковью. Возвращаясь к Стоглавому собору, засвидетельствовавшему единство православной церкви и русского самодержавства, заметим, что такой ход событий не устраивал реформаторов, потерпевших, несмотря на некоторые тактические успехи, общее стратегическое поражение. Рушились их планы по переустройству православной церкви на реформационный лад и преобразованию русского самодержавия в ограниченную монархию западного типа. Чем они ответили на это поражение? Прежде всего реформаторы приступили к чистке иерархов православной церкви, причем не медля{1835} и не разбираясь в средствах. Иван Грозный впоследствии вспомнит о жестоких гонениях, которым Сильвестр и Адашев подвергали церковных деятелей{1836}. В частности, царь расскажет о том, как по их наущению был избит камнями сторонник иосифлян Феодосий{1837}, епископ коломенский, согнанный с престола: «Гонения же аще на люди воскладаете: вы ли убо с попом и с Алексеем не гонили? Како убо епископа Коломенского Феодосия, нам советна, народу града Коломны повелесте камением побити? И его Бог ублюде, и вы его со престола прогнали»{1838}. Данное свидетельство примечательно не только тем, что содержит упоминание о факте низложения коломенского владыки, но еще и тем, что позволяет составить представление о возможностях Сильвестра и Адашева, способных управлять поведением населения целых городов. * * *Попутно наступлению на русское самодержавство и апостольскую церковь реформаторы вели подкоп под православную веру. Они, судя по всему, поощряли еретиков, способствуя оживлению их деятельности после Стоглавого собора. Ересь приобрела столь широкий размах, что потребовалось созвать специальный церковный собор с целью суда над лицами, причастными к ней. Особую опасность представляло проникновение ереси в верхние слои общества. Как и при Иване III, она просочилась в Кремль, где ее средоточием стал двор князей Старицких{1839}. Как и при Иване III, воздействию еретических учений подверглись люди, правившие страной, на сей раз Сильвестр, Адашев, Курбский и др. Свое сочувственное отношение к ереси (а тем более причастность к ней) эти люди держали в глубокой тайне. И только по некоторым косвенным сведениям, намекам и отрывочным данным источников можно догадываться об этой потаенной стороне их жизнедеятельности. Возьмем для начала Сильвестра. Со слов Ивана Висковатого мы заключаем, что поп Сильвестр «ссылался» и был «в совете» с еретиками Матвеем Башкиным и старцем Артемием{1840}. Мы знаем также, что Сильвестр отрицал свою связь с еретиками{1841}. Однако иначе он поступить не мог. В противном случае ему пришлось бы разделить судьбу с осужденными церковным собором 1553–1554 гг. отступниками от православной веры, закончив свой век в какой-нибудь монастырской темнице. Помимо этого общего соображения, есть и другие основания для сомнений в правдивости Сильвестра. И уж никак нельзя не замечать обстоятельств, вводивших благовещенского попа в круг достаточно специфических связей. Сильвестр, как известно, был в приязненных отношениях со старицкими князьями, родственники которых дворяне Г. Т. Борисов и его брат И. Т. Борисов-Бороздин входили в еретический кружок Матвея Башкина{1842}. Борисовы, будучи троюродными братьями княгини Ефросиньи Старицкой, занимали видное положение при дворе удельного старицкого князя Владимира Андреевича{1843}. По резонному мнению Р. Г. Скрынникова, «трудно предположить, чтобы кн. Е. Старицкая не была осведомлена о «вольнодумстве» своих братьев и придворных». Не менее трудно предположить и другое, а именно, что Сильвестр, этот давний доброхот семьи Старицких, не имел никакого понятия насчет еретичества братьев Борисовых. Но коль так, то логично допустить, что посредством этих родичей княгини Ефросиньи он мог установить связь с Матвеем Башкиным. Чем привлекали Сильвестра и его сотоварищей дворяне Борисовы и сын боярский Башкин? Надо полагать, не только своими еретическими увлечениями, но и тем, что это были военные, служилые люди, которые, являясь еретиками и в силу того оппозиционерами существующей власти, могли использоваться временщиками в нештатных, так сказать, придворных ситуациях, как это, к примеру, имело место в марте 1553 года, когда острейшим образом встал вопрос о престолонаследии. Летописец, повествуя о мартовских событиях 1553 года, сообщает о привлечении к разрешению возникшего вследствие тяжелой болезни Ивана IV династического кризиса детей боярских, служивших старицким князьям. Едва ли братья Борисовы-Бороздины находились в стороне от борьбы своих родичей-сюзеренов за московский престол, развернувшейся в те памятные мартовские дни. Что касается Матвея Башкина, несшего службу в Москве{1844}, то ему удалось собрать вокруг себя значительную, по всей видимости, группу служилых людей и приобщить их к ереси, о чем узнаем из соборной грамоты в Соловецкий монастырь, где говорится о том, как «еретик и отступник» Матвей Башкин «начат своих единомысленников пред Царем на соборе с очей на очи обличати; единомысленицы же его начат запиратись, неции ж от них и сами сказали на себя, что святым иконам не поклонялись да и уложили перед сего под Казанью, что и впредь святым иконам не покланятись»{1845}. Данное свидетельство, недостаточно оцененное исследователями, указывает на участие единомысленников Башкина в Казанском походе 1552 года в качестве, несомненно, «воинников», т. е. служилых людей. Даже во время похода они не прекращали своих тайных собраний, однажды условившись «и впредь иконам не поклонятись». К этому их побудило, очевидно, то обстоятельство, что в походах на иноверных поклонению святым иконам придавалось особенно важное значение, тем более в таком победоносном, каким стал поход 1552 года. Быть может, под впечатлением такого рода иконного моления присутствующие в русском войске еретики во главе с Матвеем Башкиным подтвердили вновь и сообща свое негативное отношение к иконам. На Башкина, как и на Борисовых-Бороздиных, поп Сильвестр мог смело положиться. Довольно правдоподобным выглядит предположение А. А. Зимина относительно того, что в марте 1553 года кружок Матвея Башкина «поддерживал кандидатуру старицкого князя Владимира»{1846}, действуя, следовательно, соответственно планам Сильвестра и стоявшей за ним Избранной Рады. Кстати сказать, А. А. Зимин отмечает близость Башкина к деятелям «правительства компромисса», т. е. Избранной Рады{1847}. Он же говорит о близости Сильвестра к еретикам{1848}. Как видим, для Сильвестра, Адашева и других «реформаторов» еретики были естественными союзниками. Иван Висковатый не только указывал на связь Сильвестра с еретиками Матвеем Башкиным и Артемием, но и прямо уличал его в ереси, проявленной им в подборе икон и аллегорических изображений на библейские сюжеты для Благовещенского собора и царских палат в Кремле. В «жалобнице», поданной митрополиту Макарию и «всему освященному собору» на посольского дьяка, сам Сильвестр говорил об этом так: «Да писал (Висковатый. — И.Ф.), что яз из Благовещенья образы старинные выносил, а новые своего мудрования поставил, да в жертвеннике от своего же умышления престол сделал, сказывает нигде того нет, да иные иконы писаны не по существу, как что в грамоте писано, да и в полате де притчи писаны не по подобию»{1849}. Далее Сильвестр напоминал: «Что о иконах Иван писал и то, государь святый Митрополит и весь освященный собор, ведомо: был, по грехом, великий пожар в сем царьствующем граде Москве и все освященныя церкви и честныя иконы, и царьский двор, и полаты, и многие стяжанья и посады все, огнем погорели, и Государь православный Царь сам жил в Воробьеве; а розослал по городом по святыя и честныя иконы, в Великий Новгород, и в Смоленьск, и в Дмитров, и в Звенигород, и из иных многих городов многия чудныя святыя иконы свозили и в Благовещенье поставили на поклонение царево и всем християном, доколе новые иконы напишут; и послал Государь по иконописцов в Новгород и во Псков и в иные городы, и иконники съехалися, и Царь Государь велел им иконы писати, кому что приказано, а иным повелел полаты подписывати и у града над враты Святых образы писати; и я, доложа Государя Царя, велел есми Новгородским иконником написати святую Троицу Живоначалную в Деяниях, да Верую во единаго Бога Отца, да Хвалите Господа с небес, да Софию Премудрость Божию, да Достойно есть, а перевод у Троицы имали иконы, с чего писали, да на Симонове; а Пьсковские иконники, Останя, да Яков, да Михаиле, да Якушко, да Семен Высокой Глагол с товарищи, отпросилися во Псков, и ялися тамо написати четыре болшия иконы: 1 Страшной Суд, 2 Обновление храма Христа Бога нашего Воскресения, 3 Страсти Господни в евангельских притчах, 4 икона, на ней четыре праздники: И почи Бог в день седмый от всех дел своих, да Единородный Сын Слово Божие, да Придете людие трисоставному Божеству поклонимся, да Во гробе плотски; и как иконописцы иконы написали, Деисус, и праздники, и пророки, и местный болшия иконы, и те иконы, которыя во Пскове писаны, привезли же в Москву…»{1850}. И вот едва новые иконы стали доступны взору приходящих в храм православных христиан, как разразился большой скандал. Иван Висковатый стал с великим шумом («вопил») и прилюдно обвинять Сильвестра, руководившего работами по написанию икон и росписей{1851}, в еретическом отступлении от канонов иконного письма. Е. Е. Голубинский по этому поводу замечал: «Когда иконы были написаны и поставлены в соборе и когда начали ходить смотреть их, Висковатый нашел, что многие из них представляют собою нововводное и противное соборным правилам об иконописании измышление. Он полагал, что 7-й вселенский собор не дозволяет писать на иконах ничего, кроме образа Спасителя по плотскому Его смотрению или виду, кроме распятия Господня и кроме образов Богородицы и святых, т. е. ничего, кроме, так сказать, исторических, воспроизводящих реальную действительность портретов; между тем на новых иконах изображены были: Бог Отец или Господь Саваоф по видению пророка Даниила в виде седовласого старца; святая Троица в виде трех ангелов; Спаситель символически в нескольких видах — в виде ангела с крыльями, сидящего на верху креста в доспехе, в виде младого юноши, облеченного в броню и имеющего в руке меч, в виде царя Давида; Дух святый в образе голубя, и целые сюжеты многих икон представляли взятое не из мира вещественно-видимого, таковы иконы: Предвечный совет, Почи Бог от дел своих, Единородный Сын, Слово Божие, Приидите людие триипостасному божеству поклонимся, Верую во единаго Бога, написанное при том в двух различных видах (в церкви в одном виде, на паперти в другом) и некоторые другие»{1852}. Висковатый был убежден в том, что через новые иконы Сильвестр распространял ересь Башкина и Артемия: в изображении Христа в виде ангела он усматривал отрицание равенства Иисуса Христа с Богом Отцом, а изображение Иисуса на кресте со сжатыми дланями (а не раскрытыми) и с ослабленными руками (а не вытянутыми по кресту прямолинейно) воспринимал как «мудрование тех, которые утверждали, что Он (Иисус Христос) не очистил нас от греха и которые считали его за простого человека»{1853}. Сколь обоснованы были обвинения Ивана Висковатого? Не являлись ли они надуманными и несправедливыми? Историки по-разному отвечают на эти вопросы. Некоторые исследователи полагали, что Висковатый переусердствовал по части бдительности, зря волновался и будоражил народ, выдавая кажущееся ему за действительное. Именно в этом ключе рассуждал митрополит Макарий (Булгаков): «Так как некоторые из новых икон, особенно в придворной Благовещенской церкви, непохожи были на те, какие прежде в ней были и к которым все привыкли; так как одного из священников этой церкви, Сильвестра, по распоряжению которого и писаны новые иконы, Висковатый подозревал в единомыслии с Артемием, а другого священника, Симеона, признавал духовником Башкина, то пришел к мысли, не приведены ли в новых иконах под видимыми образами еретические мудрования. Увлекшись такою мыслию, Висковатый начал критиковать новые иконы, порицал их вслух всего народа к соблазну православных…»{1854}. Современный ученый-историк А. А. Зимин отнес высказывания Висковатого относительно новых икон к разряду домыслов{1855}. Однако еще Е. Е. Голубинский говорил: «Висковатый был прав и ошибался только в том, что ссылался на 7-й вселенский собор. Не 7-й вселенский собор, а отчасти 6-й вселенский собор, главным же образом отцы и учителя церкви, прежде и после 7-го вселенского собора защищавшие иконопочитание от иконоборцев, указывая цель и назначение икон и отстраняя деланные против них возражения, говорят, что иконы должны быть изображением действительных лиц и действительных событий, так чтобы иконописание представляло из себя в строгом смысле слова живопись историческую (было так сказать историей в красках)»{1856}. А. В. Карташев, отмечая излишнюю подозрительность Ивана Висковатого, вместе с тем признал, что Висковатый правильно указал на «самоограничительную черту вероопределения VII Всел. Собора. Под давлением иконоборческой критики отцы собора в защите иконопочитания вообще оперлись на не потрясаемую основу. А именно: — на догмат боговоплощения, на веру в реальность (а не монофизистскую призрачность) человеческой природы во Христе. Христос евангельский и вся его видимая земная история есть бесспорный предмет наглядного изображения в формах пластических искусств. В 52 правиле Трулльского собора (692 г.) этот «исторический» реализм иконописания заостряется даже до прямого запрещения изображать Христа в образе агнца, ибо символ агнца относится к «сеням и прообразам» минувшего «закона». Мы уже должны «предпочитать исполнение закона, благодать и истину», и потому Христа «на иконах представляти по человеческому естеству, вместо ветхаго агнца». Таким образом, придирчивая критика Висковатого права в ссылке на букву древних правил. Но предпосылки последних — зримый исторический факт — может толковаться и более расширенно. Напр., явление Св. Троицы Аврааму в виде трех странников, которых он угощал обедом. Хотя это было и видение, но для Авраама оно было осязательным ярким фактом. И знаменитый инок Андрей Рублев, пиша свою знаменитейшую Троицу, ни минуты не колебался, что будто бы он этим нарушает запреты вселенских соборов. Следовательно, и в восточной иконографии была тенденция широкого истолкования соборной директивы. Но все-таки вопрос об иконном изображении библейских сновидений и апокалиптических видений являлся новым, исторической практикой непредвиденным. Здесь художество западных христиан пошло дальше привычек Востока. И протест Висковатого становится понятным, не только как симптом русской склонности к обрядоверию, но и как чуткая ревность о чистоте православия в атмосфере XVI века, насыщенной электричеством протестантизма и свободомыслия»{1857}. Признав факт нарушения в некоторых возобновленных иконах и фресках правил иконографии, принятых отцами церкви, А. В. Карташев воздержался от каких-либо специальных замечаний по существу кураторской деятельности Сильвестра, но при этом дал понять, что не верит обвинениям Ивана Висковатого, хотя и не сомневается в искренности последнего: «Во встревоженной атмосфере Москвы даже друг митр. Макария, протопоп Сильвестр, мог показаться подозрительным для Висковатого, потому что Сильвестр внешне дружил с Артемием. А Благовещенский Симеон долго возился с Башкиным. Как только коалиция упрощенных московских консерваторов подняла шум и около Башкина и около Артемия, Висковатому даже искренне могло показаться, что попустительство Сильвестра иконографическому новаторству псковичей может быть связано с еретической отравой, идущей с Запада»{1858}. Недвусмысленную позицию в данном вопросе занимает новейший исследователь И. Граля: «Обоснованность выводов посольского дьяка не подлежит сомнению в свете развернувшейся более чем век спустя реформаторской деятельности патриарха Никона. Лучше всего доказывают это постановления московского собора 1667 г., категорически запретившие какие бы то ни было изображения Бога-Отца, а также любые символические и ирреальные образы»{1859}. Хотя Висковатого и осудил церковный собор, «дальнейшее развитие религиозной дискуссии, ведущейся вокруг иконописи, показало, что дьяк в большинстве вопросов был ближе к истине, чем собор и митрополит»{1860}. Правоту Висковатого историк видит, прежде всего, в установленной посольским дьяком неканоничности ряда икон, тогда как его обличения Сильвестра в ереси всерьез не принимает: «Внесенные на обсуждение собора в атмосфере нараставшей подозрительности откровения Висковатого носили характер публичного обвинения Сильвестра и Симеона в пособничестве ереси. Свидетельство незаурядного советника монарха могло иметь пагубные последствия для обоих обвиняемых, но проведенное расследование обвинений не подтвердило»{1861}. Таким образом, исследование «дела Висковатого» показывает, что в иконах, поставленных вновь после «великого пожара» 1547 года в Благовещенском соборе под присмотром попа Сильвестра, таких как «Предвечный Совет», «Почи Бог от дел своих», «Придите людие, Триипостасному Божеству поклонимся», «Верую во Единаго Бога», «Единородный Сын» и др., запечатлено явное отклонение от канонической иконописи, характеризуемое произвольным аллегоризмом, небезопасным для чистоты православной веры. Особенно это касалось изображения Иисуса Христа в виде ангела, юноши и царя Давида, а также в принципе — изображения Троицы в виде трех ангелов. Вообще же надо сказать, что новая иконография тяготела к Ветхому Завету, к пророческим образам{1862}. Поражали вольностью своей и росписи. На фресках Благовещенского собора среди христианских святых были изображения Гомера, Демокрита, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Вергилия и др. Любопытен портрет Аристотеля, держащего в руках развернутый свиток с надписью: «Первые Бог, потом Слово и Дух, а с ним едино»{1863}. Не исключено, что данная надпись — поправка к начальной фразе Евангелия от Иоанна («В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог»){1864}. Если это так, то Аристотель здесь не только приобщен к сонму православных святых, но и чуть ли не возведен в апостольский ранг, что являлось еретической выходкой, направленной против христианства. Еще более показательны в данном отношении слова упомянутой только что нами поправки к начальной фразе Евангелия от Иоанна, искажающей канонический евангельский текст. Но существо дела здесь не столько в искажении евангельского текста, сколько в раскрытии Троицы как последовательного единства Божия (сначала Бог, а потом Слово и Дух), что не вполне соответствовало христианскому учению, поскольку в Святой Троице «ничтоже первое Или последнее, ничтоже более или менее, но целы три ипостаси, соприсносущны себе и равны»{1865}. Что скрывалось за этой дышащей ветхозаветной древностью новацией, запечатленной росписью Благовещенского собора, догадаться нетрудно. То была получившая распространение на Руси в рассматриваемое время антитринитарная ересь. Вполне закономерен вопрос, где искать источник иконографических и фресковых нововведений и что можно сказать об отношении к ним Сильвестра. Исследователей больше занимал первый вопрос, нежели второй. Согласно Е. Е. Голубинскому, греческие иконописцы давно вышли на свободу творчества за пределы, очерченные вселенскими соборами и отцами церкви. Поэтому «значительной части икон, против которых восставал Висковатый, могли быть указаны многочисленные существовавшие образцы, каковое указание и сделал митрополит в своем ответе Висковатому. Греческих образцов некоторых икон митрополит не мог указать, потому что иконы, т. е. сюжеты, были заимствованы новгородскими иконописцами от живописцев западных»{1866}. А. В. Карташев, говоря о виртуозности и новизне «иконных комбинаций» новгородско-псковских иконописцев, замечал, что источник этих комбинаций «история русского искусства без труда открыла в образцах иконописи и живописи германской. Доступным средством ознакомления наших пограничных с Западом псковских мастеров явилась тогдашняя уже печатная немецкая гравюра. Псковичи набросились на новинки и не без творческой оригинальности внесли много новизны в графику, в краски и особенно в самые иконные сюжеты в стиле богословских аллегорий. До сих пор сохранившаяся иконостасная живопись Благовещенского собора, хотя и правленная, бросается в глаза своей непривычной для старой Москвы выборностью»{1867}. По словам Р. Г. Скрынникова, «XVI век — время перелома в русском иконописании, и раньше всего этот перелом сказался в Новгороде и Пскове. Прежнее иконное письмо, сложившееся под влиянием византийской школы, пришло в упадок. В живописи появились новые темы и композиции, все более сказывалось увлечение декоративным символизмом. Икона стала изображать скорее идеи, чем лики. Она превращалась в иллюстрацию к библейским и апокрифическим текстам. И в этом случае Новгород оказался подвержен западным влияниям в большей мере, чем Москва. Висковатый уловил перемену и решительно восстал против нее…»{1868}. Итак, следует согласиться с учеными, выявившими два источника новшеств в иконографии и росписях Благовещенского собора и царских палат середины XVI века — восточный (православный) и западный (католический и протестантский). Но это общее определение нуждается в некоторых комментариях. Начнем с восточных образцов иконописания. Немало икон, вызвавших протест у Ивана Висковатого, действительно имели аналоги в восточной иконописи, стремившейся выйти на свободу творчества за рамки предписаний вселенских соборов и отцов церкви. Были у авторов этих икон и отечественные образцы, в частности Святая Троица Андрея Рублева, изображенная в виде трех ангелов. Стоглавый собор, как известно, велел иконописцам писать иконы с восточных образцов, не вникая особенно в их детали и тонкости, а также безоговорочно следовать творчеству Андрея Рублева и других прославленных русских мастеров: «Писати живописцем иконы з древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочии преславущии живописцы, и подписывати «Святая Троица», а от своего замышления ничто же предворяти»{1869}. Это правильное в своей основе соборное предписание, сформулированное, так сказать, в абстрактном плане, не учитывало должным образом специфики религиозной ситуации, сложившейся на Руси середины XVI века, — подъема еретических движений, затронувших практически все слои русского общества. В обстановке религиозного замешательства древние образцы греческой иконографии, выполненные в духе свободного творчества (т. е. с нарушением установленных канонов), приобретали значение прецедентов, которыми умело пользовались противники православной веры, внося в написание икон новые антихристианские элементы и прикрываясь при этом иконописной традицией. В результате эта традиция, наполняясь новым содержанием, лишь по форме являлась традицией, тогда как по сути не была таковой. То же самое можно сказать и об иконописи Андрея Рублева, в частности о его замечательной Троице. А. В. Карташев был, безусловно, прав, когда говорил о том, что Андрей Рублев, создавая свою знаменитую Троицу, «ни минуты не колебался, что будто бы он этим нарушает запреты вселенских соборов»{1870}. Не колебались тут, по всей видимости, и современники великого иконописца, жившие в конце XIV — начале XV века. Но в середине XVI века, во время еретических шатаний в русском обществе, представлявших для православия серьезную угрозу, пример Рублева мог служить и служил, как это видно в случае с Благовещенским собором, прикрытием для иных целей. Полагаем, что обо всем этом необходимо помнить при рассмотрении восточных и отечественных источников кремлевской иконографии середины XVI века. Что касается западных источников этой иконографии, то их нельзя, на наш взгляд, сводить к одному лишь новаторству новгородских и псковских иконописцев, заимствовавших иконописные сюжеты у живописцев Западной Европы. Подобное заимствование, несомненно, имело место. Но нельзя забывать и того, что некоторые «консультанты» по части сюжетного оформления икон находились не на Западе, а в России — в Москве и даже в Кремле. То были еретики, с видными представителями которых Сильвестр, руководивший иконописными и расписными работами, был «советен». Вместе с ними или под их влиянием (в принципе это неважно) Сильвестр ввел в кремлевскую живопись еретические мотивы. И дьяк Иван Висковатый, обладавший по тогдашним временам незаурядной богословской эрудицией, сразу почуял тут неладное. Не так уж он был не прав, заподозрив, что через новые иконы проводятся еретические идеи. Так, в изображении Иисуса Христа ангелом он увидел отрицание равенства Христа с Богом{1871}, что являлось характерным для еретиков, отдававших предпочтение ветхозаветному Богу. Нетипичные для православной веры особенности изображения Спасителя на кресте не без основания показались ему «мудрованием», за которым скрывалась ересь, отвергавшая божественную природу Христа и считавшая его простым человеком{1872}. Порождала известные сомнения и благовещенская икона «Троица» с ее несколько грузными (очеловеченными в стиле Ренессанса) ангелами и помещенным на втором плане двухэтажным зданием, «в архитектуре которого прослеживаются черты западного Возрождения»{1873}. Сильвестр, отводя обвинения Ивана Висковатого, выдвигал два основания своей невиновности: написание икон по древним образцам и одобрение их царем Иваном и митрополитом Макарием «со всем освященным собором». Особенно он напирал на последнее обстоятельство: «И те иконы, которые во Пскове писаны, привезли же на Москву, и Царь и Государь те старые привозные иконы честно проводил со честными кресты и молебная совершал Митрополит со всем освященным собором <…> а в Благовещенье и во Архангеле и у вознесенья новые иконы Царь и Государь велел поставляти, а о которых святых иконах Иван соблажняется, да что в полате въ притчи писаны, ино святый Митрополит государь, и святые владыки, и архимандриты, игумены и протопопы, и протодиаконы, и весь освященный собор, ведает…»{1874}. Эта оплошность, допущенная царем и митрополитом, спасла, по всей видимости, Сильвестра. В противном случае, т. е. в случае признания справедливости обвинений Висковатого, Иван IV и Макарий оказались бы в весьма щекотливом положении. Вот почему не стоит говорить, будто митрополит Макарий защитил Сильвестра от нападок Висковатого{1875}. Макарий защитил себя, свой престиж и авторитет как главы русской церкви. Сильвестра не так-то просто было взять, ибо его влияние тогда являлось, по словам Р. Г. Скрынникова, «неколебимым. Молодой государь слушал его как наставника. К тому же Сильвестр пользовался особым покровительством семьи удельного князя Владимира Андреевича»{1876}. И все же собор, даже осудив Висковатого, согласился с отдельными его замечаниями и «приказал сообразно им исправить иконы»{1877}. Примечательно и то, что митрополит Макарий так и не смог указать на старые греческие иконы, послужившие образцами при написании некоторых новых икон{1878}. Тем не менее он не принял сторону Ивана Висковатого. Означает ли это, что митрополит был убежден в религиозной чистоте Сильвестра? Вряд ли. Кое-что в данном отношении проясняет современное тем событиям публицистическое сочинение — анонимная «Повесть некоего боголюбива мужа, списана при Макарье митрополите Царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всей Руси, да сие ведяще, не впадете во злыя сети и беззакония отъялых и прелщеных человек и губительных волков, нещадяще души, ей же весь мир не достоин, прочетше же сие, человецы, убойтеся чары и волхования, творяще скверная Богу, и грубая и мерекая и проклятая дела»{1879}. По мнению П. А. Садикова, «Повесть некоего боголюбивого мужа… царю и великому князю Ивану Васильевичу всей Руси» вышла из литературного окружения митрополита Макария{1880}. Весьма вероятно, что к созданию «Повести» имел «прямое отношение Макарий»{1881}. Хотя она «непосредственно адресовалась Ивану IV»{1882}, но предназначалась широкому кругу читателей, что явствует из слов ее заголовка «прочетше же сие, человецы, убойтеся чары и волхвования, творяще скверная Богу…». Это позволяет рассматривать «Повесть» как памятник религиозно-политической борьбы в России середины XVI века. Ф. И. Буслаев в своих примечаниях к «Повести» замечал: «Эта повесть замечательна по намекам на грозный нрав и дела Иоанна IV <…>. Враждовавшие в его царствование партии выступают и в повести. Главная завязка ее — чародейство, которого, как исторически известно, сильно боялся Иоанн»{1883}. Согласно П. А. Садикову, «все сочинение било на веру царя в колдовство и под видом советников-чародеев призрачно разумело его сотрудников по «избранной раде», стремясь доказать необходимость для него и государства осуществления подлинного, ни от кого не зависимого «самодержавства»{1884}. Цель «Повести» П. А. Садиков видит в предостережении царя «от неверных «синклит» (советников), которые стали бы склонять его верить своим чародейским книгам»{1885}. Сходные суждения высказал И. И. Смирнов, считавший целью написания «Повести некоего боголюбивого мужа» воздействие на царя Ивана, чтобы побудить его «к борьбе против тех «синклитов», т. е. бояр, которые являлись противниками усиления самодержавной власти Ивана IV»{1886}. При этом «основной огонь «Повесть» направляет против «синклита чародея», едва не погубившего вместе со своими «единомышленниками» некоего благочестивого царя»{1887}. Обратимся, однако, к самой «Повести». В ней говорится о царе, благоверном, боголюбивом и милостивом, любившем суд и правду. Царство его изобиловало «всеми благими», а воины его «враги побеждаху, яко огнь попалящ лица противных»{1888}. И вот «прилучися некто у того благочестиваго царя синклит чародей зол и губитель муж, царем же он зело любим бе, и нача въ уши влагати ложная царю»{1889}. Этот чародей-советник собрал вокруг себя единомышленников и вместе с ними «нача ложная царю глаголати, и оклеветати неповинныя, и смути царя на людей, людей же на царя, и оскорби царь неповинных различными печалми, и сам от них печаль имяше и страхование…»{1890}. Все это живо напоминает первые годы царствования Ивана IV, призывавшего подданных к общественному примирению и согласию, напоминает образование при государе группы советников («синклита»), собранных любимцами царя Сильвестром и Адашевым, и усиление борьбы придворных партий, явившейся следствием деятельности данного «синклита», или Избранной Рады. Советник-чародей, рассказывает «Повесть», погубил бы царя окончательно, если бы того Бог не уберег. Особый интерес для характеристики «синклита чародея» представляет глас Божий, обращенный к царю: «Воспомяни, Аз избрах тя царя, и преславна тя сотворих, ты же поругася Мне, отступи от Мене, и приложися к бесом, остави всемогущую Мою помощь и силу, совокупися со враги креста Моего, на нем же Аз распялся за весь мир…»{1891}. Бог здесь — Иисус Христос. Следовательно, грех царя, поддавшегося влиянию «синклита чародея», состоял в отступничестве от Спасителя и утрате веры в животворящую силу Креста. Это есть как раз то, что присуще было еретикам в России конца XV — середины XVI века. Так автор «Повести» опосредованно, через царя, обвиняет советника-чародея «со единомышленными» в ереси. Причастность «синклита чародея» и его друзей к ереси подчеркивается способом расправы с ними: «Царь же прелщения их поведа епископу и всем людем бывшая от них, осуди их смертию, и повеле их всех пожечи огнем…»{1892}. Сожжению тогда подвергались, как известно, еретики. Таким образом, «Повесть некоего боголюбивого мужа» позволяет сделать предположение о том, что митрополит Макарий и люди из его окружения испытывали немалые сомнения относительно религиозной чистоты Сильвестра и его единомышленников. Убежден был в чародействе Сильвестра и царь Иван Васильевич Грозный. Князь Курбский в первом своем послании Грозному вопрошает: «Почто, царю, силных во Израили побил еси <…> и на доброхотных твоих и душу за тя полагающих неслыханные от века муки и смерти и гоненья умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгая православных и тщася со усердием свет во тьму прелагати и сладкое горько прозывати?»{1893}. Здесь Курбский наверняка имел в виду и Сильвестра, невинно, как заявлял князь, пострадавшего от царя Ивана, подобно другим «доброхотным». Попутно заметим: сам Курбский сознавался, что наслышан о чудесах (чародействе), творимых Сильвестром, но только не знал-де, истинные ли то были чудеса или вымышленные с целью педагогического воздействия на молодого государя, чтобы вывести его «на стезю правую»{1894}. Среди «доброхотных», коих Иван Грозный обвинял в чародействе, Курбский, по всей видимости, числил и Алексея Адашева, что явствует из третьего его послания Ивану, где читаем: «А еже пишеши, аки бы царицу твою очаровано и тобя с нею разлучено от тех предреченных мужей…»{1895}. Нет сомнений, что «предреченные мужи» — это Сильвестр и Адашев. По тем временам обвинить в чародействе — значит обвинить в еретичестве. Надо сказать, что мы располагаем редкими сведениями источников о религиозных предпочтениях Адашева, да и то они носят косвенный характер. Известно, например, его присутствие при доносе Сильвестра и благовещенского священника Симеона государю на сына боярского Матвея Башкина, впавшего в ересь. В челобитной митрополиту Макарию поп Сильвестр писал: «И как государь из Кирилова приехал и язъ съ Семионом то Царю Государю Великому Князю все сказали про Башкина, а Ондрей протопоп и Алексей Адашев то слышали жъ»{1896}. Ересь Башкина, как мы знаем, Сильвестр долго утаивал. И лишь когда дело приобрело скандальный оборот, Сильвестр, чтобы отвести от себя подозрение, отмежевался от Матвея и донес на него царю Ивану. Ситуация, по-видимому, был настолько серьезной и угрожающей, что в нее решил вмешаться Алексей Адашев и, разумеется, на стороне Сильвестра. Трудно предположить, что тот не информировал своего друга своевременно о ереси, просочившейся в Кремль. Столь же трудно предположить, что Адашев не был с Сильвестром «заодин» в благожелательном отношении к дворцовым еретикам. Другое известие, побуждающее задуматься относительно Адашева, сообщает Пискаревский летописец: «А житие его (Адашева. — И.Ф.) было: всегда пост и молитва безспрестани, по одной просвире ел надень»{1897}. Курбский, превознося нравственные качества Адашева, говорил: «Понеже той был Алексей не токмо сам добродетелен, но друг и причастник, яко Давыд рече, всем боящимся Господа и сообщник всем хранящим заповеди его. И колко десят имел прокаженных в дому своем, тайне питающее и обмывающее их, многожды сам руками своими гной их отирающа»{1898}. Перед нами тайна, легко переходящая в гласность, больше того: рассчитанная на гласность. Такое наружное и показное благочестие внушает подозрение, поскольку к нему обычно прибегали еретики, скрывавшие свою истинную веру и желавшие выдать себя за правоверных христиан. А столь избыточное (для человека положения Адашева) и отнюдь не тайное «подвижничество» преследовало, скорее всего, цель произвести впечатление на окружающих и создать вокруг себя ореол святости. И Курбский взял на себя смелость, вопреки церковным правилам, назвать Адашева святым{1899}. Курбский приводит один любопытный рассказ, характеризующий связи Алексея Адашева: «Тогда-то убиенна Мария преподобная, нарицаемая Могдалыня, с пятью сынами своими, понеже была родом ляховица, потом исправилася в правоверие и была великая и превосходная постница, многажды в год единова в седмицу вкушающа, и так во святом вдовстве провозсиящия, яко на преподобном теле ея носити ей вериги тяжкие железные, тело порабощающе, да духу покорит его. И прочих святых дел ея и добродетелей исписати тамо живущим оставляя. Оклеветанна же перед царем, аки бо то была чаровница и Алексеева согласница, того ради ее погубити повелел и со чады ея, и многих других с нею»{1900}. Этот рассказ заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов особо. Первое, что привлекает наше внимание, — имя «ляховицы»: Мария Магдалина. Это имя, привычное у католиков, совершенно не типично для русской православной ономастики. Однако, несмотря на «исправление в правоверие» (т. е. переход в православную веру), «ляховица» сохранила свое прежнее имя, тогда как должна была бы получить новое. Здесь, стало быть, мы имеем либо «исправление» фиктивное (на словах, а не на деле), либо намек на особое религиозное значение сохраненного имени и его носительницы, либо то и другое вместе. Мы склоняемся к последнему варианту. Правда, рассказ Курбского можно истолковать и несколько иначе: «ляховицу», названную при обращении в православную веру Марией, стали затем звать Магдалиной, почему она и «нарицаемая Могдалыня»{1901}. Но при любом осмыслении рассказа видна не свойственная православной морали амбициозность «ляховицы», выражающаяся в стремлении соотнестись с известной «героиней» Святого Евангелия. А. Курбский, следуя, очевидно, существовавшей практике общения новой Магдалины со своими почитателями, прилагает к ней определение преподобная, причем преподобным называет и ее тело, изнуряемое постом и тяжкими железными веригами. Дела «ляховицы» Курбский, надо полагать, по примеру других восторженных ее почитателей, относит к разряду святых. Однако на роль преподобной «ляховица Могдалыня» явно не подходила. В православном мире преподобными именовали святых из монашеской братии, стяжавших «высшее нравственное достоинство своими подвигами и святостью жизни»{1902}. Наша «ляховица» не соответствовала этим критериям уже потому, что не являлась монахиней и «квалификацию» «преподобная» присвоила себе, судя по всему, самочинно. Вызывают недоумение слова Курбского о «преподобном теле» Магдалины, далеко отстоящие от православия. Но если учесть, что «Могдалыня» была объявлена как «чаровница» (колдунья), то кое-что проясняется, и мы можем с достаточным основанием говорить, что в этих словах слышится нечто еретическое. Западное происхождение Марии Магдалины (она — «ляховица», т. е. полька{1903}) говорит о многом. Именно с Запада, охваченного реформационными ересями, приезжали к нам еретики, развращавшие русских людей антихристианскими учениями. Там они укрывались, когда на Руси им грозила опасность. Нередко их приезды в Россию осуществлялись организованно, под эгидой западных еретических братств. Возможно, таковым был приезд и Магдалины, развернувшей активную деятельность по обращению в свою веру нестойких в православии христиан. И она преуспела в этой деятельности, собрав вокруг себя немало сторонников, что, собственно, подтверждает и Курбский, сообщая насчет ее казни «со чады» и «многими другими». Под «многими другими» подразумевались, несомненно, единомышленники Марии, которых она собрала, будучи в Русии. Стало быть, есть основание заключить о создании «чаровницей» нечто похожего на еретическую организацию, секту. Центром ее стал дом Алексея Адашева, в котором она, по догадке Р. Г. Скрынникова, обитала, но не в качестве приживалки, как полагает исследователь{1904}, а в роли руководительницы группы еретиков, сплотившихся вокруг нее. Судя по рассказу Курбского, на еретической ниве Мария трудилась не одна, а вместе с Алексеем Адашевым. Ее казнили как сообщницу, соучастницу («согласницу»{1905}) Алексея. Не так уж нелепо предположение о том, что Марию Магдалину кто-то направил из Польши или Литвы в помощь Адашеву. Если это так, то приоткрывается потаенная, тщательно скрываемая сфера деятельности Алексея Адашева, связанная с еретичеством. Нам, разумеется, могут сказать: Мария Магдалина, по свидетельству Курбского, была оклеветана как в том, что была «чаровницей», так и в том, что являлась «согласницей» Алексея Адашева. Это, конечно, так. Но бесспорно также и другое: клевета должна была выглядеть правдоподобно, т. е. соответствовать в какой-то мере реальной жизни. Данное обстоятельство нельзя отбрасывать при анализе рассказа Курбского. Этот рассказ, особенно в той части, где говорится о преподобном теле Марии Магдалины, обнаруживает и в самом рассказчике вольности, непозволительные для православного человека. Что это: из ряда вон выходящий случай или некая тенденция? Настал момент спросить и Курбского, «како веруеши». Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским содержит некоторые детали, обнаруживающее определенное (похоже, эпизодическое{1906}) неблагополучие в вопросах православной веры и у князя Андрея. Оказывается, Курбский, по словам Грозного, отступил от «божественного иконного поклонения» и «священных повелений» (т. е. догматов){1907}, а также проявлял особую склонность к Ветхому Завету («ветхословие любиши, к сему тя и приложим»){1908}, отнюдь не безобидную, а чреватую, как явствует из ответа царя Яну Роките, отпадением в ересь «жидовствующих»: «А еже от прочих словес о 2-законии словесех, аще нужда их держати, то нужда есть и обрезоватися и вся Моисеева Закона блюсти (и сего ради жидовствующе являетеся, истинным християном не подобно), — яже Христос своего божественаго плотского смотрения таинством разруши и Нов Завет законоположи»{1909}. Если Иван Грозный, говоря о любви Андрея Курбского к «ветхословию», имел в виду предпочтительное отношение Курбского к Ветхому Завету перед с Новым Заветом, то естественно возникает вопрос, от кого позаимствовал князь Андрей такого рода отношение. Ответ тут возможен один: от еретиков, с которыми, по-видимому, общался. Помимо прочих, надо полагать, то были люди его круга, и весьма возможно, что — люди, принадлежавшие к Избранной Раде. А. Курбский не чужд был мысли о «свободном естестве человеческом»{1910}, созвучной реформационным учениям. Она едва не завела его в манихейскую ересь, о чем Грозный говорил так: «А еже писал еси, аки не хотящу ми предстати нумытному судищу, — ты же убо на человека ересь покладываеш, сам подобно манихейстей злобесной ереси пиша. Яко же они блядословят, еже небом обладати Христу, на земли же самовластным быти человеком, преисподними же дьяволу…»{1911}. Иван, поправляя своего корреспондента, утверждал: «Тако же и се вем: обладающу Христу небесными и земными и преисподними, яко живыми и мертвыми обладая, и вся на небеси и на земли и преисподняя стоит его хотением, советом Отчим, благоволением Святаго Духа; аще ли не тако, сия мучение приемлют, а не якоже манихеи, яко ж блядословиши о неумытном судище Спасове…»{1912}. С точки зрения формальной, приведенные слова Ивана Грозного являлись ответом на следующий фрагмент из первого послания князя Андрея царю: «Али ты безсмертен, царю, мнишися, и в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытому судне, надежде христьянской, богоначяльному Исусу…»{1913}. Однако простое сравнение ответных слов Грозного с данным фрагментом показывает их, если можно так выразиться, непропорциональность: ответ Ивана и шире и глубже по содержанию, чем процитированный текст послания Курбского. Отсюда следует, что Иван Грозный отвечал, вероятно, не только непосредственно на «писание» князя Андрея, но и на нечто другое, например на давние религиозные споры и обсуждения со своим бывшим другом и даже, быть может, на распространенные среди сотоварищей Курбского по Избранной Раде взгляды, относящиеся к сфере религии. Последнее предположение тем более правдоподобно, что Иван Грозный, предназначая свое послание для «всего Российского царства», выступал не против одного Курбского, но всех «крестопреступников» в целом{1914}. Значит, и ответ свой здесь он мог дать всем разом, хотя по форме отвечал лишь только Курбскому. Критика Грозным отклонений Курбского от православия (царь, можно сказать, обвинял его в манихейской ереси){1915} не являлась совершенно беспочвенной. Это явствует из некоторых высказываний князя. В заключительной части его третьего послания царю читаем: «Очютися и воспряни! Некогда поздно, понеже самовластие наше и воля, аже до распряжения души от тела ко покаянию данная и вложенная в нас от Бога, не отъемлетца исправления ради нашего на лутчее»{1916}. По Курбскому, следовательно, человек на земле самовластен и волен. И не столь уж важно, что самовластие, как считал Курбский, даровано человеку Богом, что корень добрых поступков человека в божественной благодати, а не в самовластии{1917}. Главное заключается в том, что человек в земной жизни наделен самовластием и волей, т. е. независимостью и способностью управлять своими действиями и поступками{1918}, иначе — властвовать на земле. Это как раз то, в чем царь обвинял Курбского, уличая его в манихейской ереси. Поэтому нельзя, на наш взгляд, поддержать А. И. Клибанова, когда он говорит, будто «концепция самовластия, которой придерживался в своей полемике с Иваном IV Курбский, ничем существенно не отличается от того, что писал о самовластии Иван IV в своем ответе Роките и в своем ответе Сигизмунду II Августу»{1919}. Посмотрим внимательнее, так ли это. В ответе богемскому брату Яну Роките царь Иван Грозный неоднократно рассуждает на тему о самовластии человека. Бог, по Ивану, сотворил человека самовластным, каковым являлся Адам до своего грехопадения{1920}. Со времени «Адамского преступления» люди рождались «под завесою плоти», осужденные «смертию», которая царствовала «от Адама до Авраама, от Авраама до Моисея, а от Моисея до воплощения Христова. И не на согрешших царство смертное се, иже убо и праведнии, и до Христова воплощения смертию осуждены быша и во ад идяху»{1921}. Так «гнев Божий и вражда» пребывали «на человецех от Адама и до воплощения Христова», когда «Христовым божественным плотным смотрением вся сия разрушися: и смерть, и грех, и дияволя держава»{1922}. Иисус Христос снова «сотворил» человека самовластным вершить добро или зло{1923}. Стало быть, самовластие, согласно царю Ивану, «даровано было фактически дважды: в момент сотворения человека и после боговоплощения Христа»{1924}. Несколько иначе трактуется проблема самовластия человека в посланиях польскому королю Сигизмунду II Августу, написанных Грозным от имени русских бояр. Например, в послании от имени князя И. Д. Бельского читаем: «А што брат наш писал еси, што Бог сотворил человека и волность ему даровал и честь, ино твое писанье много отстоит от истины: понеже первого человека Адама Бог сотворил самовластна и высока и заповедь положи, иж от единаго древа не ясти, и егда заповедь преступи и каким осужением осужен бысть! Се есть первая неволя и безчестье, от света бо во тму, от славы в кожаны ризы, от покоя в трудех снести хлеб, от нетления во тление, от живота в смерть. И паки на нечестивых потоп наведе, и паки по потопе завет еже не снести душа в крови, и паки в столпотворении разсеяние и Аврааму веры ради обрезания и Исаку заповеление и Иякову закон, и паки Моисеом закон и оправдание и оцыщение, и преступником клятва дажь во Второзаконии и до убийства, та же благость и истина Исус Христом бысть и заповеди и законоуставление и преступающим наказание. Видиши ли, як везде убо несвободно есть, и тое твое, брате, писмо далече от истинны отстоит?»{1925}. Идентичный текст имеется также в письмах Сигизмунду II, направленных от лица И. Ф. Мстиславского{1926} и М. И. Воротынского{1927}. Здесь, как видим, самовластие даруется единожды при сотворении человека, а затем после грехопадения Адама изымается Богом навсегда («несвободно есть»). Таким образом, в ответе Грозного протестантскому проповеднику Яну Роките и в посланиях польскому корою Сигизмунду II Августу, написанных царем от имени бояр, заключены две различные концепции самовластия: 1) самовластие, дарованное Богом, существует с момента сотворения человека и до грехопадения Адама, после чего прерывается, а затем восстанавливается Иисусом Христом; 2) самовластие, вложенное Богом в первого человека, существовало до времени, когда Адам преступил Божью заповедь, и с тех пор «везде… несвободно есть»{1928}. Означает ли это, что Иван запутался в противоречиях и проявил неспособность усвоить ясный и твердый взгляд на вещи? Нет, не означает. Факт совмещения в его сознании двух концепций самовластия был отражением противоречивости самой действительности, относительной неразработанности проблемы самовластия человека в русской богословской литературе и, что особенно существенно, — отражением чрезвычайной остроты вопроса «о свободном естестве человеческом», обусловленной распространением еретических учений в России того времени, а также участившимися изменами, побегами подданных Ивана IV за рубеж. Само же различие концепций отражало различие задач, решаемых в рамках этих концепций. В первом случае, представленном в ответе Ивана Грозного брату Яну Роките, в форме богословского диспута разрешалась общая религиозно-философская проблема бытия человека, в частности проблема самовластия, рассматриваемая в антологическом ключе. Во втором случае, заключенном в посланиях царя Ивана королю Сигизмунду II, обсуждалась частная политическая проблема, связанная с правом свободного отъезда вассала от одного сюзерена к другому, приобретшего в середине XVI века характер одностороннего бегства бояр и служилых людей в иностранные государства, особенно в соседнее Польско-Литовское государство. Сигизмунд II Август, приглашая царских бояр И. Д. Бельского, И. Ф. Мстиславского и М. И. Воротынского к себе на службу, ссылался, помимо прочего, на «вольность» и «честь», дарованные Богом человеку в момент сотворения и с тех пор существующие как его неотъемлемое свойство. Грозный доказывал ошибочность положений польского короля, апеллируя к преходящей истории самовластия человека. Разумеется, идея самовластия была известна русским интеллектуалам задолго до времени Ивана Грозного. Предметом споров она также стала раньше этого времени. Предысторию подобных споров А. И. Клибанов ведет с начала XIV века{1929}, а действительную историю начинает с рубежа XV и XVI столетий{1930}. Грозный, следовательно, не располагал богатым наследием отечественных мыслителей, трактовавших проблему самовластия. К тому же по большей части то были вольнодумцы и еретики. Однако предшественники у Ивана все-таки были. К ним в первую очередь следует отнести Иосифа Волоцкого. Сравнение концепции самовластия, содержащейся в ответе Ивана Грозного Яну Роките, с аналогичной концепцией, заключенной в «Просветителе» Иосифа Волоцкого, показывает, что схема рассуждения царя повторяет схему волоцкого игумена «пункт за пунктом», что идеи Грозного тождественны идеям «Просветителя»{1931}. Нет сомнений, что царь Иван, с великим почтением относившийся к памяти Иосифа Волоцкого и прекрасно знавший его «Просветитель», брал именно у преподобного старца многие идеи, в том числе относящиеся к вопросу о самовластии человека. Уже одно это обстоятельство делает неприемлемым вывод А. И. Клибанова об отсутствии существенных различий между концепциями самовластия Ивана Грозного и Андрея Курбского{1932}. Как известно, Курбский питал глубокую неприязнь (если не ненависть) к Иосифу Волоцкому и его последователям — «вселукавым» мнихам-иосифлянам. Невозможно вообразить, чтобы Курбский, подобно Грозному, черпал вдохновение из «Просветителя» Иосифа Волоцкого и заимствовал оттуда идеи, касающиеся столь важной проблемы, как самовластие человека. Князь Андрей пользовался, по всей видимости, другими источниками и фактами. Нельзя в этой связи не отметить некоторое терминологическое созвучие между высказываниями Курбского и Сигизмунда II. Как можно догадаться по ответу Ивана Грозного польскому королю Сигизмунду II Августу, тот, рассуждая о самовластии человека, пользовался словами «вольность», «воля»{1933}. Курбский, говоря о самовластии, тоже соединяет его с понятием «воля»{1934}. Не свидетельствует ли это понятийное совпадение о том, что польский король и русский князь, толкуя о самовластии, исходили из реалий современной им польско-литовской действительности с ее панскими вольностями? Недаром самовластие, дарованное Богом, ассоциировалось у Курбского с привилеем: «Привилей нарицается царьской златопечатной лист, або грамота самого царя рукою подписана, на что будет данна и свобода им дарована еде в себе обдержить писанием. Сему уподобляюще, привилеем наречете самовластия волю от Бога дарованну и самое самовластие»{1935}. Курбский, следовательно, сравнивал самовластие, дарованное человеку Богом, с практикой пожалования феодальных привилегий, буйным цветом расцветших в Литве и Польше XVI века. Грозный решительно отвергал подобный взгляд на самовластие как несовместимый с русским самодержавством. С изрядной долей сарказма он писал беглому князю: «В нашей же отчине, в Вифлянской земли град Волмерь недруга нашего Жикгимонтов нарицаеши, се убо свою злобесную собацкую измену до конца совершаешь. А еже от него надеешися много пожалован быти, се убо подобно есть; понеже не хотесте под божиею десницею власти быти и от Бога нам данным и повинным быти нашего повеления, но в самовольстве самовластия (выделено нами. — И.Ф.) жити, сего ради такова и государя себе изыскал еси, еже по своему собацкому злобесному хотению, еже ничим же собою владеются, понеже от всех повелеваем есть, а не сам повелевая»{1936}. Таким образом, источником представлений Курбского о самовластии в сфере социально-политической являлась, по нашему мнению, польско-литовская действительность со свойственной ей вольностью панства. Эти представления, надо думать, возникли у него отнюдь не в годы проживания в Литве, а раньше, когда он входил в Избранную Раду, стремившуюся ограничить самодержавную власть Ивана IV и установить политический строй в России, сходный с тем, что существовал тогда в Литве и Польше. По-видимому, такого рода представления о самовластии разделялись и другими деятелями Избранной Рады. Но это — лишь социально-политический аспект учения о самовластии. Не менее важной является религиозно-философская сторона этого учения. И здесь у Курбского проглядывают довольно любопытные связи, вырисовываются довольно любопытные предшественники. Понятия самовластие, воля, душа, которыми оперирует Курбский, указывают на то, что ему было хорошо знакомо учение о самовластии души. Это учение поднимали на щит, как мы знаем, московские еретики конца XV — начала XVI столетия, в частности небезызвестный Федор Курицын. Его перу, судя по всему, принадлежит загадочное «Лаодикийское послание»{1937}, где читаем: Душа самовластна, заграда ей вера. А. И. Клибанов считал «Лаодикийское послание» программным сочинением, содержащим весьма далеко идущие идеи{1939}. Исследователь полагал, что «дух и буква «Лаодикийского послания» погружены в Ветхий Завет, в книги пророчеств Ветхого Завета, высоко ценимого <…> еретиками (не без этой причины их заклеймили православные обличители «жидовствующими»)»{1940}. Мотивы «Послания», по убеждению историка, «навеяны Ветхим Заветом и подобраны тенденциозно в духе реформационных идей»{1941}. «Лаодикийское послание», полагает он, было предметом пристального внимания «в тесном кружке еретиков, непосредственно связанных с Федором Курицыным: здесь мог быть истолкован и обсужден каждый тезис сочинения»{1942}. По вполне правдоподобному мнению А. И. Клибанова, теория «Лаодикийского послания» «в рассеянном, в корпускулярном состоянии присутствовала в мировоззрении и мировосприятии еретиков, и не их одних, а в кругах свободомыслящих людей, им современных»{1943}. Наполненность идейной атмосферы «корпускулами» этой еретической теории, очевидно, возрастала по мере нового прилива еретических движений в России, способствуя их проникновению в разные слои русского общества. Именно такую картину мы наблюдаем на Руси в середине XVI века. Своей ветхозаветной стариной некоторые идеи «Лаодикийского послания» могли импонировать Курбскому, любившему, по выражению Ивана Грозного, «ветхословие». Но исключительное следование этим идеям уводило в сторону от православия. Коснемся лишь двух сюжетов «Послания», подтверждающих, как думается, нашу мысль. Они заключены в первой и последней строках «Лаодикийского послания», несущих, по всему вероятию, основную смысловую нагрузку произведения. Не случайно, как заметил А. Л. Юрганов, оно «начинается и заканчивается одним и тем же словом — «душа»{1944}. В центре «Лаодикийского послания», следовательно, находится самовластная душа, символизирующая суверенного, свободного человека, имеющего опору не в Боге, а в себе самом{1945}. Перед нами сочинение, пронизанное духом индивидуализма, присущего реформационным гуманистическим теориям, но чуждого православной культуре, можно даже сказать, ей враждебного. «Душа самовластна, заграда ей вера» — так звучит первая строка «Лаодикийского послания». Возникает вопрос, допустимо ли построчное исследование памятника. Я. С. Лурье уверенно заявляет: «Нет необходимости доказывать, насколько ошибочен такой метод исследования. Как ни мало по величине «Лаодикийское послание», его, как и всякий источник, надо все же исследовать полностью, а не вырывать из контекста отдельные фразы, давая им произвольное, а подчас и просто искаженное толкование»{1946}. По нашему мнению, исследование данного источника, взятого в целом, не исключает его построчного изучения, что превосходно продемонстрировано А. Л. Юргановым{1947}. Не входя в обсуждение спорного вопроса о значении слова заграда и соотношении его со словом вера{1948}, подчеркнем в нашем случае главное — именно то, что в «Лаодикийском послании» идея свободы воли («душа самовластна») представлена «шире, чем это допускал ортодоксально-христианский индетерминизм»{1949}, что она, по выражению А. И. Клибанова, «противостоит концепции авторитарной религии, религии догм и обрядов»{1950}. Можно было бы сказать с большей исторической конкретностью, применяясь к событиям конца XV — начала XVI века в России. Ведь «Лаодикийское послание» — памятник еретической мысли, вышедший из круга «жидовствующих», во всяком случае, вращавшийся в круге «жидовствующих», а возможно, и за его пределами: среди склонных к вольнодумству и тех, кого, как говорится, медом не корми, но дай поумничать. С этой точки зрения оно являлось фактом ереси «жидовствующих» и предназначалось для обращения на Руси. Отсюда естественно предположить, что «Послание», будучи еретическим произведением, оппонировало, прежде всего, официальной вере — православию. А. Л. Юрганов думает иначе. «Возникает вопрос, — пишет он, — можно ли утверждать, что у тех, кого именовали еретиками, в самом деле были какие-то особые религиозные взгляды, отличные от церковной традиции? Вопрос этот трудный, но нет никаких оснований считать высказанные в «Лаодикийском послании» суждения еретическими. Даже вполне благосклонное отношение в нем к фарисейству лишь усиливает тезис о значимости христианской веры — «науки преблаженной»{1951}. Еретики, именовавшиеся «жидовствующими», придерживались все-таки взглядов, отличных от церковной традиции, и возражать против этого можно лишь по недоразумению. Что касается формулы душа самовластна, содержащейся в «Лаодикийском послании», то более вдумчиво, чем А. Л. Юрганов, к ней отнеслись, на наш взгляд, Я. С. Лурье и А. И. Клибанов. «Замечания Курицына о «самовластии», — говорит Я. С. Лурье, — позволяют предполагать, что идея «самовластия» занимала в учении московских еретиков важное место и, по-видимому, трактовалась не вполне ортодоксально (может быть, в духе пелагианства — еретического учения V в., придававшего решающее значение свободе человеческой воли)»{1952}. По А. И. Клибанову, «еретическое учение утверждало способность человека мыслить и действовать вне «ограды» той веры, что была кодифицирована и регламентирована церковью. Независимо от того, как называлась эта способность, она была «самовластной» на деле, а слово не заставило долго себя ждать. «Душа самовластна» — с этого начинаются разные версии «Лаодикийского послания», так постулируется в нем. Но в полном согласии с тем, что еретическое движение было не светским, а религиозным, постулат «самовластия души» обретает силу в том, что «оградой» души объявляется «вера». Только какая вера? Та вера, которая исповедовалась и проповедовалась еретиками, та самая заподозренная «московская вера», споров вокруг которой опасался Геннадий»{1953}. Мы знаем, что вера, которую исповедовали и проповедовали еретики в Новгороде и Москве на рубеже XV–XVI веков, была отступлением от христианства, своего рода новой верой, призванной заменить русское православие. Об этом свидетельствует не только «самовластие души», вышедшее за рамки христианской ортодоксии, но и сама «душа», находящаяся, согласно «Лаодикийскому посланию», в процессе создания, т. е. творения или созидания. Вот соответствующий текст Послания: Пророк ему наука. Привлекает внимание последняя фраза сим съоружается душа. В других списках памятника (более поздних) данная фраза звучит иначе: сим въоружается душа{1954}. А. Л. Юрганов не находит существенного различия между и съоружается и въоружается{1955}, тогда как А. И. Клибанов, осознавая это различие, предпочитает чтение въоружается чтению съоружается. При этом он говорит: «Здесь вера называется не оковами, а скорее доспехами души»{1956}. Но в том то и дело, что здесь речь идет не о вере, а о душе, которая в зависимости от различных списков «Послания» то сооружается, то вооружается. На наш взгляд, слово сооружается (от сооружати — строить, сооружать, создавать{1957}) более согласуется с контекстом «Лаодикийского послания», которое, по верному замечанию А. И. Клибанова, «возвело в достоинство наивысшей духовной ценности пророческий дар, сопряженный с мудростью. И это имело не одно отвлеченное, но и конкретное значение. Идеологи и руководители ереси видели собственное предназначение в том, чтобы выступать как пророки своего времени»{1958}. Среди последних «пасхальный тип» памятника выделяет главного пророка — «пророка-старейшину»{1959}, за которым скрывался, быть может, сам Федор Курицын, являвшийся «новому учению учитель», как впоследствии Феодосии Косой. Согласно этому учению, сформулированному в «Лаодикийском послании», самовластная душа созидается по мере утверждения человека в новой вере («сим съоружается душа»), исполненной пророческой мудрости. Пророк, следовательно, наделялся качествами, превращавшими его в некое подобие земного бога. То был явный отход от христианской догматической концепции сотворения души, имеющей свой источник в Боге, созданной промыслом Божьим и обладающей свободой воли (самовластием), дарованной Богом. Итак, князь А. М. Курбский и его друзья по Избранной Раде имели перед собой две разновидности учения о самовластии души: 1) богословски традиционное, представленное в святоотеческой учительной литературе; 2) еретическое, вышедшее из сообщества противников Христовой Веры, возглавляемых Федором Курицыным, и передававшееся еретиками от поколения к поколению на протяжении XVI века. Они взяли на вооружение второе и поступить иначе не могли, поскольку, следуя принятой в христианском богословии теории самовластия души, должны были признать русское самодержавство, основанное на единстве православной веры, апостольской церкви и самодержавной власти. Это единство выразительно запечатлел Иван Грозный в посланиях Сигизмунду II Августу, написанных от имени бояр. В двух из них, отправленных якобы боярином И. Д. Бельским и боярином И. Ф. Мстиславским, читаем: «…тричисленнаго божества воля и милость и десница самодержьство царя нашего утвержает и нас, достойных советников его, благостью осияет, и никакая же сия не токмо малая и худая сия пена, но и велие треволнение не может потопити, на камени бо церковьнем стоим, юже Христос утверди, ей же врата адова не одолеют, сего ради самодержавство царя нашего и наш вернейший совет не боимся погрязновения»{1960}. Еще раз на сей счет сказано в послании Сигизмунду II от имени боярина М. И. Воротынского: «…тричисленого божества воля и благость и десница самодержство царя нашего утвержает и нас, достойных советников его, благодатию осияет, и никакая же сия малая и худая пена, но и велие треволненье не может потопити, якоже реченно есть: «да ся пенит море и збесит, но Иисусова карабля не может потопити, на камени бо церковном стоит, юже Христос утверди, ей же врата адова не удолеют». Сего ради самодержство царя нашего и навернейший совет не боимся погрязновенья…»{1961}. Идеи Ф.Курицына о самовластии души, разделявшиеся А.Курбским и другими представителями Избранной Рады, вели прямой дорогой в схизму. Накат на Россию новой волны ереси в середине XVI века, разлившейся чуть ли не по всей стране, свидетельствовал, как мы уже отмечали, о сочувственном (если не покровительственном) отношении к еретикам со стороны Избранной Рады и ее главарей Сильвестра и Адашева, державших в своих руках аппарат власти. В противном случае ересь была бы подавлена на корню и вряд ли получила бы столь широкое распространение, проникнув, можно сказать, во все социальные группы российского общества, начиная от низших классов и кончая княжеско-боярской аристократией. По этому факту сочувствия (или покровительства) можно судить о том, какая серьезная опасность нависла тогда над православной верой, тем более что еретики выступали против основных догматов церкви, отвергая Святую Троицу, божественную природу Иисуса Христа, животворящую силу Креста, святость Девы Марии, веру в святых, особенно новоявленных, и др. Не следует думать, будто церковные соборы 1553–1554 гг. полностью погасили ересь. Нет, это не произошло по той причине, что благоприятная обстановка, созданная еретикам Избранной Радой, позволила ереси основательно укорениться. Поэтому выкорчевать ее было очень не просто. К тому же Сильвестр, Адашев и другие члены Избранной Рады пока еще находились у власти, что давало возможность им и далее оказывать схизматикам не только моральную, но и материальную поддержку. Есть основания полагать, что в конце 50-х — начале 60-х гг. XVI века религиозная обстановка на Руси снова обострилась. Косвенным образом об этом говорят некоторые элементы переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским, особенно первые послания корреспондентов, уверяющих друг друга в своей приверженности православным догматам. Так, Курбский старается убедить Грозного, что неколебимо верит в «пребезначальную» Троицу, «богоначального» Иисуса Христа, «заступницу», «владычецу» Богородицу и «всех святых», во Второе Пришествие и Страшный Суд{1962}. Послание Ивана Грозного открывается знаменательным вступлением: «Бог наш Троица, иже прежде век сый и ныне есть, Отец и Сын и Святый Дух, ниже начала имеет, ниже конца, о нем же живем и движемся, им же царие величаются и сиянии пишут правду; иже дана бысть единородного слова Божия Исус Христом, Богом нашим, победоносная хоруговь крест честный, и николи же победима есть…»{1963}. Затем на протяжении всего послания неоднократно звучат вариации на эту основную тему: «Но убо самое победоносное оружие, крест Христов, силою Христа Бога нашего, вам сопротивник да будет»{1964}; «мы же убо, християне, веруем в Троицы славимого Бога нашего Исус Христа <…>. Мы же убо, християне, знаем предстатели тричисленное божество, в не же познание приведени быхом Исус Христом Богом нашим, тако же заступницу християнскую, сподобльшуся быти мати Христа Бога, Пречистую Богородицу; и потом предстатели имеем вся небесныя силы, архаггели, и аггели…»{1965}; «сице аз верую Страшному судищу Спасову»{1966}, и т. п. Усердие и настойчивость, с которыми авторы посланий говорят о своей преданности догматам православной веры, могут на первый взгляд показаться излишними и даже странными: в самом деле, надо ли было столь методично заявлять о том, что являлось самоочевидным, самим собою разумеющимся. Однако всякие вопросы отпадут, если вспомнить напряженную и очень тревожную религиозно-политическую обстановку, возникшую на Руси середины XVI века вследствие нового всплеска еретических учений, подвергавших сомнению фундаментальные положения православной веры. Заявления Ивана Грозного и Андрея Курбского о приверженности постулатам православия следует, по всей видимости, рассматривать как их реакцию на деятельность еретиков. Но эта реакция имела в каждом отдельном случае особый смысл. Царь Иван IV, говоря насчет своей веры в христианские святыни, свидетельствовал о неизменной верности православию, тогда как Андрей Курбский, делая аналогичные признания, стремился произвести впечатление о себе как невинно страдающем добропорядочном христианине. Глубоко верующий государь не нуждался в религиозной реабилитации. Другое дело — Курбский, запятнанный связями с партией, покровительствовавшей еретикам, с партией, чьи лидеры Сильвестр и Адашев недавно были осуждены собором 1560 года. Ему требовалось подновление православного облика. Достичь этого он мог посредством изъявления преданности православным догматам и развенчания собора, осудившего Сильвестра и Адашева как «ведомых злодеев» и «чаровников»{1967}. Первое мы наблюдаем в послании Курбского царю Ивану, второе — в его «Истории о великом князе Московском». В этой «Истории» автор поместил злобную сатиру на собор, состоявшийся, как предположил С. Б. Веселовский, во второй половине сентября 1560 года{1968}. Царь, по словам Курбского, «собирает соборище — не токмо весь сенат свой мирский [Боярскую Думу{1969}], но и духовных всех, сиречь митрополита и градских епископов призывает, и ктому присовокупляет прелукавых некоторых мнихов — Мисаила, глаголемаго Сукина, издавна преславного в злостях, и Васьяна Беснаго, поистинне реченного, неистоваго, и других с ними таковых тем подобных, исполненых лицемерия и всякого безстыдия дияволя и дерзости. И посаждает их близу себя, благодарне послушающе их, вещающих и клевещущих ложное на святых и глаголющих на праведных безакония со премногою гордынею и уничижением. Что же на том соборище производят? Чтут, написавши, вины оных мужей (Сильвестра и Адашева. — И.Ф.) заочне. Яко и митрополит тогда пред всеми рекл: «Подобает, — рече, — приведенным им быти зде пред нас, да очевисте на них клеветы будут, и нам убо слышете воистинну достоит, что они на то отвещают». И всем ему добрым согласующе, такоже рекшим, губительнейшие еже ласкатели вкупе со царем возопиша: «Не подобает, рече, о епископе! Понеже ведомые сие злодеи и чаровницы велицы, очаруют царя и нас погубят, аще придут!» И тако осудиша их заочне. О смеху достойное, паче же беды исполненое усуждение прелщенного от ласкателей царя!»{1970}. Эти сведения о соборе 1560 года, как и другие, содержащиеся в «Истории» Курбского, мы не стали бы, подобно С. Б. Веселовскому, называть «чрезвычайно важными и достоверными»{1971}. Необходим их анализ в каждом отдельном случае. Князь Курбский в принципе не отрицал способность людей к чародейству. Он отвергал лишь клевету в чародействе, возведенную на его друзей Сильвестра и Адашева «ласкателями» Грозного — Захарьиными и другими «нечестивыми губителями всего тамошнего царства». При этом не только дружеские чувства здесь руководили им, но и личный интерес. Ведь обвинения в чародействе (колдовстве, еретичестве) близких сотоварищей Курбского бросали тень, собственно, и на него. Поэтому он постарался приписать «ласкателям» то, в чем они обвиняли Сильвестра и Адашева: «Тогда цареви жена умре, они же реша, аки бы очеровали ее оные мужи. Подобно, чему сами искусны и во что веруют, сие на святых мужей и добрых возлагали»{1972}. Воспроизводя речи «ласкателей», Курбский увлекается и рассказывает то, что ему не следовало бы вообще ворошить в памяти. По его словам, «ласкатели», приводя доводы в пользу заочного суда на Сильвестром и Адашевым, говорили: «Так худые люди и ничемуже годные чаровницы тебя, государя, так великого и славного и мудрого, благовенчанного царя, держали пред тем аки во оковах, повелевающе тебе в меру ясти и пити и со царицею жити, не дающе тебе ни в чесомже своей воли, а ни в мале, а не в великом, а ни людей своих миловати, а ни царством твоим владети. И аще бы не они были при тебе, так при государе мужественном и храбром и приселном и тебя не держали аки уздою, уже бы еси мало не всею вселенною обладал. А что творили они своими чаровствы: аки очи тебе закрывающе, не дали ни на что же зрети, хотящи сами царствовати и нами всеми владети. И аще на очи присътупишь их, паки тя, очаровавши, ослепят. Ныне же, егда отогнал еси их, воистинну образумился еси, сиречь во свой разум пришел и отворил еси себе очи, зряще уже свободно на все свое царство яко помазанец Божий, и никтоже ин, точию сам един тое управляюще и им владеющее»{1973}. Сравнение речей «ласкателей» с тем, о чем говорит Иван Грозный в первом послании Андрею Курбскому, обнаруживает немало аналогий, касающихся попыток Сильвестра и Адашева ограничить власть царя, регламентировать его поведение, помешать успешному ведению им военных предприятий и покорению вражьих земель{1974}. Складывается впечатление, что эти речи — своеобразный ответ Курбского царю Ивану, обеляющий Сильвестра и Адашева, оклеветанных якобы «ласкателями», т. е. боярами Захарьиными, их родичами и приятелями. Это впечатление еще более усиливают некоторые подробности, введенные Курбским в свое повествование и отсутствующие у Грозного, например вмешательство в личную жизнь царя. Ясно, что Курбский знал многое из того, что было между Иваном IV и лидерами Избранной Рады в пору их могущества. Но ему надо было оправдать своих друзей и, следовательно, себя. Однако он почему-то не учел простого обстоятельства: «ласкатели», говоря царю о покушении на его права «оных мужей», сообщали о вещах, хорошо ему известных. Поэтому ложь здесь вряд ли могла пройти. Захарьины, по верному замечанию Р. Г. Скрынникова, напоминали Ивану «старые обиды»{1975}. Так Курбский, сам того не желая, подтвердил справедливость обвинений Грозного в узурпации царской власти со стороны Сильвестра и Адашева. Описывая события, связанные с собором 1560 года, Курбский изобразил митрополита Макария, как мы знаем, сочувствующим Сильвестру и Адашеву, которые, узнав о предстоящем соборном суде над собой, «начаша молити, ово епистолиями посылающе, ово через митрополита руского, да будет очевистное глаголанные с ними»{1976}. На соборе митрополит, проникшись якобы сочувствием к опальным, заявил: «Подобает приведеным им быти зде пред нас, да очевисте на них клеветы будут, и нам убо слышети воистинну достоит, что они на то отвещают»{1977}. Но митрополита Макария царь Иван и его окружение будто бы не послушали. Известия Курбского о соборе 1560 года навели историков на мысль о том, что митрополит Макарий принял сторону Сильвестра и Адашева, даже пытался оборонить их от недругов, выступив с возражениями и протестом против заочного суда над ними. «Митрополит Макарий и все «добрые люди», согласные с ним, возражали»; «царь созвал совещание освященного собора и бояр, на котором один митрополит Макарий осмелился возвысить голос и высказаться за удовлетворение просьбы опальных о суде», — замечал С. Б. Веселовский{1978}. «Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемых, несмотря на протест митрополита», — читаем у Л. В. Черепнина{1979}. «Несмотря на угрозы Захарьиных, — говорит Р. Г. Скрынников, — митрополит Макарий открыто взял под свою защиту опальных вождей Рады и предложил вызвать их на собор для очного суда. Но он не смог добиться единодушной поддержки даже со стороны духовенства. Против его предложения выступили Мисаил Сукин, приглашенный на собор по настоянию Захарьиных, а также некий старец Васьян, архимандрит кремлевского Чудовского монастыря Левкий, а также Троицкие старцы-иосифляне»{1980}. В другой своей книге Р. Г. Скрынников пишет: «Митрополит Макарий не побоялся выступить в защиту опальных <…>. Глава церкви пользовался большим авторитетом. Но ему не удалось добиться послушания членов священного собора»{1981}. Идею защиты Сильвестра и Адашева от преследования со стороны Ивана IV, «печалования» о них перед монархом развивает С. О. Шмидт: «Можно полагать, <…> что Макарий пытался противодействовать царю, начавшему преследовать своих бывших главных советников (А. Адашева и Сильвестра). Во всяком случае, допустив соборное обсуждение, а точнее сказать, осуждение их в 1560 г., пытался использовать митрополичье право «печалования», пригласив их на суд. Но в итоге вынужден был согласиться с заочным осуждением»{1982}. Согласно В. В. Шапошнику, «попытка митрополита спасти осужденных, требуя очного разбирательства дела, не привела к успеху»{1983}. В другой книге В. В. Шапошника митрополит Макарий уже не пытается «спасти осужденных», а стоит лишь на страже традиционных норм: «Этот заочный суд (над Адашевым и Сильвестром. — И.Ф.) был грубейшим нарушением традиций — ведь обвиняемые должны были иметь возможность оправдываться. Тем более что Алексей Адашев был членом Боярской думы — окольничим. На это (?!) и указал митрополит Макарий. Часть присутствующих согласилась с ним, но другие, «ласкатели» вместе с Грозным, отказались…»{1984}. Что можно сказать об этих суждениях исследователей? Святитель едва ли сомневался в чародейских способностях, по крайней мере, Сильвестра. Предложение Макария судить Сильвестра и Адашева очно основывалось отнюдь не на его желании возразить по поводу несправедливого и необоснованного суда над ними, защитить или спасти их от жестокого наказания. Еще Н. М. Карамзин замечал, что митрополит Макарий «саном Первосвятительства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надобно призвать и выслушать судимых»{1985}. Истина заключалась в том, чтобы соблюсти традиционный порядок судебного разбирательства, предполагающий присутствие на суде обвиняемых{1986}, особенно если это касалось вопросов вероисповедания. Митрополит в силу своего положения обязан был напомнить о названном порядке{1987}. Но это не означало, будто он сомневался в справедливости выдвинутых против Сильвестра и Адашева обвинений. Не сомневалось в том и большинство участников собора, включая виднейших представителей духовенства. Более того, можно думать, что оно было уверено в обоснованности обвинений, составивших целый список, зачитанный на соборе. И уж, конечно, в полной уверенности относительно виновности Сильвестра и Адашева находился царь Иван. Нельзя согласиться с Р. Г. Скрынниковым, что Грозный не имел оснований и улик для суда над Адашевым, что царь чувствовал «неуверенность в благополучном исходе суда в случае появления в Кремле подсудимых»{1988}. Ничего подобного: как раз уверенность государя, митрополита и большинства соборян в доказанности вины Сильвестра и Адашева сделала их участие в суде излишним. Однако не это, по-видимому, послужило главным основанием для решения произвести заочный суд над бывшими вождями Избранной Рады. Причину тут мы видим в отсутствии возможности быстрой доставки обвиняемых на суд. Адашев в это время, как известно, находился в Ливонии, а Сильвестр — в Заволжье. Дело же было большой государственной важности и не допускало никаких отлагательств, поскольку затрагивало не только судимых, но и целую партию, осуществлявшую политику под руководством Сильвестра и Адашева. Интересы государства требовали незамедлительного приведения к присяге (крестоцелованию) на верность государю сторонников Сильвестра и Адашева в Боярской Думе, их нейтрализации в других местах. По составу участников собор 1560 года являлся церковным и светским, что обусловливалось неоднородностью решавшихся на нем задач, религиозных и политических по своему характеру. Были некоторые и формальные основания для подбора именно такого состава лиц, участвующих в работе собора. С. Б. Веселовский писал: «По каноническим правилам Сильвестр, как лицо духовного звания, не мог быть судим светской властью без предварительного осуждения церковным судом и лишения священнического сана. А. Адашева, как человека в думном чине, царь должен был судить по старым обычаям вместе с боярами. Чтобы обойти эти затруднения и придать всему делу вид законности, был созван собор «всего сената», т. е. всех думных людей, и так называемого «преосвященного собора», т. е. митрополита и епископов. Кроме того, на собор были призваны некоторые «прелукавые» монахи — Мисаил Сукин, издавна прославленный «в злостях», и «бесный», т. е. одержимый бесом, Вассиан (Топорков?) и некоторые другие»{1989}. Правильно обозначив проблему, С. Б. Веселовский начинает в присущей ему недоброжелательной к царю Ивану манере разоблачать последнего. В самом деле, почему историк уверен в том, будто Грозный созывает собор «всего сената», чтобы «придать делу вид законности» и «обойти затруднения» суда над Сильвестром и Адашевым, связанные с порядком, предусмотренным «каноническими правилами» и «старыми обычаями»? Ведь с равным основанием можно предположить и другое: Иван Грозный созывает собор «всего сената» ради исполнения «канонических правил» и «старых обычаев». В любом, однако, случае состав собора соответствовал специфике тех задач, которые ему предстояло разрешить. Что касается заочного суда над Сильвестром и Адашевым, то эта форма судопроизводства была избрана не лично царем Иваном, а всем собором, причем после специального обсуждения, последовавшего за открытым заявлением митрополита, т. е. избрана гласно, публично, по соборному решению, а не по царскому велению{1990}. И это — один из главных элементов суда над Сильвестром и Адашевым, с чем исследователь не имеет права не считаться. Он не может также не задуматься над вопросом, был ли собор 1560 года подлинным собором, а не его имитацией. Постановка этого вопроса возвращает нас к проблеме участников собора. С. О. Шмидт, обращаясь к данной проблеме, говорил: «Членами освященного собора помимо митрополита и архиереев были и «некоторые» монахи (имена двух из них — Мисаила Сукина и Васьяна Бесного — Курбский называет). Сложнее установить по описанию Курбского состав «всего сената мирского». Допустимо предположить, что участниками собора были не только «думные люди», но и другие советники из «множайших и бесчисленных лжесчивальцев», окружавших царя. Именно в связи с осуждением Адашева и Сильвестра Курбский пишет о том, что царь «собрал и учинил уже окрест себя яко пресильный и великий полк сатанинский». Этот «полк сатанинский» мог тоже быть частью «сонмища ласкателей», осудивших руководителей Избранной рады»{1991}. Начни с определения исторической роли и значения собора 1560 года, исследователь намного облегчил бы свой поиск. На соборе решалась не только личная судьба Сильвестра и Адашева. По наблюдениям Р. Г. Скрынникова, «опала на Адашева и Сильвестра означала крушение всей Избранной рады, в которой они были ключевыми фигурами. Переворот затрагивал интересы влиятельных политических сил»{1992}. Действительно, суд над Сильвестром и Адашевым был последней точкой в ликвидации Избранной Рады. Верно и то, что крушение Избранной Рады затрагивало «интересы влиятельных политических сил». Однако упразднение Рады являлось не «переворотом», как считает Р. Г. Скрынников, а напротив, — остановкой ползучего переворота, осуществлявшегося Избранной Радой, нацеленной на изменение церковно-государственного строя Руси по типу западных монархий. Поэтому если посмотреть на проблему шире, как того требует научный подход к изучению прошлого, то станет ясно, что суд над вождями Избранной Рады подводил черту под целым историческим периодом России XVI века, сложным и противоречивым, далеко не однозначным: с одной стороны, отличавшимся проведением необходимых реформ, а с другой — попытками партии Сильвестра и Адашева свернуть страну с национального пути развития, ограничив самодержавную власть царя и подвергнув существенному реформированию русскую православную церковь. Всем этим и определяется значение и роль собора 1560 года как чрезвычайно важного события в религиозно-политической жизни Руси эпохи Ивана Грозного, допускающего сравнение (как это ни покажется кому-то странным) с учреждением Опричнины{1993}. Масштаб события требовал соответствующего набора его участников, подразделявшихся, так сказать, на две палаты, составленные из духовенства и мирян, — Освященного собора и, по лексике Курбского, Сената мирского. Освященный собор, несомненно, включал митрополита, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и авторитетных старцев. На подобный состав Освященного собора намекает и Курбский, говоря, что царь «собирает духовных всех», хотя, перечисляя духовные чины, пропускает игуменов и архимандритов. И все же смысловой акцент заключен, по нашему убеждению, в его фразе собирает всех духовных. Весь Сенат мирской — это князья, бояре и некоторые представители служилого класса. Прав, на наш взгляд, С.О.Шмидт, когда замечает, что среди мирских людей — участников собора были не только «думные люди», но и другие лица из служилого окружения Ивана Грозного. Соединенные вместе, все упомянутые группы и образовали собор 1560 года. По мнению С. О. Шмидта, собор 1560 года был по существу «актом судебного процесса, и этот процесс, как и многие другие подобные процессы того века, превратился в «колдовской»{1994}. Отсюда один шаг до признания собора церковным, поскольку вопросы, связанные с колдовством (чародейством), находились в ведении духовенства. Но С. О. Шмидт не сделал этот шаг. Его совершил Л. В. Черепнин. «Думаю, — заявлял он, — что правильно будет отнести собор 1560 г. к категории церковных, а активное участие в нем светских лиц — характерное для того времени явление»{1995}. Л. В. Черепнин, как и С. О. Шмидт, склонен усматривать в соборе 1560 года «акт судебного процесса»{1996}. Несколько иначе взглянул на собор Р. Г. Скрынников, который, оценив суждения о соборе С. О. Шмидта и Л. В. Черепнина, замечал: «В некоторых отношения суд над Сильвестром и Адашевым действительно был колдовским процессом. Недаром Курбский бросил царю упрек в том, что он лживо обвинил своих «доброхотов» в измене и «чародействе»{1997}. Но «по существу дела собор 1560 г. был скорее политическим, чем церковным. На соборе, созванном в Москве в 1549 г., Адашев и его друзья устами девятнадцатилетнего царя изобличили неправды боярских правителей, стоявших у кормила власти «до государева возраста», и объявили о начале реформ. На соборе 1560 г. обличения адресовались самому Адашеву и его единомышленникам. Собор мало напоминал судебный процесс в собственном смысле и нужен был царю для публичного осуждения недавних учителей и советников. В отличие от «собора примирения» 1549 г. его можно было бы назвать «собором вражды и суеверия». Он положил конец десятилетию реформ»{1998}. На наш взгляд, собор 1560 года нельзя характеризовать только как судебный, а также как церковный или политический. Этот собор сочетал в себе и то и другое, более соответствуя наименованию церковно-государственный, подобно Стоглавому собору. Такого рода собор В. О. Ключевский называл государственным советом{1999}, что, на наш взгляд, придает этому учреждению не свойственный ему односторонний характер, не говоря уже о модернизации соотношения церковной и светской власти. Церковь и государство в рассматриваемое время находились, можно сказать, в состоянии равновесия. Поэтому институт, составленный из соединения власти церкви и государства, было бы правильнее именовать церковно-государственным, каковым, в частности, и являлся собор 1560 года. Этот собор навсегда прекратил деятельность Избранной Рады, ее политику утеснения самодержавной власти, церковной организации и православной веры, открыв перспективу восстановления этих, образно говоря, несущих опор Святорусского царства. Поэтому его можно было назвать «собором возвращения Руси на торную дорогу национального развития», временно потерянную в годы правления Избранной Рады. Таково наше общее представление о соборе 1560 года. Однако сейчас было бы к месту обратить внимание на религиозную часть работы этого собора. Описание собора 1560 года живо напомнило С. О. Шмидту «соборы «на еретиков» середины 1550-х годов»{2000}, к чему Л. В. Черепнин добавил: «Я бы сказал — и более раннего времени»{2001}. Полагаем, что собор 1560 года отчасти напоминал соборы против еретиков середины 1550-х годов XVI века и более раннего времени, причем одной лишь стороной своей деятельности, связанной с осуждением Сильвестра и Адашева, обвиненных в чародействе, т. е. в еретичестве. Если искать более близкий аналог собору 1560 года, то следует, как нам кажется, остановиться на Стоглавом соборе, рассматривавшем, подобно собору 1560 года, религиозные и мирские вопросы. Правда, Р. Г. Скрынников считает, что в чародействе (колдовстве) «были обвинены не сами царские советники (Сильвестр и Адашев. — И.Ф.), а люди из их окружения, исполняющие их волю»{2002}. Это ошибочная точка зрения, противоречащая, кстати сказать, тому, что говорил об этом ранее сам историк: «собор заочно осудил Адашева и Сильвестра как «ведомых злодеев» и «чаровников»{2003}. Факт осуждения собором 1560 года Адашева и Сильвестра за чародейство имел двоякое значение, личное и общественно-политическое. Личное значение этого факта состояло в том, что еретиками Сильвестр и Адашев были объявлены персонально со всеми вытекающими отсюда последствиями для их конкретных судеб. Общественно-политическое значение данного факта обусловливалось тем, что Сильвестр и Адашев, будучи вождями Избранной Рады, олицетворяли ее, и потому оценка деятельность Рады напрямую зависела от оценки деятельности бывших царских советников и друзей. Признав деятельность Сильвестра и Адашева еретической, собор тем самым дал оценку деятельности Избранной Рады. Таким был итог правления Избранной Рады. Он и не мог быть иным. И вот почему. Нельзя, разумеется, отрицать положительных моментов в политике Избранной Рады, таких, например, как военная и земская реформы. Но вред, причиненный Радой Русскому государству, был большим, чем польза. Ее деятельность, направленная, как мы могли убедиться, против самодержавия, апостольской церкви и православной веры поставила Россию на грань национальной катастрофы. Речь по существу шла о переменах, равных ликвидации этих главнейших основ Святой Руси. Необходимы были самые решительные меры, чтобы удержать Русское государство от падения. Поворот к Опричнине стал неизбежным. >Комментарии id="c_1">1 Загоскин Н. П. История права Московского государства. Т. II. Центральное управление Московского государства. Вып. I. Дума Боярская. Казань, 1879. С. 31. id="c_2">2 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1882. С. 342 (прим.). В другой раз В. О. Ключевский говорит, что Курбский Избранной Радой «называет думу, составившуюся при царе Иване под влиянием Сильвестра и Адашева» (Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1902. С. 270; Пг., 1919. С. 267). В третий раз историк заявляет: «Едва вышедши из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его возраста энергией принялся за дела правления. Тогда по указаниям умных руководителей царя митрополита Макария и священника Сильвестра из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников — «избранная рада», как называет Курбский этот совет, очевидно получивший фактическое господство в боярской думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и начал править государством» (Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти томах. Т. II. Курс русской истории. М., 1987. С. 162). Разные мнения В. О. Ключевского по одному и тому же вопросу являются отражением большой сложности изучения проблемы Избранной Рады. id="c_3">3 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 322. id="c_4">4 Там же. id="c_5">5 См.: Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. С. 151–152. id="c_6">6 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. 1882. С. 342 (прим.). id="c_7">7 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. М., 1954. С. 336–338. id="c_8">8 Там же. С. 331. id="c_9">9 Там же. id="c_10">10 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960. С. 318. См. также: Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. М., 1955. С. 293; История СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. II. М., 1966. С. 160; Зимин А. А., Хорошкевич А. А. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 44. id="c_11">11 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. С. 293. id="c_12">12 Там же. id="c_13">13 Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 58–59. id="c_14">14 Кузьмин А. Г. 1) Адашев и Сильвестр // Великие государственные деятели России. М., 1996. С. 131; 2) История России с древнейших времен до 1618 г. В двух книгах. Кн. II. М., 2003. С. 237. id="c_15">15 История России. С древнейших времен до конца XVII века. М., 1996. С. 418–419. id="c_16">16 См.: Фроянов И. Я. Начала русской истории. М., 2001. С. 915. id="c_17">17 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л.,1966. С. 74–75. id="c_18">18 Там же. С. 74. id="c_19">19 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 127. id="c_20">20 Там же. С. 80, 82, 84, 85, 94, 98, 124, 127. id="c_21">21 Там же. С. 87, 98, 107, 113, 115, 119. id="c_22">22 Там же. С. 115. id="c_23">23 Там же. С. 119. id="c_24">24 Там же. С. 127. id="c_25">25 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 36. id="c_26">26 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 108. id="c_27">27 Р. Г. Скрынников замечает, что историки, как правило, «использовали понятие «Избранная рада» для обозначения правительства реформ 1550-х гг.» (Там же). Но дальше этого не идет, заявляя лишь, что «обращение к «Истории» Курбского позволяет выявить ошибку в исходном пункте всех рассуждений о раде» (Там же). Этим как бы утверждается мысль о необходимости переоценки «всех рассуждений» отечественных исследователей об Избранной Раде. id="c_28">28 Там же. С. 117, 118. id="c_29">29 Там же. С. 110, 112, 120. id="c_30">30 Там же. С.117, 118. id="c_31">31 Там же. С. 118. id="c_32">32 Там же. id="c_33">33 Там же. С.116, 118. id="c_34">34 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. id="c_35">35 Р. Г. Скрынников очень ценит исследования А. Гробовского за то, что в них, как он полагает, «традиционная точка зрения подверглась основательной критике» (Там же. С.121). Однако достоинства исследований А. Гробовского не столь безусловны, как представляется Р. Г. Скрынникову. См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. С. 165–167; Хорошкевич А. А. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 42–43, 77 (прим. 67). id="c_36">36 Скрынников Р. Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. С. 282. id="c_37">37 Там же. С. 282–283. id="c_38">38 Скрынников Р. Г. Русь. IX–XVII века. СПб., 1999. С. 197–198. id="c_39">39 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С.75. id="c_40">40 Ермолаев И. П. Становление Российского самодержавия. Истоки и условия его формирования: Взгляд на проблему. Казань, 2004. С. 257. id="c_41">41 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 45. Эти высказывания созвучны тому, что говорил об Избранной Раде Н. И. Костомаров, усматривавший в ней подобранный Сильвестром и Адашевым «кружок людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу», «кружок любимцев» Ивана IV, «кружок бояр и временщиков». — Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. М., 1990. С. 413, 414. id="c_42">42 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1907. С. 143. id="c_43">43 Там же. С. 146. id="c_44">44 Пресняков А. Е. Рецензия на книгу С. Ф. Платонова «Иван Грозный» // Века. Пгр., 1924. С. 180–181. id="c_45">45 Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. СПб., 2000. С. 386–387. id="c_46">46 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 154. id="c_47">47 Базилевич К. В. История СССР от древнейших времен до конца XVII века. М., 1950. С. 279. id="c_48">48 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Л.,1988. С. 45–16. id="c_49">49 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 49. id="c_50">50 Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 215. id="c_51">51 Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 35. id="c_52">52 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 91. id="c_53">53 Там же. id="c_54">54 Сергеевич В. И. Русские юридическое древности. Т. II. Вече и князь. Советники князя. СПб., 1900. С. 369. id="c_55">55 Покровский М. Н. Избранные произведения: В 4-х книгах. М., 1966. Кн. 1. С. 294. id="c_56">56 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 77; 2) Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006. С. 85. id="c_57">57 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77; 2) Иван Грозный… С. 85. id="c_58">58 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77; 2) Иван Грозный… С. 85. id="c_59">59 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 79, 81, 85; 2) Иван Грозный… С. 86. id="c_60">60 Шапошник В. В. 1) Церковно-государственные отношения в России… С. 77–78; 2) Иван Грозный… С. 85–86. id="c_61">61 Шапошник В. В. 1) Церковно государственные отношения в России… С. 85–86: 2) Иван Грозный… С. 86. id="c_62">62 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 81. id="c_63">63 Там же. С.79, 81. Помощь в данном вопросе В. В. Шапошник ищет у Д. Н. Альшица, который якобы «увидел в «Раде» некую форму представительства» (Там же. С. 79). Но Д. Н. Альшиц говорит нечто иное: «Система реформ, предпринятых фактическим правительством (Избранной Радой. — И.Ф.) в конце 40-х и в 50-х гг., по самой своей сути была изначально связана с идеей ограничения царской власти «мудрым советом» — той или иной формой представительства, выражающим в отличие от кастовой Боярской думы преимущественно интересы служилой массы и верхов посада» (Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 53). Как видим, Избранная Рада, по Д. Н. Альшицу, — это не «некая форма представительства», а «фактическое правительство», которое посредством системы реформ стремилось к ограничению царской власти и установлению той или иной формы представительства. id="c_64">64 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 86. id="c_65">65 Смирнов И. И. Очерки… С. 145–146. id="c_66">66 Там же. С. 146. id="c_67">67 Там же. С. 160. И. И. Смирнов снова возвращается к этой мысли, указывая на искажение Курбским объективной исторической действительности, которое состояло «в изображении «избранной рады» как некоего новообразования, новшества, причем новшества, имевшего чрезвычайный характер и существовавшего лишь при Сильвестре и Адашеве, которые, по Курбскому, и являлись создателями «избранной рады». — Там же. С. 159. id="c_68">68 Смирнов И. И. Очерки… С. 150. В другом месте книги И. И. Смирнов пишет: «Вряд ли может быть сомнение в том, что, создавая свою концепцию «избранной рады», Курбский опирался на ту роль, какую играла в Русском государстве XVI в. Боярская дума». — Там же. С. 157. id="c_69">69 Там же. С. 159. id="c_70">70 Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). Лондон, 1987. С. 62. См. также: Grobovsky А. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: А Reinterpretation. N.-Y., 1969. id="c_71">71 Филюшкин А. И. История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998. С. 231. id="c_72">72 Там же. С. 241. id="c_73">73 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 231. id="c_74">74 Там же. С. 238. id="c_75">75 Там же. С. 246. «Есть основания считать содержащуюся в переписке концепцию «Избранной Рады» политической и историографической легендой, исказившей состав и деятельность правящих кругов России 1550-х гг.». — Там же. С. 246–247. id="c_76">76 Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII вв.: Очерки истории. СПб., 2006. С. 204. id="c_77">77 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 165. id="c_78">78 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 42. id="c_79">79 Там же. С. 77(прим. 67). id="c_80">80 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 86. id="c_81">81 Наиболее основательная попытка установления персонального состава Избранной Рады принадлежит С. В. Бахрушину. Однако полученные им результаты также достаточно скромны. Надо при этом иметь в виду, что на подсчеты историка существенное влияние оказывало его убеждение в тождестве Избранной Рады с Ближней Думой. — См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. М. С. 333–340. id="c_82">82 Бахрушин С. В. Научные труды. С. 331. id="c_83">83 См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 268–269. id="c_84">84 Именно по этой причине Избранная Рада, как отмечал С. В. Бахрушин, слова которого мы только что привели, «не оставила никаких следов в официальных памятниках». id="c_85">85 Постановка этой политической организации явственно проглядывает на фоне деятельности отдельных ее представителей, в частности А. Ф. Адашева, о котором И. И. Смирнов писал: «Анализ данных, относящихся к политической деятельности А. Ф. Адашева, заставляет прийти к выводу о том, что эта деятельность не может быть уложена в рамки обычной должностной службы в тех или иных органах власти. Напротив, характерной чертой А. Ф. Адашева как политика было то, что в своей деятельности он находился вне рамок служебной иерархии и зачастую над этой иерархией». — Смирнов И. И. Очерки… С. 229. id="c_86">86 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 19, 31. id="c_87">87 Там же. С. 32. id="c_88">88 Там же. С. 13, 15, 31, 32, 33, 43. id="c_89">89 Там же. С. 14. id="c_90">90 Там же. С. 17, 31. id="c_91">91 См.: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 45–46; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116, 118. id="c_92">92 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 19. id="c_93">93 Там же. С. 129. id="c_94">94 Там же. С. 31. id="c_95">95 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. С. Ф. Платонов полагал, что Сильвестр провел Курлятева «в ближние бояре». — Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 64. id="c_96">96 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 317. id="c_97">97 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. id="c_98">98 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32. id="c_99">99 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 152 (прим. 29). id="c_100">100 См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902; Сергеевич В.И Русские юридические древности. Т. И. С. 337–417; Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 77–85. id="c_101">101 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13. id="c_102">102 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 14. id="c_103">103 Там же. id="c_104">104 Там же. С. 15. id="c_105">105 Там же. С. 17. id="c_106">106 Там же. С. 32. id="c_107">107 Там же. С. 20. id="c_108">108 Там же. С. 21, 70. id="c_109">109 Там же. С. 104. id="c_110">110 Там же. С. 15, 65. id="c_111">111 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 30–31, 79. id="c_112">112 Там же. С. 20, 21. id="c_113">113 Там же. С. 31, 79. id="c_114">114 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. id="c_115">115 Отметим только, что, согласно Р. Г. Скрынникову, «царь не без основания утверждал, будто Сильвестр и Курлятев самовольно распоряжались государственными делами, «строениями и утверждениями», раздавали чины и должности и «ни единые власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 112). В недавней своей работе исследователь писал: «Утверждение царя насчет насаждения радой своих «угодников» на высшие посты в приказах не было сорвавшейся в порыве раздражения фразой». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. id="c_116">116 Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. (Памятники XI–XV вв.). Приложения. СПб., 1880. Стб. 274. id="c_117">117 До сих пор в современной историографии существует большой пробел в области изучения религиозных основ правления Ивана Грозного. Правда, в последнее время наметилось стремление восполнить этот пробел. — См.: Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 132–170; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 408–503. id="c_118">118 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13. id="c_119">119 Там же. С. 380. id="c_120">120 История Византии. В трех томах. Т. 2. М., 1967. С. 53. id="c_121">121 Там же. С. 58. id="c_122">122 Там же. С. 52, 59. id="c_123">123 Там же. С. 59. id="c_124">124 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 15, 64. id="c_125">125 Там же. С. 14–15, 64. id="c_126">126 См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Стб. 2140–2141. id="c_127">127 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 18, 58. id="c_128">128 Там же. id="c_129">129 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 47, 86. id="c_130">130 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 34, 82. id="c_131">131 Там же. С. 395. id="c_132">132 Там же. С. 17, 59, 67. id="c_133">133 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. id="c_134">134 Источники по истории новгородско-московской ереси конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 265. id="c_135">135 Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 174. id="c_136">136 Там же. id="c_137">137 Калибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв. М., 1960. С. 66. id="c_138">138 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7, 9. id="c_139">139 Там же. С. 38–39. id="c_140">140 Там же. С. 39, 90. id="c_141">141 Там же. С. 46–47, 60. id="c_142">142 Там же. С. 26, 74–75. id="c_143">143 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 46, 97. id="c_144">144 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 318, 320. id="c_145">145 Там же. С. 316. id="c_146">146 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 9–10. id="c_147">147 См., напр.: Grobovsky А. N. The «Chosen Council» of Ivan IV: A Reinterpretation. N.-Y., 1969. 2) Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа); Филюшкин А. И. История одной мистификации… id="c_148">148 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси М., 1902. С. 270 (прим.); Пг., 1919. С. 267 (прим.). id="c_149">149 Там же. id="c_150">150 Там же. М., 1902. С. 298; Пг., 1919. С. 294. id="c_151">151 Именно так раскрывает понятие Избранная Рада Курбский в третьем послании Грозному, называя ее «избранным советом нарочитых сингклитов». — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 108. id="c_152">152 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 102. id="c_153">153 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 318. id="c_154">154 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. С. 102; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 220; 221. id="c_155">155 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 318. id="c_156">156 Ср.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 143. id="c_157">157 См.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. II. С. 369; Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 386; Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 45; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 322; Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 49; Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 32, 35; Власть и реформы… С. 59. id="c_158">158 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 45. id="c_159">159 См., напр.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 34–35; Филюшкин А. И. История одной мистификации… 243–244; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 77. id="c_160">160 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. С. 154. id="c_161">161 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 241. id="c_162">162 Так позволяет думать уже упоминавшееся нами свидетельство Курбского о советниках Ивана: «И нарицались тогда оные советницы у него избранная рада» (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 318). К этому надо добавить, что Грозный в своих посланиях (1567 г.) полякам пользовался выражениями «панов рад»» «добрая рада», свидетельствуя тем самым, что слово «рада» ему хорошо было известно. — См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 241. id="c_163">163 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 324–325. id="c_164">164 Ключевской В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 344; Пг., 1919. С. 340. id="c_165">165 Любавский М. К. Лекции по древней русской истории… С. 86. id="c_166">166 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 323. id="c_167">167 Там же. С. 324. id="c_168">168 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 103, 105, 108. id="c_169">169 Сходным образом рассуждает А. И. Филюшкин: «Концепция Грозного о временщиках Адашеве и Сильвестре была лишь одной из пропагандистских версий, исходящей от Ивана Васильевича и направленной на оправдание его опричной политики». — Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 276. id="c_170">170 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 47. id="c_171">171 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 323–324. id="c_172">172 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181–182. id="c_173">173 См. Материалы по истории СССР. Вып. II. М., 1955. id="c_174">174 Там же. С. 14. id="c_175">175 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 233. id="c_176">176 Там же. С. 235. id="c_177">177 Там же. С. 235–236. id="c_178">178 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 256. id="c_179">179 См.: Тихомиров М. Н. Пискаревский летописец как исторический источник о событиях XVI — начала XVII в. // История СССР. 1957, № 3. id="c_180">180 Тихомиров М. Н. Русское летописание. С. 235–236. id="c_181">181 См.: Шмидт С. О. 1) Челобитенный приказ в середине XVI столетия // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. Т. VII. 1950, № 5; Правительственная деятельность А. Ф. Адашева // УЗ МГУ. Вып. 167. М., 1954; Смирнов И. И. Очерки… С. 225–226, 229–230. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 321, 324, 326–328. id="c_182">182 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 61. id="c_183">183 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 61–64; 2) Царство террора. С. 34–35. id="c_184">184 Автор справедливо указывает на неточности повествования Пискаревского летопица, связанные с датировкой поездки отца и сына Адашевых в Константинополь, с определением времени и места похорон Алексея Адашева. — См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 253–254. id="c_185">185 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 105. id="c_186">186 И. И. Смирнов писал: «Целью рассказа Пискаревского летописца являлось продемонстрировать роль и значение А. Ф. Адашева, когда он был «во времени», и подкрепить характеристику правления Адашева той поры, когда «Русская земля была в великой тишине и во благоденстве и управе». — Смирнов И. И. Очерки… С. 225. id="c_187">187 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 83. Н. М. Карамзин предложил следующий перевод данного текста: «Сей муж знаменитый (Годунов. — И.Ф.) питал, утешал наших пленников, когда они сидели в темнице, и дав им свободу, милостиво угостил их в своих палатах, одарив каждого сукнами и деньгами. Слава его везде разносится. Вы счастливы, имея ныне Властителя подобного Алексею Адашеву, великому человеку, который управлял Россиею в царствование Иоанново». Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Т. X. М., 1989. Стб. 29. См. также: Соловьев С. М. Сочинения. Кн. IV. М., 1989. С. 200. id="c_188">188 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к тому X. Стб. 19 (прим. 82). См. также: Соловьев С. М. Сочинения. Кн. IV. С. 201. id="c_189">189 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 83. id="c_190">190 Там же. id="c_191">191 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 243. id="c_192">192 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 64. id="c_193">193 Там же. id="c_194">194 Там же. С. 82. id="c_195">195 Там же. С. 80. id="c_196">196 Смирнов И. И. Очерки… С. 230. id="c_197">197 Смирнов И. И. Очерки… С. 230. id="c_198">198 Смирнов И. И. Очерки… С. 231. id="c_199">199 ПСРЛ. Т. 34. С. 181–182. id="c_200">200 См.: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). С. 146–147; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 254. Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 253; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 121. id="c_201">201 Тихомиров М. Н. Русское летописание. С. 235. id="c_202">202 Шмидт С. О. Челобитенный приказ в середине XVI столетия. С. 447. id="c_203">203 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 326, 328. id="c_204">204 Смирнов И. И. Очерки… С. 223–227. id="c_205">205 Смирнов И. И. Очерки… С. 253. id="c_206">206 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 35. id="c_207">207 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 121. id="c_208">208 Д. Н. Альшиц, имея в виду Пискаревский летописец, замечал: «Итак, Адашев «правил русскую землю» вместе со священником Сильвестром — утверждает источник, совершенно независимый от писаний Грозного и Курбского, утверждающих то же самое». Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 37. id="c_209">209 По этому поводу И. И. Смирнов замечал: «Характеристика Сильвестра в Пискаревском летописце представляет большой интерес. Рассматривая, подобно Ивану Грозному и Курбскому, Сильвестра как соправителя Адашева, автор Летописца вместе с тем, однако, вкладывает в понятие «править Русской землей» существенно иное содержание, по сравнению с Иваном Грозным и Курбским, видя в «правлении» Адашева и Сильвестра не проявление самовольства и всевластия этих двух деятелей, а выражение «царской милости», доверия Ивана IV к Сильвестру и Адашеву» (Смирнов И. И. Очерки… С. 253). Начнем с того, что Грозный видел в Сильвестре не соправителя Адашева, а сотоварища по узурпации царской власти. Что касается Курбского, то он изображал Сильвестра и Адашева в роли помощников и советников Ивана Грозного. Пискаревский же летописец подает их как правителей Русской земли, осуществлявших реальную власть в стране от имени царя. Но это не значит, что они неотступно следовали царским предначертаниям. Не случайно Летописец, сообщая о государственной деятельности Алексея Адашева, вносит в нее зримый элемент самостоятельности. id="c_210">210 О времени составления Царственной книги в литературе нет единого мнения. Одни исследователи полагают, что она была составлена в 1560-е годы, другие — в конце 1570-х — начале 1580-х гг. — См.: Шмидт С. О. Становление российского самодержавства… С. 42; У истоков российского абсолютизма… С. 50; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 77. id="c_211">211 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. М., 2000. С. 524. id="c_212">212 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 20. id="c_213">213 Веселовский С. Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические записки. Кн. 22. М., 1947. С. 106. id="c_214">214 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 258. id="c_215">215 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 283. id="c_216">216 Там же. С. 284. id="c_217">217 Попутно заметим, что С. Б. Веселовский в другой своей работе изображает Сильвестра в качестве царского опекуна, которым тяготился Иван, не зная, как избавиться от него. Историк готов назвать Сильвестра временщиком, но только не узурпатором (Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С.97, 98,106,107). Опекун и временщик — лицо, конечно, влиятельное, обладающее большой властью. Но автор твердит свое: «Влияние Сильвестра на царя и на дела управления тенденциозно преувеличено самим Иваном и официальным летописцем» (Там же. С. 108). Но тут же мы узнаем, что удаление Сильвестра и Адашева «было первым этапом на пути царя Ивана к свободе действий и независимости от совета думных людей». Иван, по признанию С. Б. Веселовского, боролся за «неограниченное самодержавие» (Там же). Следовательно, царь Иван не имел свободы действий, находился в такой зависимости от советников, что власть его была ограничена. Но, согласившись с этим, мы должны согласиться с тем, что часть властных полномочий государя оказалась отторгнутой и сосредоточенной в руках его временщиков — Сильвестра и Адашева. id="c_218">218 И. И. Смирнов, затрагивая данный сюжет, «поймал» летописного рассказчика на собственном противоречии: «Нарисовав образ «всемогущего» правителя государства, автор рассказа переходит к описанию столкновения между Сильвестром и боярами, получившегося в результате того, что Сильвестр сделал попытку добиться пропуска Владимира Старицкого к больному Ивану IV (к которому его не пускали бояре). Казалось бы, всемогущему Сильвестру не могло стоить никакого труда заставить бояр подчиниться его воле, но в действительности бояре категорически отказались следовать совету Сильвестра — в разительном контрасте со всем тем, что говорится о Сильвестре в общей его характеристике» (Смирнов И. И. Очерки… С. 249–250). И. И. Смирнов не учитывает должным образом того обстоятельства, что отказ верных царю бояр следовать настояниям Сильвестра имел место в чрезвычайных условиях открытой борьбы двух придворных группировок — сторонников и противников Ивана. Это, безусловно, сказалось на отношении преданных государю бояр к Сильвестру, представлявшему враждебную им партию. И они отказались повиноваться Сильвестру. Но в обычных условиях дворцовой жизни власть Сильвестра, насколько явствует из приписки к Царственной книге, была непререкаемой уже потому, что за ним, как знали люди, стоял Иван IV, у которого благовещенский поп бмл «в великом жаловании». Во время мартовских событий 1553 года Сильвестр не ассоциировался с Иваном, поскольку оказался в лагере противников царя. В результате власть его была поколеблена непослушанием части бояр, а затем все более слабела во «вражде» с ними. id="c_219">219 Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 143. id="c_220">220 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 39. id="c_221">221 См.: Альшиц Д. Н. 1) Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. М., 1947; 2) Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. М., 1948; 3) Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования // Труды Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. IV. 1957. id="c_222">222 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 255–256. id="c_223">223 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 44. id="c_224">224 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 291–292. id="c_225">225 Там же. С. 292. id="c_226">226 Смирнов И. И. Очерки… С. 248–249. id="c_227">227 Там же. С. 249. id="c_228">228 Там же. С. 250. id="c_229">229 Там же. id="c_230">230 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 253, 387. id="c_231">231 Там же. С. 375, 406. id="c_232">232 РИБ. Т. 4. Стб. 1440. id="c_233">233 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. С. 157–166. id="c_234">234 Там же. С. 168. id="c_235">235 Рекомендация Сильвестра была единственной и решающей, хотя вопрос о назначении игумена в такую прославленную обитель, как Троице-Сергиев монастырь, являлся весьма значимым и потому предполагающим участие в этом назначении митрополита Макария. Но царь Иван и Сильвестр обошлись здесь, похоже, без митрополита, что лишний раз свидетельствует о большом влиянии Сильвестра на государя. id="c_236">236 Смирнов И. И. Очерки… С. 250. id="c_237">237 Там же. С. 251. id="c_238">238 Там же. id="c_239">239 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 770 (прим.). id="c_240">240 Смирнов И. И. Очерки… С. 251. id="c_241">241 Там же. С. 251–252. id="c_242">242 Случилось это в 1553 году, о чем речь ниже. id="c_243">243 Смирнов И. И. Очерки… С. 250. id="c_244">244 «Алексие! взял я тебя от нищих и от самых молодых людей… и ныне взысках тебе выше меры твоея, ради помощи души моей». — Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. II. Примечания к VIII. М., 1989. Стб. 29. id="c_245">245 «Вручаю тебе челобитныя приимати у бедных и обидимых, и назирати их с разсмотрением. Да неубоишися сильных и славных, восхитивших чести на ся…». — Там же. id="c_246">246 Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 59. id="c_247">247 Оспорить это едва ли возможно. Не случайно Р. Г. Скрынников в своей ранней книге, более объективной, чем позднейшие его работы, писал: «В известных приписках к летописи царь Иван ярко живописует правление Сильвестра. «Некий священник», служивший в церкви Благовещенья у царского двора, «бысть яко всемогий, вся его послушаху и никто не смеяше ни в чем же противитися ему ради царского жалования: указывающее бо и митрополиту… и бояром, и дияком» и т. д. Впадая в полемическое преувеличение, царь утверждал, что поп-невежа склонен был «спроста рещи, всякия дела и власти святителския и царския правяше, и никтоже смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владяше, обема властми, и святителскими и царскими, якоже царь и святитель…». Могущественный временщик, объединивший в своих руках духовную и светскую власть, — таким предстает Сильвестр в рассказах Грозного. При всей тенденциозности подобных рассказов в основе их лежит несомненный факт: во второй половине 50-х гг. Сильвестр оказывал всестороннее влияние на управление государственными и церковными делами» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966. С. 116). Другой разговор в книге со специфическим названием «Царство террора»: «Сведения приписки (к Царственной книге. — И.Ф.) поражают своей пристрастностью. К тому же царь противоречит себе, как только начинает излагать конкретные факты, доказывающие рассуждения о всесилии Сильвестра. В дни болезни царя священник лишь однажды подал голос, советуя допустить Старицкого к постели царя. Но на его слова никто не обратил внимания. При всей тенденциозности Грозный верно указал на два источника влияния придворного проповедника. Во-первых, «никто не смеяше ни в чем противитися ему ради царского жалованья» и, во-вторых, он был «чтим добре всеми». Будучи не столько политиком, сколько церковным пастырем, Сильвестр пользовался большим моральным авторитетом» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 122). Сравнение этих разновременных высказываний Р. Г. Скрынникова убеждает в том, что и сам историк может впадать в противоречие с собой, а также быть пристрастным и тенденциозным. id="c_248">248 Смирнов И. И. Очерки… С. 243; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 317, 328 (прим. 30). Ср.: Малини В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 180; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 48. id="c_249">249 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1874. С. 88. id="c_250">250 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 88. id="c_251">251 Вопрос этот, впрочем, не прост. И. И. Смирнов под «ближними» в данном случае усматривает Боярскую Думу или, еще вероятнее, — Ближнюю Думу (Смирнов И. И. Очерки… С. 243). Возможно, это так, но только применительно к тексту: «Велми о сем государь и вси ближний благодарят твоего разума делу о всем». Когда же Сильвестр говорит, что «издалека зрех и овогда слышах благоразумное твое и премудрое писание к царю и ближним твоим», то он под словосочетанием «ближние твои» разумеет, по нашему мнению, родичей Горбатого. id="c_252">252 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания. М., 1874. С. 90, 91. id="c_253">253 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. М.-Л., 1947. С. 202. id="c_254">254 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 120. id="c_255">255 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 61. id="c_256">256 Там же. id="c_257">257 Там же. С. 62. id="c_258">258 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века… С. 201. id="c_259">259 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 93. Правда, он затем, будто опамятовавшись, говорит о «богодарованном Государе и Царе». — Там же. С. 96, 98. id="c_260">260 Смирнов И. И. Очерки… С. 243. id="c_261">261 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 100. id="c_262">262 Смирнов И. И. Очерки… С. 243–244. См. также: Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 94 id="c_263">263 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 89. id="c_264">264 Там же. Сильвестр, разумеется, не исключал проповеди, но в случае упорства «заблудших Агарян и Черемисы» настаивал на применении понуждения и запретов. — Там же. С. 95. id="c_265">265 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. H. Т. VIII. М., 1989 Стб. 124; Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 463; Еромолаев И. П. Становление Российского самодержавия… 2004. С. 280; Котляров А. А. Московская Русь и народы Поволжья в XV–XVI веках: У истоков национальной политики России. Ижевск, 2005. С. 257. id="c_266">266 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. С. 458. См. также: Котляров А. А. Московская Русь и народы Поволжья… С. 256–257. id="c_267">267 Летописец рассказывает, как после взятия Казани приезжали к Ивану IV представители местных племен с изъявлением покорности. Царь «велел их к шерти (клятве) привести и ясаки на них имати и во всем их управляти» или «к шерти приводить и управу чинить» (см.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. М., 2000. С. 222, 516). Присяга на верность и уплата ясака-дани — вот что нужно было Ивану, не больше). id="c_268">268 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 225, 520. id="c_269">269 Смирнов И. И. Очерки… С. 244. id="c_270">270 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 59–60. id="c_271">271 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 100. id="c_272">272 Там же. id="c_273">273 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 31. id="c_274">274 Там же. С. 32. id="c_275">275 Там же. id="c_276">276 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр. С. 31. id="c_277">277 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. id="c_278">278 Там же. С. 238. id="c_279">279 Недаром Максим Грек называет князя Никиту Борисовича «многострадальным». id="c_280">280 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. id="c_281">281 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 317–318. См. также: Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV–XVI вв. // Археографический ежегодник за 1957. М., 1958; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 37. id="c_282">282 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 318. id="c_283">283 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 41. id="c_284">284 Там же. С. 37. id="c_285">285 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 131. id="c_286">286 Смирнов И. И. Очерки… С. 188. id="c_287">287 Смирнов И. И. Очерки… С.191. id="c_288">288 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 318. id="c_289">289 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81. id="c_290">290 Там же. id="c_291">291 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 61. id="c_292">292 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. Это утверждение Грозного, полагает Р. Г. Скрынников, «не было сорвавшейся в порыве раздражения фразой». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 118. id="c_293">293 Исследователи говорят о расширении состава Думы «за счет родов, ранее не допускавшихся до властных структур узким кругом боярских группировок» (Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 131). Таким способом инициаторы кадровых перемен «припускали» в Боярскую Думу людей, обязанных им, а потому — послушных. id="c_294">294 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31, 79. id="c_295">295 Эта «прелестная» тактика, рассчитанная на создание социальной базы для Сильвестра и Адашева, в различных вариациях повторялась много позже. В частности, отражение ее наблюдаем в осеннем верстаньи 1605 года, произведенном по указу Ажедмитрия I — См.: Воробьев В. М. Ажедмитрий I и судьбы службы «по отечеству» и поместной системы // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы научной конференции 18–20 ноября 2003 года. Великий Новгород, 2003. С. 98–122. id="c_296">296 Скрынников Р. Г. Царство террора… С. 94. id="c_297">297 Там же. id="c_298">298 Во всяком случае, Иван IV доверял Висковатому «больше других» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 74). Он, по-видимому, возлагал большие надежды на Висковатого и наделил его большими полномочиями. И. Граля по этому поводу говорит: «Случай с Висковатым был беспрецедентным — впервые в истории московской дипломатии в составе боярской комиссии, ведущей переговоры с иностранным посольством, в качестве ее полноправного члена оказался подьячий. Мнимый дьяк имел такие же полномочия, как и его титулованные сотоварищи, участвовал в церемонии ознакомления послов с царским ответом». — Там же. С. 63. id="c_299">299 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV и боярский «мятеж» 1553 года // Отечественная история. 1994, № 3. С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 74. id="c_300">300 «Царская делегация, — пишет И. Граля, — получив категорические рекомендации думы… энергично потребовала указать в документах о перемирии новый титул Ивана Васильевича…». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 72. id="c_301">301 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 297, 300. id="c_302">302 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 73. id="c_303">303 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 73. См. также: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 79. id="c_304">304 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. С. 291. id="c_305">305 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. id="c_306">306 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 312–313. id="c_307">307 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. id="c_308">308 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 76. id="c_309">309 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13–14. id="c_310">310 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 679. id="c_311">311 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 29–30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81–82. id="c_312">312 А. Л. Хорошкевич говорит о «Соборе примирения», но «в контексте внутриполитических событий», а не религиозно-нравственных установок. — Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 29; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 79–80. id="c_313">313 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 29; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 78. id="c_314">314 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. id="c_315">315 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 28; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 74–75. id="c_316">316 А. Л. Хорошкевич. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. id="c_317">317 А. Л. Хорошкевич. Россия в системе международных отношений… С. 78. id="c_318">318 Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Т. 41. М., 1989. С. 495. id="c_319">319 А. Л. Хорошкевич. Царский титул Ивана IV. С. 30; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 85. id="c_320">320 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 48. id="c_321">321 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 49. id="c_322">322 Там же. id="c_323">323 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 75. Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 81. id="c_324">324 Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952. С. 176. id="c_325">325 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 317. id="c_326">326 Рожков Н. Происхождение самодержавия в России. М., 1906. С. 184–185, 189. id="c_327">327 Сергеевич В. И. 1) Русские юридические древности. Т. II. СПб., 1900. С. 368–369; 2) Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910. С. 170–171. id="c_328">328 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. С. 164. id="c_329">329 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПб., Киев. 1907. С. 170. id="c_330">330 Там же. С. 171. id="c_331">331 Там же. С. 171, 172. id="c_332">332 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 1912. С. 439. id="c_333">333 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя… С. 441. id="c_334">334 Покровский М. А. Русская история с древнейших времен. Т. 1. Приложение. М., 1933. С. 231. id="c_335">335 Там же. С. 232. id="c_336">336 Базилевич К. «Торговый капитализм» и генезис московского самодержавия в работах М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сб. статей. 4.1. М.-Л., 1939. С. 157. id="c_337">337 Смирнов И. И. Очерки… С. 386. id="c_338">338 Там же. id="c_339">339 Там же. С. 387. id="c_340">340 Там же. id="c_341">341 Смирнов И. И. Очерки… С. 397–398. id="c_342">342 Там же. С. 398. См. также: Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. Т. 24. М., 1947. id="c_343">343 Романов Б. А. Комментарий // Судебники XV–XVI веков. С. 334. id="c_344">344 Там же. С. 335. id="c_345">345 Там же. С. 337. Несколько иначе оценивал результаты исследования И. И. Смирнова историк русского права Г. Б. Гальперин, заявлявший, будто из его схемы «совершенно выпала боярская дума как орган, осуществляющий совместно с царем законодательные функции в стране. Все законодательные памятники свидетельствуют, что в большинстве случаев государь законодательствует вместе с боярами». — Гальперин Л. Д. Форма правления Русского централизованного государства XV–XVI вв. Л., 1964. С. 45. id="c_346">346 Власть и реформы… С. 62. id="c_347">347 Там же. id="c_348">348 Там же. С. 61. id="c_349">349 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 292. id="c_350">350 Там же. С. 293. id="c_351">351 Памятники русского права. Вып. IV. Под редакцией проф. Л. В. Черепнина. М., 1956. С. 340. id="c_352">352 Там же. С. 339. id="c_353">353 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 365. id="c_354">354 Российское законодательство X–XX веков: В 9 томах. Т. II. М., 1985. С. 170. id="c_355">355 Кузьмин А. Г. 1) Адашев и Сильвестр. С. 135; 2) История России с древнейших времен до 1618 г. В двух книгах. Кн. II. М., 2003. С. 240. id="c_356">356 Янов А. А. Россия: У истоков трагедии. 1462–1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001. С. 500. id="c_357">357 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89. id="c_358">358 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89. id="c_359">359 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 31–32; 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89–90. id="c_360">360 Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 31. id="c_361">361 Хорошкевич А. Л. 1) Царский титул Ивана IV… С. 41 (прим. 61); 2) Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 89 (прим. 122). id="c_362">362 Романов Б. А. Комментарий. С. 334. id="c_363">363 Власть и реформы… С. 61. id="c_364">364 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 365 (прим. 1); Памятники русского права. Вып. IV. С. 360, 361. id="c_365">365 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. М., 1977. С. 290. id="c_366">366 См.: Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. II. С. 369. id="c_367">367 Там же. id="c_368">368 См.: Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996. С. 31–39. id="c_369">369 Сказания Князя Курбского. СПб., 1868. С. XVIII. id="c_370">370 Сказания Князя Курбского. С. XVIII–XX. id="c_371">371 Там же. С. XX–XXI. id="c_372">372 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 215, 227. id="c_373">373 См., напр.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. II. Примечания к тому VIII. М., 1989, Стб. 16 (прим. 80); Николаевский П. Ф. Русская проповедь в XV и в XVI вв. // ЖМНПросв., 1868, февраль. id="c_374">374 Барсов Н. И. К вопросу об авторе «Послания к царю Ивану Васильевичу» Сильвестровского сборника С.-Петербургской Духовной академии // Сб. Археологического ин-та. Кн. IV. СПб., 1880. С. 90–130. id="c_375">375 Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, апрель. С. 674–677. id="c_376">376 Смирнов И. И. Очерки… С. 238; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. С. 127. id="c_377">377 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 13–14; Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. С. 272–273; Жданов И. Н. Сочинения. Т.1. СПб., 1904. С. 193–197; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 198; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники; Альшиц Д. Н. 1) Начало самодержавия в России… С. 64–68; 2) Публицистические выступления Сильвестра в эпоху реформ «Избранной Рады» // ТОДРЛ. Т. 42. Л., 1989. С. 94–103; 3) Иван Грозный: известный и неизвестный. От легенд к фактам. СПб., 2005. С. 44–51; Флоря Д. Я. Иван Грозный. С. 103, 104; Филюшкин А. Ю. История одной мистификации… С. 318. id="c_378">378 Макарий. История русской церкви. Т. VII. СПб., 1891. С. 346. id="c_379">379 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 13–12, 64; Смирнов И. И. Очерки… С. 237–238; Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95, 100, 101. id="c_380">380 Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. С. 194–201; Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С.53; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л. 1958. С. 12. id="c_381">381 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения… С. 127. id="c_382">382 Барсов Н. И. К вопросу об авторе… С. 90–130; Бычков А. Ф. Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Публичной библиотеки. Ч. 1. СПб… 1882. С. 57–58. id="c_383">383 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. id="c_384">384 Смирнов И. И. Очерки… С. 238. id="c_385">385 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. id="c_386">386 Смирнов И. И. Очерки… С. 237–238. id="c_387">387 См. также: Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95, 103. id="c_388">388 Смирнов И. И. Очерки… С. 236, 238. Глинские и их окружение были разгромлены в результате июньского восстания и выведены из политической игры. id="c_389">389 Там же. С. 237. id="c_390">390 Там же. С. 118. id="c_391">391 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 92. id="c_392">392 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 69. id="c_393">393 Там же. С. 82. id="c_394">394 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. id="c_395">395 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 80. id="c_396">396 Смирнов И. И. Очерки… С. 237. id="c_397">397 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 87. id="c_398">398 См.: Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 246–247. id="c_399">399 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 86–87. id="c_400">400 См.: Емченко Е. Б. Стоглав… С. 255. id="c_401">401 Там же. С. 310, 312–313. id="c_402">402 Там же. С. 262. id="c_403">403 Там же. С. 261. id="c_404">404 Там же. С. 262, 302. id="c_405">405 Там же. С. 262. id="c_406">406 Там же. С. 294. id="c_407">407 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 200. id="c_408">408 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 72. id="c_409">409 Там же. С. 73. id="c_410">410 Там же. id="c_411">411 Там же. id="c_412">412 Там же. id="c_413">413 Там же. С. 82. id="c_414">414 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 84. id="c_415">415 Там же. С. 73. id="c_416">416 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 232. id="c_417">417 См.: ЧОИДР. 1858. Кн. II, отд. III. С. 9–10. id="c_418">418 Там же. С. 12. id="c_419">419 См.: ААЭ. Т. I. СПб., 1836. С. 246. id="c_420">420 См.: Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. СПб., 1909. С. 88–89; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 378; Носов Н. Е. Становление, сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 72; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1973. С. 179; 2) У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 202. Полной уверенности в том, что Стоглавый собор заседал именно в указанное время, у нас, разумеется, нет. По этому поводу Л. В. Черепнин однажды заметил: «При бедности источниковедческой базы трудно в достаточной степени убедительно и точно определить исходную и конечную грани деятельности собора». — Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 79. id="c_421">421 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 66. id="c_422">422 Там же. С. 68. id="c_423">423 Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 94–95. id="c_424">424 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 67. id="c_425">425 Альшиц Д. Н. Публицистические выступления Сильвестра… С. 95. См. также: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 64. id="c_426">426 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52–53. id="c_427">427 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 199–202. id="c_428">428 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 199–202. id="c_429">429 Смирнов И. И. Очерки… С 238. id="c_430">430 Там же. id="c_431">431 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 53. id="c_432">432 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. id="c_433">433 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 88, 100. id="c_434">434 Там же. С. 100. id="c_435">435 ААЭ. Т. I. С. 246. id="c_436">436 Смирнов И. И. Очерки… С. 238. id="c_437">437 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 52. id="c_438">438 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 241. id="c_439">439 Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.). М., 1901. С. 129. id="c_440">440 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 226; 2) Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. С. 227. id="c_441">441 См.: ПСРЛ. Т. 34. М, 1978. С. 30. id="c_442">442 Смирнов И. И. Очерки… С. 195. id="c_443">443 Смирнов И. И. Очерки… С. 195–196. id="c_444">444 См.: Покровский H. H. Афанасий (в миру Андрей) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 73; Шимдт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 245. id="c_445">445 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 458. id="c_446">446 См.: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр… С. 13. id="c_447">447 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 316. id="c_448">448 Там же. С. 400. id="c_449">449 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 30. id="c_450">450 См.: Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 15; Розов H. H. Библиотека Сильвестра (XVI век) // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 192; Филюшкин Л. Ю. История одной фальсификации… С. 316. id="c_451">451 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 87. id="c_452">452 Смирнов И. И. Очерки… С. 201. id="c_453">453 Сочинения Максима Грека. Ч. II. Казань, 1860. С.362. id="c_454">454 Москвитянин. 1842, № 11. С.91. id="c_455">455 См.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. 1861. С. 877–884. id="c_456">456 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. id="c_457">457 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… С. 879. id="c_458">458 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 11–12. id="c_459">459 Голохвастов Д. П. и Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр… С. 69. id="c_460">460 Там же. С. 87. id="c_461">461 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 188, 223–224. id="c_462">462 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 224. id="c_463">463 Там же. С. 184–185. id="c_464">464 Там же. С. 185. id="c_465">465 Там же. id="c_466">466 Там же. С.186. id="c_467">467 Масса Исаак. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии до 1610 года за короткое время правления нескольких государей // О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 21. id="c_468">468 Смирнов И. И. Очерки… С. 195. id="c_469">469 Там же. С. 195–196. id="c_470">470 Там же. С. 196. id="c_471">471 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. Стб. 291; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 112. id="c_472">472 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 198. id="c_473">473 Там же. С. 186, 198. id="c_474">474 Там же. С. 223, 518. id="c_475">475 Казанская история. М.-Л., 1954. С. 166–168. id="c_476">476 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 219–220, 514. id="c_477">477 Там же. С. 224–225, 519. id="c_478">478 См.: Альшиц Д. Н. Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. 1947. С. 267. id="c_479">479 См.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 258. id="c_480">480 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 129. См. также: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 82. id="c_481">481 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 204, 500. id="c_482">482 Библиотека литературы Древней Руси. Т. II. XVI век. С. 348. id="c_483">483 Там же. id="c_484">484 Веселовский С. Б. Исследования по истории Опричнины. С. 271. id="c_485">485 Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 67. id="c_486">486 Точно так же поступает и Р. Г. Скрынников. «На третий день после падения Казани, — пишет он, — самодержец, как вспоминал Курбский, произнес: «Ныне оборони мя Бог от вас!». Одаренный от природы умом и наблюдательностью, Иван понимал двусмысленность своего положения, полную зависимость от собственной аристократии» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 66). Историк, следовательно, поверил А. Курбскому, но, чтобы, по-видимому, лучше верилось, опустил дальнейшие слова, приписываемые князем царю, ввиду их очевидной нелепости. id="c_487">487 См.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений… С. 125. id="c_488">488 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 227–228, 522. id="c_489">489 В «Казанской истории» также говорится о раздаче кормлений участникам царского пиршества. — Казанская история. С. 170. id="c_490">490 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 265. id="c_491">491 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 51. id="c_492">492 Там же. С. 49. id="c_493">493 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 268. id="c_494">494 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. id="c_495">495 По вопросу достоверности сведений, содержащихся в «Казанской истории», нет единого мнения. Г. З. Кунцевич, написавший специальное исследование, посвященное «Истории», отмечал в ней как историческом источнике «много неточностей, недостатков, ошибок» (Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве. СПб., 1905. С. IX). И все же, по словам Г. Н. Моисеевой, «не объяснив отличий в описании одних и тех же событий в «Казанской истории» и в документальных и литературных памятниках этого времени, Кунцевич не раскрыл намеренного, тенденциозного отступления автора в ряде случаев от достоверной передачи фактов во имя осмысления прошлого в свете общественно-политической борьбы времени создания произведения)) (Казанская история. С. 19. См. также: Моисеева Г. Н. Автор «Казанской истории» // ТОДРЛ. Т. IX. М.-Л., 1953). Имея в виду «Казанскую историю, или Историю о Казанском царстве», М. Н. Тихомиров писал: «В исторической литературе это произведение считается мутным. Тем не менее, почти все историки им пользуются из-за богатства фактическим материалом истории Казани, отсутствующим в других источниках» (Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейший времен до конца XVIII в. Курс источниковедения истории СССР. Т. I. М., 1940. С. 132–133). К этому надо добавить, что к данному памятнику обращаются исследователи и за материалом по истории Руси эпохи Ивана IV. — См., напр.: Смирнов И. И. Очерки… С. 265–266. id="c_496">496 Казанская история. С. 169. id="c_497">497 Казанская история. С. 169. id="c_498">498 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. id="c_499">499 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 522–523. id="c_500"> 500 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. id="c_501">501 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 265. id="c_502">502 А. И. Филюшкин чересчур расширительно толкует данное известие, чем сглаживается конкретный его смысл: «Забвение аристократией своих обязанностей управлять государством, по Грозному, немедленно привело к мятежу казанских татар: взбунтовались Луговая и Арская стороны» (Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78). Царь говорил не об управлении государством вообще, а о «казанском строении» конкретно. id="c_503">503 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237 (прим. 4). id="c_504">504 Смирнов И. И. Очерки… С. 266. id="c_505">505 Там же. С. 267. id="c_506">506 Там же. id="c_507">507 Смирнов И. И. Очерки… С. 267 (прим. 11). id="c_508">508 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 113. id="c_509">509 Стало быть, «увесистую оплеуху», которую, по А. Л. Хорошкевич, якобы получил Иван IV от «западного соседа», исследовательница может оставить при себе. id="c_510">510 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 366. id="c_511">511 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С 113. id="c_512">512 Там же. С. 114. id="c_513">513 См.: Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. Л., 1991. С. 81–115. id="c_514">514 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. С. 367. id="c_515">515 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый. С. 89. id="c_516">516 Там же. id="c_517">517 Там же. id="c_518">518 Сб. Русского исторического общества. Т. 59. С. 368. id="c_519">519 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 266. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 407. id="c_520">520 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников… С. 286. См. также: Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 209–210. id="c_521">521 Альшиц Д. Н. Происхождение… С. 266. Позднее Д. Н. Альшиц, видимо, под воздействием критики его построений, несколько смягчит свои суждения: «В самом тексте Царственной книги о мятеже 1553 г. ничего не сказано. Рассказ, который счел необходимым приписать редактор, весьма пространен. Сличив его с тем, что об этих же событиях пишет Грозный в своем письме (Курбскому. — И.Ф.), мы убедимся, что приписка, как и в прежних случаях, лишь расширяет и детализирует написанное в нем» (Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 214). Следовательно, соотношение сведений приписки к Царственной книге и письма Ивана Грозного к Андрею Курбскому о боярском «мятеже» 1553 года иное, чем заявлял об этом ранее Д. Н. Альшиц: они взаимно не исключают, а дополняют друг друга. id="c_522">522 Там же. С. 266, 267, 285, 288, 289. См. также: Альшиц Д. Н. Крестоцеловальные записи Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // История СССР. 1959, № 4. id="c_523">523 См., напр.: Веселовский С. Б. Исследования… С. 255–257; Гробовский А.Н Иван Грозный и Сильвестр… С. 65–69; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 77. id="c_524">524 См., напр.: Зимин А. А. 1) Реформы Ивана Грозного… С. 408; 2) Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 72; 3) Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 23, 25. id="c_525">525 Смирнов И. И. Об источниках для изучения «мятежа» 1553 г. // Смирнов И. И. Очерки… С. 485. id="c_526">526 Там же. С. 484. id="c_527">527 Там же. С. 483. См. также: Смирнов И. И. Иван Грозный и боярский мятеж 1553 г. // Исторические записки. Т. 43. 1953. id="c_528">528 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 408. id="c_529">529 Там же. С. 409. id="c_530">530 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30 (прим. 1). id="c_531">531 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30. id="c_532">532 Там же. С. 31. id="c_533">533 Там же. id="c_534">534 Там же. id="c_535">535 Там же. С. 31–32. id="c_536">536 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 32. Об использовании следственного дела при составлении приписки к Царственной книге о боярском мятеже в марте 1553 года говорил С. В. Бахрушин еще за двадцать лет до выхода книги Р. Г. Скрынникова. В статье ««Избранная рада» Ивана Грозного», увидевшей свет в 1945 году, он писал о содержащих дополнительные сведения вставках в Синодальный список и Царственную книгу следующее: «Мы можем угадать источники, откуда черпались эти дополнительные сведения. В ряде случаев это, несомненно, следственные дела о «поносительных словах» и об измене (например, следственные дела о князе Лобанове-Ростовском и о «мятеже» при крестном целовании маленькому царевичу Дмитрию), в других случаях — разрядные выписки…» (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 333). В другой раз С. В. Бахрушин, касаясь лишь известия Царственной книги о боярском мятеже 1553 года, утверждает, что в основе этого известия «лежит следственное дело по поводу «мятежа». — Там же. С. 349. id="c_537">537 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 27, 112. Мысль Р. Г. Скрынникова о Повести не оригинальна. С. А. Морозов, анализируя приписки к Царственной книге, пришел к выводу о том, что в их основе было оригинальное литературное произведение, условно названное исследователем «Летописная повесть о болезни царя Ивана Васильевича в марте 1553 г.». Автором Повести являлся, по С. А. Морозову, дьяк Иван Висковатый. — Морозов С. А. Летописные повести по истории России 30–70-х гг. XVI века. Автореф. канд. дисс. М., 1979. С. 14–19. См. также: Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 210. id="c_538">538 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 27. id="c_539">539 Там же. С. 29. id="c_540">540 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. id="c_541">541 См.: Андреев Н. Е. 1) Interpretations in the 16th Century Muscovite Chronicles // Slavonic and East European Review. Vol. 35, № 84, 1956. P. 96–115; 2) Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного // ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 117–118. id="c_542">542 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 98–99. id="c_543">543 Там же. С. 108. id="c_544">544 Там же. С. 103. id="c_545">545 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 176 (прим. 206). id="c_546">546 Там же. С. 173 (прим. 190). id="c_547">547 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 125. id="c_548">548 Там же. С. 126. id="c_549">549 И. Граля верно заметил, что до момента появления работ С. Б. Веселовского и Д. Н. Альшица в конце 40-х гг. прошлого века достоверность сведений этих источников «не вызывала у исследователей ни малейших сомнений». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 169 (прим. 167). См. также: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 123. id="c_550">550 Ср.: Шапошник В. В. Иван Грозный: Первый русский царь. С. 189. id="c_551">551 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 230. Р. Г. Скрынников предложил слишком упрощенный, по нашему мнению, комментарий к данному тексту: «Официальная летопись, составленная при Адашеве, обрисовала ситуацию с помощью библейской цитаты: «Посети немощь православного нашего царя… и сбыстся на нас евангельское слово: поразисте пастыря, разыдутся овца». Адашев явно желал предать забвению «вся злая и скорбная» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 68). Историк не задался даже вопросом, почему Адашев так поступил. id="c_552">552 Летописец так и говорит: «Он государь, добрый пастырь». — Там же. id="c_553">553 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. id="c_554">554 Там же. А. Л. Хорошкевич не учла этого свидетельства Курбского, когда рассуждала насчет «молниеносного выздоровления» царя Ивана (Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений середины XVI века. С. 129). Впрочем, в другой раз она говорит, что болезнь царя «длилась долго». — Там же. С. 125. id="c_555">555 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. id="c_556">556 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 168 (прим. 161). id="c_557">557 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. id="c_558">558 Там же. id="c_559">559 См., напр.: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. М., 1990. С. 434; Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. Л… 1990. С. 189; 2) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 246; 3) Корона и крест: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. С. 241. id="c_560">560 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. id="c_561">561 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 129. id="c_562">562 У Ивана IV не было причин для душевных потрясений. Сложности и неудачи в переговорах с польско-литовской стороной, на которые указывает А. Л. Хорошкевич в подтверждение своей искусственной догадки, совершенно несопоставимы с «казанским взятием» и рождением наследника, переполнявшими радостью душу царя. Сравнительно с этим все остальное на тот момент для него было не столь значимо. id="c_563">563 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1956. С. 385. id="c_564">564 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 25, 57, 73. id="c_565">565 Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений середины XVI века. С. 123. id="c_566">566 Смертельная болезнь, по В. И. Далю, безусловно смерть причиняющая, лишающая жизни. — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 234. id="c_567">567 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 335. id="c_568">568 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 110. Страницей ниже Р. Г. Скрынников говорит об «умирающем царе», допуская, как и А. Л. Хорошкевич, лексическую, так сказать, неряшливость: умирающий царь не умер. Слово «умирающий» происходит от умирать, т. е. помирать, кончать земную жизнь. — См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 492. id="c_569">569 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. id="c_570">570 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126. id="c_571">571 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 112; 2) Иван Грозный. М., 2002. С.70. id="c_572">572 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 14–15. id="c_573">573 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 49. id="c_574">574 Можно, впрочем, и так, как у И. Грали: «Иван с трудом узнавал окружающих». — Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. id="c_575">575 Ср.: Там же. Нельзя согласиться и с Б. Н. Флорей, толкующим фразу «мало и людей знаяше» так, будто царь Иван «часто находился в беспамятстве». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. id="c_576">576 См.: Колесникова В. С. Краткая энциклопедия православия. Пусть к храму. М., 2001. С. 258. id="c_577">577 Храм Божий и церковные службы. СПб., 1912. С. 57. id="c_578">578 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1993. С. 246. id="c_579">579 Там же. id="c_580">580 См.: Жития святых Святителя Дмитрия Ростовского. Сентябрь. М., 1903. С. 7 (прим. 3). id="c_581">581 Скрынников Р. Г. 1)Начало опричнины. С. 102, 103, 104; 2) Иван Грозный. М., 1975. С. 52. id="c_582">582 Ср.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78–79. id="c_583">583 ПСРЛ. T.XIII. Продолжение. С. 523. id="c_584">584 Там же. Присяга на имя Дмитрия людей «ближнего круга» состоялась, судя по всему, несколько дней спустя после начала болезни Ивана IV, во всяком случае, не 11 марта, как полагают некоторые исследователи. — См., напр.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 110; Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94. id="c_585">585 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 112; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 69. id="c_586">586 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348. id="c_587">587 С. В. Бахрушин усматривал в ней простую осторожность. «Алексей Адашев, — говорил историк, — держался очень осторожно во время «мятежа» и «шума» во дворце» (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294). Нам, однако же, эта пассивность напоминает поведение человека, запустившего механизм и наблюдающего со стороны за тем, как он действует. id="c_588">588 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 511. id="c_589">589 И. Граля видит в этом маневрировании князя Палецкого «классический пример страховки на случай любого поворота событий» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 99–100). По мнению же А. Л. Хорошкевич, действия Палецкого отчасти определялись «его родственными связями: он, с одной стороны, был тестем царского брата Юрия и, с другой, дальним родственником — через Бороздиных и Хованских — Владимира Старицкого» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126). id="c_590">590 См.: Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 78. id="c_591">591 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. id="c_592">592 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 31. id="c_593">593 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 511. id="c_594">594 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 348. id="c_595">595 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. id="c_596">596 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 191. id="c_597">597 Б. Н. Флоря справедливо заметил, что детей боярских, т. е. военных вассалов, Владимир и Ефросинья призвали в Москву «с территории своего Старицкого княжества». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 70. id="c_598">598 О заговоре Старицких пишет и Р. Г. Скрынников. — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 92. id="c_599">599 По словам И. Грали, во время болезни Ивана «противники царевича Дмитрия вступили в тайные отношения с претендентом, обещая поддержать его кандидатуру…» (Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С.94). Думается, это произошло не на один год раньше. Болезнь царя лишь активизировала данные «отношения с претендентом». id="c_600">600 СГГиД. 4.1. М., 1813.С. 466. id="c_601">601 «Старицкие, — говорит Р. Г. Скрынников, — пытались использовать благоприятную ситуацию и втайне готовились захватить власть». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 92. id="c_602">602 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 268; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 79. id="c_603">603 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С.92. В книге «Царство террора», изданной много позже, Р. Г. Скрынников убрал идею о заговоре Старицких и несколько приглушил мысль о затеваемом ими перевороте. Оказывается, Владимира Старицкого «заподозрили в подготовке военного переворота, что удостоверено записями 1554 г.» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 109). И уж вовсе далекое от действительности объяснение сбора детей боярских князем Владимиром и княгиней Евфросиньей приводит Б. Н. Флоря: «Старицкий князь, конечно, знал, что сразу после смерти Василия III Боярская дума арестовала и заключила в тюрьму его дядю, брата великого князя Юрия, опасаясь его притязаний на трон в малолетство наследника, и мог поэтому принимать меры по обеспечению своей безопасности с помощью военных слуг». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 70. id="c_604">604 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523–524. id="c_605">605 Там же. С. 524. id="c_606">606 Там же. С. Б. Веселовский по какой-то причине перепутал последовательность описанных в интерполяции событий. Он писал: «Мысль привести кн. Владимира ко кресту царевичу Дмитрию возникла у приближенных царя в первый же день, но распри бояр, по-видимому, заставили отложить это дело. «А как привел государь бояр к целованию, и государь велел записати запись целовалную, на чем приводити к целованию кн. Володимира Ондреевича». На отказ кн. Владимира присягать царь будто бы сказал: «То ведаешь сам: коли не хочешь креста целовати, то на твоей душе; што ся станет, мне до того дела нет». После этой угрозы царь удалился в свои покои, приказав боярам действовать без него. Бояре заявили князю, что они не выпустят его, пока он не поцелует крест. «И едва князя Володимира принудили крест целовати, и целовал крест поневоле». Кн. Евфросинья отказалась привесить свою печать к записи сына, со словами: «Что то де за целование, коли неволное? и много речей бранных говорила. И оттоле быть вражда велия государю с князем Володимером Ондреевичем, а в боярех смута и мятеж». Создавшееся положение грозило старицким князьям «нятством» и смертью в тюрьме, и только тут выступил Сильвестр…» (Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С.284). Сильвестр, как следует из приписки к Царственной книге, выступил после того, как ближние бояре «часто не почали пущати» Владимира Старицкого к больному Ивану, т. е. раньше, чем это изображает С. Б. Веселовский. Кроме того, исследователь небрежно излагает мартовские события 1553 года, в результате чего в его изложение вкрадываются отдельные неточности, странные для историка, пользующегося репутацией тонкого источниковеда. Так, целование креста Владимиром Старицким пришлось отложить не из-за боярских распрей, а по причине, прежде всего, отказа большинства бояр присягать царевичу Дмитрию, вызвавшего столкновение Боярской Думы с Ближней Думой. Когда Дума была приведена к присяге, настал черед и князя Старицкого. Далее, княгиня Евфросинья отказывалась привесить к целовальной грамоте не свою, но, как в источнике сказано, княжую печать, т. е. печать кн. Владимира, хранимую старицкой княгиней. К сожалению, уже во время издания документа в начале XIX века на этой восковой печати, привешенной к грамоте «на шелковом малиновом снурке», «за растеплением воску никакого изображения на оной видеть не можно). — СГГиД. 4. 1. С. 461. id="c_607">607 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 284. id="c_608">608 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 285, 286. id="c_609">609 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 104. id="c_610">610 Там же. С. 94. id="c_611">611 Следует согласиться с А. Л. Дворкиным, когда он говорит: «Крайняя осторожность и смирение Сильвестра позволяли ему всегда оставаться в тени, не занимая никакого официального положения при дворе, поэтому его истинная роль и не могла быть заметна большинству современников. Громадное влияние Сильвестра заключалось в том, что он был одним из главных идеологов политики Избранной Рады и духовным вождем ее участников» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. Нижний Новгород, 2005. С. 74). Тут все, на наш взгляд, верно, за исключением смирения Сильвестра, чье активное вмешательство в мирские дела свидетельствует об обратном. id="c_612">612 А. Л. Дворкин старается изобразить Сильвестра в мартовских событиях 1552 года некой «овечкой». Оказывается, Сильвестр «лишь спросил» бояр, «может ли двоюродный брат царя, князь Владимир Старицкий, повидать больного» (Там же. С. 119). Неизвестно только, откуда историк почерпнул такого рода сведения. id="c_613">613 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 3. М., 1976. С. 50. id="c_614">614 Ср.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 283–285. id="c_615">615 Смирнов И. И. Очерки… С. 272 (прим. 21). id="c_616">616 Там же. С. 271. id="c_617">617 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. id="c_618">618 Там же. id="c_619">619 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 349. Аналогичным образом рассуждает новейший исследователь А. И. Филюшкин. — Филюшкин А. И. История одной мистификации… С.79. id="c_620">620 Смирнов И. И. Очерки… С. 272. id="c_621">621 Там же (прим. 21). id="c_622">622 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 411. См. также: Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 70. id="c_623">623 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 93–94. id="c_624">624 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111. id="c_625">625 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 48–49. id="c_626">626 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. id="c_627">627 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 94–95. id="c_628">628 Там же. С. 102. id="c_629">629 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 102. id="c_630">630 А. Л. Хорошкевич должна была бы сказать: так полагают Р. Г. Скрынников и И. Граля. id="c_631">631 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 126. В книге, написанной в соавторстве с А. А. Зиминым, А. Л. Хорошкевич придерживалась несколько иного взгляда, полагая, что И. М. Шуйский «хотел уклониться» от присяги. — Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 70. id="c_632">632 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. id="c_633">633 Там же. id="c_634">634 Шуйский вообще обошел молчанием проблему взаимоотношений старших и молодых бояр. Поэтому рассуждения Р. Г. Скрынникова, будто Иван Шуйский был недоволен тем, что руководить церемонией присяги поручили не ему, а молодому боярину Воротынскому, повисают в воздухе. id="c_635">635 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. id="c_636">636 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 511. id="c_637">637 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. М., 1990. С. 434. id="c_638">638 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 65. id="c_639">639 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 294, 348. id="c_640">640 Смирнов И. И. Очерки… С. 271. id="c_641">641 Там же. id="c_642">642 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. id="c_643">643 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 411. «Отец Алексея Адашева окольничий Ф. Г. Адашев хотя и принес присягу, но сделал при этом оговорку…» — читаем в книге А. А. Зимина, вышедшей посмертно и в соавторстве с А. Л. Хорошкевич (Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 71). Текст, как видим, несколько изменен (наверное, А. Л. Хорошкевич), причем не лучшим образом — с неточностями. id="c_644">644 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 413. id="c_645">645 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 53. Во-первых, Федор Адашев являелся тогда окольничим, а не боярином. Во-вторых, когда он выражал свои «сомнения», он еще не поцеловал крест царевичу Дмитрию. В-третьих, он не делился сомнениями, а высказал свое твердое неприятие Захарьиных в качестве регентов при малолетнем Дмитрии. id="c_646">646 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 282. id="c_647">647 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 94. id="c_648">648 Там же. id="c_649">649 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 49. id="c_650">650 См. также: Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. С. 242; 2) Крест и корона… С. 239. id="c_651">651 Эту нелепость повторяет А. Л. Дворкин. «Адашев заявил, что «целует крест» наследнику, но не Захарьиным», — пишет он. — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. id="c_652">652 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111–112. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. id="c_653">653 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 112. Эта концовка выглядит иначе в книге 2002 года об Иване Грозном: «Адашев старший недвусмысленно высказался за присягу законному наследнику, но при этом выразил недоверие Захарьиным. Выступление Федора Адашева отличалось большой откровенностью». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 69. id="c_654">654 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 95. id="c_655">655 Там же. С. 102. id="c_656">656 Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 191. id="c_657">657 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 284. id="c_658">658 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 523. id="c_659">659 Там же. С. 524. id="c_660">660 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 271. id="c_661">661 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. id="c_662">662 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412–413. id="c_663">663 Вот почему в высшей степени проблематичным является утверждение А. Л. Дворкина о том, что никто из бояр «не отказывался от крестного целования наследнику, в том числе и те, кого беспокоило усиление Захарьиных-Юрьевых». — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. id="c_664">664 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_665">665 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 93. id="c_666">666 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 71. id="c_667">667 Смирнов И. И. Очерки… С.264. id="c_668">668 Там же. С. 268. id="c_669">669 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 277–278. id="c_670">670 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 280. id="c_671">671 Там же. С. 281. id="c_672">672 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 334, 335. id="c_673">673 Там же. С. 335. id="c_674">674 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 244. id="c_675">675 Смирнов И. И. Очерки… С. 275. id="c_676">676 Там же. С. 275–276. id="c_677">677 Там же. С. 276. id="c_678">678 Там же. id="c_679">679 Там же. С. 276–277. id="c_680">680 Смирнов И. И. Очерки… С. 277. id="c_681">681 Недавно она была в некотором роде воспроизведена В. В. Шапошником: «Было и еще одно, что не может не броситься в глаза, — в рассказе о царской болезни ни словом не упоминается митрополит Макарий — один из виднейших деятелей правительства того времени. Предположить, что он просто не присутствовал при бурных событиях, невозможно: тяжелая болезнь правителя не могла обойтись без присутствия первоиерарха Русской церкви. Вполне вероятно, что и Макарий оказался не в числе сторонников кандидатуры царевича Дмитрия. Просто авторы приписок к летописи не сочли нужным упоминать об этом неприятном для царя факте. О позиции Макария говорит позиция его ставленника Сильвестра». — Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 194. id="c_682">682 Андреев Н. Е. Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного // ТОДРЛ. Т. 18. М.-Л., 1962. С. 129. id="c_683">683 Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 37. id="c_684">684 Там же. С. 37–38. id="c_685">685 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 98. id="c_686">686 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 51. id="c_687">687 Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 186–187; 2) Государство и церковь на Руси… С. 243; 3) Царство террора. С. 113; 4) Крест и корона… С. 239. id="c_688">688 Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 188; 2) Государство и церковь на Руси… С. 245; 3) Царство террора. С. 113; 3) Крест и корона… С. 240. id="c_689">689 Скрынников Р. Г. 1) Святители власти. С. 189; 2) Государство и церковь на Руси… С. 246; 3) Крест и корона… С. 241. id="c_690">690 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 114. id="c_691">691 Там же. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Святители и власти. С. 189–190; 2) Государство и церковь на Руси… С. 246; 3) Крест и корона… С. 241. id="c_692">692 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524, 525. id="c_693">693 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 298. id="c_694">694 Аз грешный вам известих желание свое о пострижении». — Послания Ивана Грозного. СПб., 2005. С. 164. id="c_695">695 Там же. id="c_696">696 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 74. id="c_697">697 Надо сказать, что творческая изобретательность Р. Г. Скрынникова не оскудевает. Недавно он предложил новую версию умолчания имени митрополита Макария в мартовских событиях 1553 года. Ему, наконец, стало «понятным замечание Курбского о том, что Сильвестру удалось отогнать от царя Ивана «ласкателей» после того, как он «присовокупляет себе в помощь архиерея онаго великаго града» Москвы, иначе говоря, митрополита Макария. Вот причина, почему Грозный ни словом не обмолвился о Макарии в своем отчете о кризисе 1553 г. Смертельная болезнь государя [почему не умер, коль смертельная!] и династический кризис выдвинули фигуру митрополита на первый план. Если монарх в своем отчете о «мятеже» вообще не упомянул имени Макария, то лишь потому, что щадил его память. Он не стал обвинять пастыря церкви в том, в чем обвинял «изменных бояр», а именно во вражде к Захарьиным» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 86). id="c_698">698 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 137, 186 (прим. 326). id="c_699">699 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 137–138. id="c_700">700 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 281. id="c_701">701 На это обратил внимание Р. Г. Скрынников, но не сделал из этого никаких выводов. — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 113. id="c_702">702 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 112. «Центральное место в «Сказании о мятеже», — пишет в другой своей книге Р. Г. Скрынников, — занимают царские речи, произнесенные в день «мятежа» в Думе. Сочинение вымышленных речей, соответствующих характеру героя, отвечало издавна сложившимся канонам летописания. Речи «Сказания» не были исключением. Но их своеобразие заключалось в том, что царские речи были сочинены не летописцем, а самим государем» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002, С. 135). Однако, коль Иван — не летописец, а государь, то незачем ему приписывать исполнение «канонов летописания», тем более что он воспроизводил не чужие слова, как это делали летописцы, а собственные. Вопрос, следовательно, в том, насколько хорошо царь запомнил собою сказанное и насколько точно передавал его. Мартовские события 1553 года, памятные своим драматизмом, стали к тому же поворотными в отношении царя Ивана к Сильвестру и Адашеву. Иван IV прекрасно помнил о том, что тогда с ним приключилось, помнил как по причине экстраординарности произошедшего, так и благодаря своей феноменальной памяти, поражавшей современников. — См.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 125. id="c_703">703 Некоторые историки «зациклились», что называется, именно на речах. — См., напр.: Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV…; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 79; Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. id="c_704">704 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. id="c_705">705 Так, собственно, и поступает А. Л. Хорошкевич, для которой «бурная активность» Ивана, в том числе его неоднократные речи, служат признаком душевного смятения, нежели настоящей болезни. — См.: Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV… С. 37. id="c_706">706 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 273. id="c_707">707 Здесь лежит и наш ответ Р. Г. Скрынникову относительно того, был ли у Ивана повод «для «жестокого слова» и отчаянных призывов». id="c_708">708 Смирнов И. И. Очерки… С. 273–274. id="c_709">709 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. id="c_710">710 Смирнов И. И. Очерки… С. 274. id="c_711">711 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. id="c_712">712 СГГиД. 4. I. С. 460. id="c_713">713 См.: Там же. С. 461. В крестоцеловальных грамотах на имя царя Ивана и царевича Ивана (апрель и май 1554 г.) эта подпись наличествует. — Там же. С. 464, 468. id="c_714">714 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 524. id="c_715">715 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525–526. id="c_716">716 Иван не мог забыть формулу присяги на имя царевича Дмитрия, поскольку сам настаивал на ней. О том, что он помнил об этой формуле, свидетельствует рассказ Царственной книги, принадлежащий, по всему вероятию, самому царю: «Да государю же сказывал околничей Лев Андреевич Салтыков, што говорил ему, едучи на площади, боярин князь Дмитрей Иванович Немово: «Бог то знает: нас де бояре приводят к целованию, а сами креста не целовали…» (ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525). Слова недовольного боярина могут показаться странными, поскольку бояре, о которых он говорил, будто они «креста не целовали», в действительности крест целовали, когда их «въ вечеру» приводил к присяге на «княже-Дмитриево имя» сам царь Иван. По мнению Р. Г. Скрынникова, Д.И.Немого-Оболенский «негодовал на то, что регенты принесли присягу не на общем заседании Боярской думы на глазах у всех, а за спиной Думы, на день раньше» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 111). Догадка Р. Г. Скрынникова не имеет под собой никаких оснований, так как Д.И.Немого-Оболенский вообще отрицает принесение присяги ближними боярами. Это следует понимать, на наш взгляд, только так, что Боярская Дума присягала на иной формуле (на имя государя и его сына), чем Ближняя Дума (на имя царевича Дмитрия), вследствие чего присяга ближних бояр теряла силу и, значит, ее как бы и не было. Тогда становится понятно, почему Д.И.Немого упрекал ближних бояр в том, что они «креста не целовали». id="c_717">717 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. id="c_718">718 См.: Смирнов И. И. Очерки… С. 275 (прим. 30). id="c_719">719 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 5 id="c_720">720 Там же. id="c_721">721 Там же. id="c_722">722 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412. id="c_723">723 Смирнов И. И. Очерки… С. 275. Автор еще раз подчеркивает, что летописный текст, относящийся к истории с целованием креста Владимиром Старицким, нужно толковать «не в плане угрозы Владимиру Старицкому заключением в тюрьму, а именно как угрозу смертью». — Там же. С. 275 (прим. 30). id="c_724">724 ПСРЛ. Т. XIII. С. 526. id="c_725">725 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 128. id="c_726">726 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М„1988. С. 94–95. id="c_727">727 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 526. id="c_728">728 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. III. С. 710 (прим. 90). id="c_729">729 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.С. 191. id="c_730">730 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 238. id="c_731">731 Там же. id="c_732">732 Временник Ивана Тимофеева. СПб., 2004. С. 23. id="c_733">733 Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 237. id="c_734">734 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 11. С. 535. id="c_735">735 Там же. С. 535. id="c_736">736 См.: «Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе» // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922. С. 46–47. id="c_737">737 Новое о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Л., 1934. С. 48. id="c_738">738 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к IX тому. М., 1989. Стб. 63 (прим. 277); Устрялов Н. Примечания // Сказания князя Курбского. СПб., 1868. С. 324 (прим. 140). id="c_739">739 См.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. id="c_740">740 См., напр.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. III. С. 302; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 290; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 119; Скрынников Р. Г. 1) Опричный террор. Л., 1969. С. 22; 2) Царство террора. С. 356; Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 78; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. id="c_741">741 ЧОИДР. 1859. Кн. III. С. 95. id="c_742">742 Здесь Н. М. Карамзин, сбиваясь на версию Курбского (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 420), расходится с Таубе и Крузе, говорившими о двух дочерях и двух сыновьях. — См.: Устрялов Н. Примечания. С. 323. id="c_743">743 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III, т. IX. М… 1989. Стб. 83–84. id="c_744">744 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 420. id="c_745">745 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к IX тому. Стб. 63 (прим. 277). id="c_746">746 См.: Устрялов Н. Примечания. С. 325; Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. Вып. I. М., 1960. С. 59; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., [964. С. 290–292; Скрынников Р. Г. 1) Опричный террор. С. 22; 2) Царство террора. С. 356; Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 78; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. В безымянной статье о Владимире Старицком, помещенной в «Советской исторической энциклопедии», говорится, что в октябре 1569 года Владимир Андреевич Старицкий «был казнен вместе с женой и младшими детьми (два сына и две дочери)…» (Советская историческая энциклопедия. 3. М., 1963. Стб. 524). Автор энциклопедической статьи тут следовал за Таубе и Крузе. id="c_747">747 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 292. А. А. Зимин, следовательно, насчитал у Старицкого троих детей: сына и двух дочерей. По Р. Г. Скрынникову, у Владимира Старицкого детей было четверо — сын Василий, две дочери от первого брака и одна дочь от второго брака, казненная вместе с отцом и матерью «на Богане». — См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 149; М., 2002. С. 251. id="c_748">748 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Примечания к X тому. Стб. 31 (прим. 152); Устрялов Н. Примечания. С. 325 (прим. 142). id="c_749">749 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 56; 2) Опричный террор. С. 24; 3) Царство террора. С. 38, 356. id="c_750">750 «Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе». С. 46. id="c_751">751 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 149; М., 2002. С. 250–251. id="c_752">752 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 236. id="c_753">753 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 777. id="c_754">754 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.-Л., 1950. С. 480. id="c_755">755 Р. Г. Скрынников утверждает: «В розыскном деле о новгородской измене, хранившемся в царском архиве, значилось, что Владимир Андреевич с единомышленниками «хотели злым умышлением извести» царя и великого князя Ивана Васильевича» (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 356). Автор здесь допускает очередную неточность. В розыскном деле говорилось, что «извести» государя хотели архиепископ Пимен с новгородцами и московские бояре с приказными людьми, а не «Владимир Андреевич с единомышленниками». Что же касается Владимира Старицкого, то его злоумышленники намеревались «на государство посадити». id="c_756">756 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 289–290. id="c_757">757 Те же, по-видимому, недоброжелатели распространили слух о том, что Марию отравил сам царь, о чем заявляет Пискаревский летописец: «Да тогда же опоил царицу Марью Черкаскову» (ПСРЛ. Т. 34. С.191). Подобная версия присутствует в исторических песнях, где, впрочем, отравление Марии связывается с ее собственным желанием умертвить своего мужа (см.: Шамбинаго С. К. Песни времени царя Ивана Грозного. Сергиев Посад, 1914. С. 56–57). Существует еще одна версия, согласно которой Иван велел постричь Марию и отправить ее в монастырь. — Горсей Джером. Записки о России. XVI — начало XVII в. М., 1990. С. 55. id="c_758">758 ААЭ. Т. I. С. 329. id="c_759">759 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 431. Ср.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 209. id="c_760">760 ААЭ. Т. I. С. 329. id="c_761">761 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. id="c_762">762 Штаден Генрих. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 100. id="c_763">763 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 94. id="c_764">764 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 207; М., 2002. С. 430. id="c_765">765 См.: Панова Т. Химия уточняет историю. Жена Ивана Грозного царица Анастасия была отравлена — это подтвердил химический анализ, проведенный в наше время // Наука и жизнь. 1997, № 4. С. 82–86. id="c_766">766 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 290. id="c_767">767 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 292–293. id="c_768">768 У А. Л. Дворкина не вяжутся концы с концами, когда он говорит, что Сильвестр и Адашев придерживались «неустойчивого нейтралитета, явно желая воцарения их друга, князя Владимира Старицкого» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 118). Явное желание воцарения друга и нейтралитет, пусть даже неустойчивый, совместить, на наш взгляд, невозможно. id="c_769">769 По словам С. Б. Веселовского, «смута, мятеж и распри… продолжались не менее двух недель и закончились тогда, когда царь вполне поправился и опасность его смерти миновала». — Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 285. id="c_770">770 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 282. id="c_771">771 Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. id="c_772">772 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 348; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_773">773 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_774">774 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. Ср.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_775">775 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. id="c_776">776 Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV–XVII вв. М., 1969. С.100. id="c_777">777 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 81–82. id="c_778">778 Там же. С. 82. id="c_779">779 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года… С. 280. Сходную логику демонстрирует А. Л. Дворкин. «Зная характер Грозного, — говорит он, — трудно поверить, что он (Грозный. — И.Ф.), потеряв доверие к ближайшим друзьям и советникам, мог терпеть их у власти еще семь-девять лет. Напротив, известно, что сразу же по выздоровлении он пожаловал Алексея Адашева чином окольничего, а его отца сделал боярином; князь же Владимир Старицкий был объявлен правителем государства и опекуном наследника в случае Ивановой смерти». — Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 119. id="c_780">780 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года… С. 283, 285, 288. id="c_781">781 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. II. Т. VIII. М., 1989. Стб. 129–130. id="c_782">782 Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989. С. 512. id="c_783">783 Там же. id="c_784">784 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 283. id="c_785">785 Полевой H. А. История русского народа: В трех томах. Т. III. М., 1997. С. 459–460. id="c_786">786 Устрялов Н. Примечания. С. 322 (прим. 140). id="c_787">787 Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 143. id="c_788">788 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 230–231. id="c_789">789 Там же. С. 231–232. id="c_790">790 Там же. С. 232. id="c_791">791 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 481. id="c_792">792 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. М., 1958. С. 38; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 22; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 30. id="c_793">793 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 360. id="c_794">794 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины, С. 482. id="c_795">795 См.: Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998. С. 44. id="c_796">796 См.: Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. СПб., 1904. С. 158; Зимин А. А. Когда Курбский написал «Историю о великом князя Московском»? // ТОДРЛ. Т. XVIII. М.; Л., 1962. С. 306; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 39. id="c_797">797 См.: Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С.22; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 30. id="c_798">798 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. Подобно Курбскому, винят Ивана в гибели Дмитрия и некоторые современные историки. — См., напр.: Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 179. id="c_799">799 Библиотека Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. id="c_800">800 Там же. id="c_801">801 Максима Грека князь Курбский сам называл своим «превозлюбленным учителем». — Там же. С. 564. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 73; Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 138, 143. id="c_802">802 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 352. id="c_803">803 Там же. id="c_804">804 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 352. id="c_805">805 Там же. С. 352, 354. id="c_806">806 Там же. С. 354. id="c_807">807 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 98–99. id="c_808">808 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116. id="c_809">809 Там же. id="c_810">810 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 350. id="c_811">811 Там же. С. 354, 356, 358, 360. См. также: Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. С. 515; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 73. Р. Г. Скрынников повторил эту неточность и в новейшей своей книге, утверждая, что инок Вассиан находился в Кириллове (Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 116). Впрочем, ради справедливости надо сказать, что не только Р. Г. Скрынников заслуживает здесь упрека. С. В. Бахрушин, например, также говорил, что Иван IV, посетив в 1553 году Кирилло-Белозерский монастырь, «зашел к проживавшему там бывшему епископу коломенскому Вассиану Топоркову». — Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 293. id="c_812">812 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 73. id="c_813">813 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 482. id="c_814">814 Там же. id="c_815">815 Там же. id="c_816">816 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. id="c_817">817 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 74. id="c_818">818 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 482. id="c_819">819 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 415. В совместной работе с А. Л. Хорошкевич историк говорит, что царевич просто умер: «В июне 1553 г. во время поездки Ивана IV на богомолье царевич Дмитрий умер». — Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. С. 71. id="c_820">820 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. id="c_821">821 Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. С. 121. id="c_822">822 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 80. id="c_823">823 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 103. id="c_824">824 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. См. также: Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений России середины XVI века // История СССР. 1976, № 3. С. 82–83, 87–97; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 82. id="c_825">825 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 525. id="c_826">826 Там же. id="c_827">827 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. id="c_828">828 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 117. id="c_829">829 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. id="c_830">830 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. id="c_831">831 1) Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 106; 2) Царство террора. С. 115. Ср.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 117; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 139. id="c_832">832 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. id="c_833">833 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237, 238. id="c_834">834 Там же. С. 238 (прим. 1). id="c_835">835 Там же. С. 238. id="c_836">836 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 80. id="c_837">837 ПСРЛ. Т. XIII. С. 238. id="c_838">838 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. id="c_839">839 ПСРЛ. Т. XIII. С. 237, 238. id="c_840">840 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 267. id="c_841">841 Выступления кн. И. М. Шуйского и Ф. Г. Адашева, означавшие прямой призыв к Боярской думе перейти на сторону Владимира Старицкого, — говорит И. И. Смирнов, — вызвали бурную реакцию со стороны боярства…». — Смирнов И. И. Очерки… С. 272. Ср.: Абрамович Г. В. Князья Шуйские и Российский трон. С. 105. id="c_842">842 См. Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. id="c_843">843 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 412–413. id="c_844">844 Там же. С. 413. id="c_845">845 См.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. id="c_846">846 Уместно еще раз напомнить слова из ранней книги Р. Г. Скрынникова относительно интерполяций Синодального списка и Царственной книги: «Летописные приписки имеют один общий сюжет — заговор, организованный боярами во время болезни царя в марте 1553 года. Сведения, касающиеся этого сюжета, не противоречат друг другу, а напротив, почти полностью совпадают». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 30. id="c_847">847 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 268. id="c_848">848 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 116–117; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 72. id="c_849">849 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 117. id="c_850">850 Там же. С. 116. id="c_851">851 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 237. id="c_852">852 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 82. id="c_853">853 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 453. id="c_854">854 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 238. id="c_855">855 Там же. id="c_856">856 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 108; 2) Царство террора. С. 119; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 73. id="c_857">857 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 81. id="c_858">858 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 108; 2) Царство террора. С. 119; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 72–73. id="c_859">859 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 107. id="c_860">860 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 32, 80. id="c_861">861 Там же. С. 81. id="c_862">862 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 246–247. id="c_863">863 Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 269–270. id="c_864">864 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 212. id="c_865">865 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 214–215. id="c_866">866 См.: Веселовский С. Б. Последние уделы в северо-восточной Руси // Исторические записки. Т. 22. 1947. С. 106; Альшиц Д. Н. 1) Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени // Исторические записки. Т. 23. 1947. С. 285–286; 2) Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 266; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М… 1964. С. 71–72; Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия… С. 205–210. Ср.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 28–32; 2) Царство террора. С. 25–29. id="c_867">867 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 274; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 32. id="c_868">868 Смирнов И. И. Очерки… С. 265. id="c_869">869 См.: Альшиц Д. Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 года. С. 275–278. id="c_870">870 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 211. id="c_871">871 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_872">872 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 71. id="c_873">873 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 52. id="c_874">874 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 68. id="c_875">875 Там же. 72. id="c_876">876 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 115. id="c_877">877 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 103. id="c_878">878 Там же. id="c_879">879 Этим, по-видимому, объясняется активное участие в мартовской политической интриге князя И. М. Шуйского. Успех Владимира Старицкого подавал роду Шуйских-Рюриковичей заманчивые надежды на будущее, которым суждено было осуществиться лишь во времена Смуты при необычных обстоятельствах пресечения династии великих князей Московского дома. id="c_880">880 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 109. id="c_881">881 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 25. id="c_882">882 Там же. С. 135. id="c_883">883 Королюк В. Д. Ливонская война. Из истории внешней политики Русского Централизованного государства во второй половине XVI в. М., 1954. С. 29. id="c_884">884 Там же. id="c_885">885 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 556 id="c_886">886 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 235. id="c_887">887 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 90. id="c_888">888 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 414. id="c_889">889 Там же. id="c_890">890 Там же. С. 417. id="c_891">891 «И придет воля Божия над тобою Государем нашим: и мне Князю Володимеру Ондреевичу, по твоей Государя моего душевной грамоте, держати сына твоего Царевича Ивана в твое место Государя своего…». — СГГиД. 4.1. С. 463, 465. id="c_892">892 Там же. С. 460–461. id="c_893">893 Альшиц Д. Н. Крестоцеловальные записи Владимира Андреевича Старицкого и недошедшее завещание Ивана Грозного // История СССР. 1959, № 4. С. 148–149. id="c_894">894 Власть и реформы… С. 78. Здесь все верно, за исключением, пожалуй, слова «амбиции», неуместного в данном случае. id="c_895">895 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… М., 1998. С. 106. id="c_896">896 Платонов С. Ф. Иван Грозный. М., 1998. С. 70. id="c_897">897 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 71. id="c_898">898 Там же. С. 71–72. id="c_899">899 Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. М., 1963. С. 69. id="c_900">900 Там же. С. 70. id="c_901">901 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. М., 1955. С. 370. См. также: История СССР. С древнейших времен до наших дней. Т. II. М., 1966. С. 181. id="c_902">902 Власть и реформы… С. 78. id="c_903">903 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 203–204. id="c_904">904 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 204. id="c_905">905 Там же. С. 205. id="c_906">906 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 35–36. id="c_907">907 Там же. С. 36. id="c_908">908 См.: Пашуто В. Т. 1) Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век). М., 1956. С. 92–118, 133–146; 2) Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 226–241. id="c_909">909 С. О. Шмидт полагает, что «и накануне Ливонской войны, и в ее первые годы руководитель внешней политики Российского государства Адашев отнюдь не был противником активизации борьбы за выход России к Балтийскому морю, и само назначение воеводой на фронт военных действий не воспринималось первоначально как опала» (Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. С. 247). И. В. Курукин, ученик С. О. Шмидта, в свою очередь, считает, что и Сильвестр не являлся противником войны на западных рубежах России (см.: Курукин И. В. К изучению источников о начале Ливонской войны и деятельности правительства А. Ф. Адашева и Сильвестра // Источниковедческие исследования по истории феодальной России. М., 1981). У нас нет оснований, чтобы согласиться с этими положениями С. О. Шмидта и И. В. Курукина. Традиционная точка зрения насчет позиции Сильвестра и Адашева в ливонском вопросе нам представляется более обоснованной, чем взгляд С. О. Шмидта и И. В. Курукина, противоречащий как отечественным, так и зарубежным источникам. К числу последних принадлежит дневник и отчет дипломата Томаса Хорнера. Их анализ, проделанный шведским историком Свенссоном, убеждает в отрицательном отношении Адашева к войне в Ливонии. Даже первый поход в Ливонию «не положил конец дипломатическим переговорам и стремлениям А. Адашева добиться мирного исхода конфликта» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 472–474). Противоречивые суждения по вопросу об отношении Алексея Адашева к Ливонской войне высказывает Р. Г. Скрынников. В своей недавней книге об Иване Грозном он заявляет, что Адашев и его окружение не были противниками войны в Ливонии (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 103, 104). В первом издании той же книги он утверждает иное: «В московском правительстве образовались две партии: Адашев настаивал на продолжении активной восточной политики и снаряжал экспедиции против Крыма, а его противники выступали за войну с Ливонией». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 128–137. id="c_910">910 Р. Г. Скрынников вслед за другими историками говорит: «Планы Ливонской войны получили поддержку со стороны московского дворянства» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66). Но однозначные решения здесь вряд ли плодотворны. id="c_911">911 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. id="c_912">912 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 287. См. также: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 218; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206, 208. id="c_913">913 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. id="c_914">914 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 37 (прим. 67); Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. id="c_915">915 См.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 77. id="c_916">916 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 208. id="c_917">917 Там же. id="c_918">918 См.: Соловьев С. М. Сочинения: В 18-ти книгах. Кн. III. М., 1989.С. 486; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. id="c_919">919 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 290. id="c_920">920 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 205. id="c_921">921 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38, 86. id="c_922">922 Там же. id="c_923">923 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 36. id="c_924">924 Там же. id="c_925">925 Там же. С. 36, 37. id="c_926">926 Флоря Б. Н. Проект антитурецкой коалиции середины XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. С. 76–77. id="c_927">927 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 128. id="c_928">928 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 218. id="c_929">929 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 210. id="c_930">930 Там же. С. 209. id="c_931">931 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38, 86. id="c_932">932 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 206. id="c_933">933 Там же. С. 207. id="c_934">934 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 210. id="c_935">935 Там же. id="c_936">936 Там же. С. 207. id="c_937">937 Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 145. id="c_938">938 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 38. id="c_939">939 Там же. С. 39. id="c_940">940 Там же. С. 39–40. id="c_941">941 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 40. id="c_942">942 Там же. С. 41. id="c_943">943 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 133. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 66. id="c_944">944 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 224. id="c_945">945 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 41. Аналогичным образом рассуждают и такие выдающиеся исследователи эпохи Ивана Грозного, как С. Ф. Платонов, А. А. Зимин и Р. Г. Скрынников. «Ливонцы, — говорит С. Ф. Платонов, — воспользовались перемирием для того, чтобы найти покровителей и союзников против Москвы» (Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 73). По словам А. А. Зимина, ««прекословие» Адашева по вопросу о целесообразности Ливонской войны дорого стоило России: получив в 1559 г. благодаря заключению перемирия передышку, ливонские рыцари втянули в конфликт польского короля Сигизмунда II Августа…» (Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 81. См. также: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960. С. 474; Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 94–95). «Рыцари использовали перемирие, предоставленное им Москвой для сбора военных сил», — пишет Р. Г. Скрынников. — Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 67; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 105. id="c_946">946 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. id="c_947">947 Там же. id="c_948">948 Там же. С. 14. id="c_949">949 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 44. id="c_950">950 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 234. id="c_951">951 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 134. «Магистр Кетлер, — пишет Р. Г. Скрынников в другой своей работе, — подписал договор с литовцами. Орден перешел под патронат Литвы и Польши. Договор круто изменил ход Ливонской войны… Конфликт с Ливонией стремительно перерастал в более широкий вооруженный конфликт с Литвой и Польшей в тот самый момент, когда Россия ввязалась в войну с Крымским ханством». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 67. id="c_952">952 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 43. id="c_953">953 С. Ф. Платонов отмечал, что против Москвы стали Швеция, Дания, Речь Посполитая, «а за ними император и вообще Германия». — Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 72. id="c_954">954 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. id="c_955">955 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 132. id="c_956">956 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 104. id="c_957">957 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 294–295. id="c_958">958 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 45. id="c_959">959 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 134. id="c_960">960 В. Б. Кобрин пытался снять с Адашева ответственность за предательское перемирие с Орденом в 1559 году и возложить ее на Ивана IV. Историк писал: «Иван Грозный впоследствии обвинял Адашева в том, что по его инициативе было заключено перемирие с Ливонским орденом, которое дало противнику возможность оправиться от поражений. Когда результаты известны, всегда легко обвинить в злонамеренности того, кто совершил ошибку. Еще легче и приятнее списать свою ошибку на другого: ведь перемирие не могло быть заключено без санкции царя, а он был мастером перекладывать ответственность на чужие плечи» (Кобрин В. Д. Иван Грозный. М., 1989. С. 54–55). Думается, психологические мотивы здесь неуместны. Следует, прежде всего, исходить из реальной позиции и политики Адашева. А он вместе с Сильвестром, как мы знаем, являлся стойким противником войны с Орденом в частности и с Западом вообще, в чем сказывались прозападные симпатии того и другого. id="c_961">961 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 292. id="c_962">962 Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. Ч.I. М., 1981. С. 48. id="c_963">963 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 134; 2) Царство террора. С. 132. Иной точки зрения придерживается Б. Н. Флоря. «Благодаря успешным действиям военных отрядов, — говорит он, — Крымская орда оказалась запертой на Крымском полуострове и впервые за много лет сама стала объектом нападений. Как с энтузиазмом записал на страницах официальной летописи Алексей Адашев, «русская сабля в нечестивых жилищах тех по се время кровава не бывала…», а теперь «морем его царское воинство в малых челнех… якоже в кораблех ходяще… на великую орду внезапу нападаше и повоевав и, мстя кров крестианскую поганым, здоруво отъидоша». Войско во главе с Данилой Адашевым, разорив побережье Крыма и освободив «русский» и «литовский» полон, благополучно вернулось на русскую территорию, нанеся серьезные потери орде, пытавшейся задержать его на днепровских переправах. Вернувшиеся из похода в сентябре 1559 года Данила Адашев и Игнатий Вешняков были пожалованы царем за службу». — Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 131. id="c_964">964 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 67. id="c_965">965 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 318–320. id="c_966">966 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 380. id="c_967">967 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 132. «Безрезультатность широко задуманного похода Даниила Адашева на Крым в 1559 г., — говорит новейший исследователь, — могла вызвать только раздражение у своенравного монарха». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 81. id="c_968">968 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 37. id="c_969">969 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 380. id="c_970">970 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 134–135. id="c_971">971 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 292. id="c_972">972 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 232. id="c_973">973 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 321. id="c_974">974 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 106. id="c_975">975 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33. id="c_976">976 «Некоторую неуверенность в данном вопросе проявляет А. А. Зимин. Он пишет: «В мае 1560 г. в Ливонию был отправлен Алексей Адашев. Здесь его назначили третьим воеводой большого полка (после князя И. Ф. Мстиславского и М. Я. Морозова) <…>. Трудно сказать, была ли опалой посылка Адашева в войска, но, вероятно, в ней можно увидеть первое предзнаменование царской немилости». — Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 475. id="c_977">977 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 133. id="c_978">978 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 285. id="c_979">979 См.: Королюк В. Д. Ливонская война. С. 47. id="c_980">980 Там же. С. 48. id="c_981">981 Там же. id="c_982">982 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 38. id="c_983">983 Королюк В. Д. Ливонская война. С. 48. id="c_984">984 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 227–228. Я. С. Лурье и О. В. Творогов, не отличая «наряд» от «народа», предлагают следующий перевод данного текста: «погубили много нашего народа». — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148. id="c_985">985 О том, что слово «наряд» обозначало артиллерию, свидетельствует летопись: «приходил маистр къ Ааюсу со многими людми Неметцкими и съ нарядом со многим и, поставя туры, били по городу из наряду»; «из города изъ наряду две пушки розбили»; «наряд прикатя, и учали бити съ утра до обеда и стену до основания розбили», и т. д. — ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 323, 325. См. также: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. С. 228. id="c_986">986 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 136, 137. См. также: Зутис Я. Я. К вопросу о ливонской политике Ивана IV // Известия АН СССР. Серия истории и философии. Т. IX, № 2. 1952. id="c_987">987 См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 56–57. id="c_988">988 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 328. id="c_989">989 См.: Воронова И., Панова Т. Химик уточняет историю. Жена Ивана Грозного царица Анастасия была отравлена — это подтвердил химический анализ, проведенный в наше время // Наука и жизнь. 1997, № 4. С. 82–86. id="c_990">990 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. id="c_991">991 Там же. С. 33. id="c_992">992 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 134. id="c_993">993 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 306, 312–313. id="c_994">994 См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 109. id="c_995">995 Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 2. 4.1. С. 82. id="c_996">996 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 134. Одну из глав своей книги об Иване Грозном историк называет «Отставка Адашева». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. id="c_997">997 Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. С. 95. id="c_998">998 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 109. id="c_999">999 Там же. id="c_1000">1000 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. С. 135. id="c_1001">1001 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. id="c_1002">1002 Следует заметить, что А. Г. Кузьмин чересчур доверял этому рассказу А. М. Курбского и строил на нем своего рода концепцию истории взаимоотношений России с покоряемыми военной силой народами. «Курбский в «Истории», — говорил он, — отмечает, что, будучи в Ливонии, Адашев умел расположить к себе города и народы, так что они сами готовы были пойти «под руку» московского царя. Ранее та же политика была испытана в Поволжье. Для России она стоила недешево: приходилось отнимать у себя, чтобы передать другим. И все же дешевле, чем при лобовом пробивании «окна в Европу». — Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр // Великие государственные деятели России. М., 1996. С. 145. id="c_1003">1003 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. id="c_1004">1004 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181. id="c_1005">1005 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 475 (прим. 7). id="c_1006">1006 Р. Г. Скрынников почему-то испытывает затруднение в истолковании термина «нарядчик» («нарятчик» в транскрипции автора): «Что именно должен был «наряжать» окольничий, неясно» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 110). Другой исследователь, Б. Н. Флоря, вопреки сообщению Пискаревского летописца, утверждает, будто царь велел быть Адашеву в Юрьеве, «не давая ему никакой должности. В «Пискаревском летописце, неизвестный составитель которого записал в начале XVII века рассказы старших современников о времени правления Ивана IV, сохранились припоминания, что Алексей Федорович «бил челом многажды» наместнику Юрьева князю Дмитрию Ивановичу Хилкову, чтобы тот дал ему какую-нибудь должность, но тот «не велел быти», очевидно, потому, что не имел на этот счет никакого приказа от царя. Во всем этом, как представляется, явно проявилось желание царя отстранить своего бывшего ближайшего друга и советника от всякого участия в государственной деятельности» (Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 136). Известия Пискаревского летописца Б. Н. Флоря, как видим, переиначил. id="c_1007">1007 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 327. id="c_1008">1008 Там же. С. 323. id="c_1009">1009 См., напр.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 137. id="c_1010">1010 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 476. id="c_1011">1011 Советская историческая энциклопедия. Т. 1. М., 1961. Стб. 202. id="c_1012">1012 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 145. id="c_1013">1013 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 112. id="c_1014">1014 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 54. id="c_1015">1015 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 400. id="c_1016">1016 Там же. С. 316. id="c_1017">1017 См.: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 69. id="c_1018">1018 Кузьмин А. Г. Адашев и Сильвестр. С. 145; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 325; Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 135. id="c_1019">1019 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 476. id="c_1020">1020 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 53–54. id="c_1021">1021 Примером здесь может служить Р. Г. Скрынников. В книге «Начало опричнины» он писал: «Сознавая безвыходность положения, Сильвестр объявил царю о том, что намерен уйти на покой в монастырь. Иван не стал удерживать своего старого наставника и отпустил его «благословив» на Белоозеро в Кириллов монастырь» (Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 138). Немного позднее автор рисует несколько иную картину: «Созванный в Москве собор осудил их (Сильвестра и Адашева. — И.Ф.) как «ведомых» злодеев. Сильвестра перевели в Соловки на вечное поселение» (Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 69). Недавно Р. Г. Скрынников вернулся «на прежнее»: «Сильвестр, оставшийся в Москве после отъезда Адашева в Ливонию, предпринимал отчаянные попытки предотвратить его отставку. Но успеха не добился. Иван не стал удерживать своего старого наставника и, благословив, отпустил в Кириллов монастырь». — Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 110. id="c_1022">1022 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 81. id="c_1023">1023 Там же. id="c_1024">1024 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 49–50; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 476; Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 325. id="c_1025">1025 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 82. id="c_1026">1026 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1027">1027 Там же. id="c_1028">1028 Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России… С. 99. id="c_1029">1029 Не случайно Д. Н. Альшиц одному из параграфов своей книги о начале самодержавия в России дал характерное название: «Парламентаризму — нет». — Там же. С. 93–101. id="c_1030">1030 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 470. id="c_1031">1031 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90. id="c_1032">1032 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 471. id="c_1033">1033 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 162. id="c_1034">1034 СГГиД. Ч. 1, № 172. С. 471. id="c_1035">1035 СГГиД. 4. 1, № 172. С. 472. id="c_1036">1036 Там же. С. 471. id="c_1037">1037 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 162 (прим. 4). id="c_1038">1038 Там же. С. 162. id="c_1039">1039 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90. id="c_1040">1040 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 124. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 163. id="c_1041">1041 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 339–340. id="c_1042">1042 СГГиД. Ч. 1, № 177. С. 484–485. id="c_1043">1043 СГГиД. 4. 1, № 177. С. 485. id="c_1044">1044 Там же. С. 476. id="c_1045">1045 Там же. С. 479. id="c_1046">1046 Там же. С. 485–486. id="c_1047">1047 СГГиД. Ч. 1, № 177. С. 486. id="c_1048">1048 В данном случае речь, разумеется, идет не обо всем господствующем классе в целом, а об отдельных его представителях. id="c_1049">1049 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. id="c_1050">1050 Альшиц Д. Н. Начальный этап истории самодержавия // Вопросы истории. 1985, № 9. С. 52. id="c_1051">1051 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 346. id="c_1052">1052 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. id="c_1053">1053 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 149. id="c_1054">1054 Там же. id="c_1055">1055 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 112. id="c_1056">1056 См., напр.: Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало XVII в. С. 291; Альшиц Д. Н. Начальный этап истории самодержавия. С. 54. id="c_1057">1057 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 33, 82. id="c_1058">1058 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. id="c_1059">1059 Скрынников Р. Г. Царство террора С. 149. id="c_1060">1060 Там же. id="c_1061">1061 См.: СГГиД. Ч. I, № 177. С. 484–485. id="c_1062">1062 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 167 (прим. 56). id="c_1063">1063 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. id="c_1064">1064 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 343. id="c_1065">1065 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. II. СПб., 1865. С. 155. id="c_1066">1066 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 344. id="c_1067">1067 Описи царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 г. М., 1960. С. 50. По свидетельству другого источника, по материалам сыска «измены» Воротынских было составлено «сыскное дело», к сожалению не сохранившееся: «Столп, дело сыскное про князя Михаила да про князя Олександра Воротынских, которова году, того не написано, вверху нет, весь росклеился». — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVII вв. М.-Л., 1950. С. 480. id="c_1068">1068 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 77. id="c_1069">1069 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 151. id="c_1070">1070 Ср.: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 144. id="c_1071">1071 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 151. id="c_1072">1072 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 90; Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150. id="c_1073">1073 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 150–151. id="c_1074">1074 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 113. id="c_1075">1075 СГГиД. 4. 1, № 178. С. 487–488. Та же формула содержится в поручной записи за бояр, взявших на поруки А. И. Воротынского. — Там же, № 179. С. 490. id="c_1076">1076 Там же, № 189. С. 534. id="c_1077">1077 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 123. id="c_1078">1078 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 344. id="c_1079">1079 Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 129–130. id="c_1080">1080 Описи царского архива и архива Посольского приказа 1614 г. С. 36. id="c_1081">1081 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 152. id="c_1082">1082 А. А. Зимин на основании одной записи из царского архива полагает, что то был Каргопольский монастырь. — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 99. id="c_1083">1083 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 1950. С. 480. id="c_1084">1084 См.: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 153. id="c_1085">1085 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 153. id="c_1086">1086 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 414. id="c_1087">1087 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 113. id="c_1088">1088 Там же. С. 113–114. id="c_1089">1089 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. id="c_1090">1090 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1973. С. 61. id="c_1091">1091 См.: Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 182; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 159, 162. id="c_1092">1092 См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. id="c_1093">1093 Скрынников Р. Г. 1) Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 56; 2) Иван Грозный. М., 1975. С. 88–89. id="c_1094">1094 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 90. id="c_1095">1095 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 59. id="c_1096">1096 См.: Кунцевич Г. З. Акт Литовской метрики о бегстве князя А. М. Курбского // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1914. 4. XIX, кн. 2. С. 284. id="c_1097">1097 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 97. id="c_1098">1098 Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 61–62. id="c_1099">1099 Ср.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61–62. id="c_1100">1100 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины… С. 118. id="c_1101">1101 Там же. С. 112–113. См. также: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 143, 144. id="c_1102">1102 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины… С. 122. id="c_1103">1103 Там же. С. 120. id="c_1104">1104 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1105">1105 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 122. См. также: Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 147. id="c_1106">1106 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 114. id="c_1107">1107 СГГиД. Ч. 1, № 189. С. 534. id="c_1108">1108 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 301. id="c_1109">1109 Боярин получил грамоту 15 сентября, о чем и сообщил гетману: «Прислал еси к нам лист свой чюхном Андрешом сентября в 15 день». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 70–71. id="c_1110">1110 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 70. id="c_1111">1111 Там же. id="c_1112">1112 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 72–73. id="c_1113">1113 Там же. С. 73. id="c_1114">1114 Там же. С. 85. id="c_1115">1115 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 82. id="c_1116">1116 Там же. С. 71, 73. id="c_1117">1117 Там же. С. 69. id="c_1118">1118 Там же. id="c_1119">1119 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 76. id="c_1120">1120 Там же. С. 75. id="c_1121">1121 Там же. С. 80. id="c_1122">1122 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 80–81. id="c_1123">1123 Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 308. id="c_1124">1124 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 5. С. 76. id="c_1125">1125 Там же. С. 78. id="c_1126">1126 Там же, № 6. С. 120. id="c_1127">1127 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892, № 5. С. 83. id="c_1128">1128 По словам А. Л. Хорошкевич, «уже осенью 1562 г. царь основательно готовил свой поход на Полоцк» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 308). А. Л. Хорошкевич также замечает, что царь Иван планировал на конец 1562 года «грандиозное наступление на Великое княжество Литовское». — Там же. С. 301. id="c_1129">1129 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 312–313. id="c_1130">1130 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 329. id="c_1131">1131 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 363. id="c_1132">1132 В Посольских книгах несколько иная хронология: «И после того (после взятия Полоцка 15 февраля. — И.Ф.) на шестой день, февраля 20 день, прислали из литовского войска к боярину и воеводе ко князю Ивану Дмитреевичу Белскому и к иным бояром королевская рада…». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. № 7. С. 121. id="c_1133">1133 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 364. id="c_1134">1134 См. также: Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123–124. id="c_1135">1135 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 125. id="c_1136">1136 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 364. В посольских книгах читаем: «И царь и великий князь, по литовской грамоте, войну уняти велел и от Полотцка в далние мест поход отложил; а по литовской раде грамоте велел бояром, князю Ивану Дмитреевичю Белскому и иным бояром своим оттписати от себя грамоту к виленскому воеводе к пану Миколаю Яновичу Радивилу и к воеводе тротцкому Миколаю Юрьевичю и к Григорью Хоткеву, что их для челобитья, государь к иным городом не пошел…». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 124. id="c_1137">1137 А. Л. Хорошкевич замечает, что «именно Боярская дума оказалась инициатором прекращения военных действий» (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 339). Это согласуется со сведениями, содержащимися в посольских книгах, где устами бояр говорится о том, что царь Иван принял выгодное для Литвы решение «за нашим челобитьем». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123. id="c_1138">1138 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 123. Бояре Даниил Романович и Василий Михайлович Захарьины в тот момент отсутствовали, находясь «для царских справ на Москве». — Там же. С. 126–127. id="c_1139">1139 Там же. С. 127. id="c_1140">1140 Там же. С. 130. id="c_1141">1141 Там же. С. 130–131. id="c_1142">1142 Там же. С. 129. id="c_1143">1143 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 338–339. id="c_1144">1144 Хорошкевич А. Л. Россия в системе… С. 338. id="c_1145">1145 Там же. С. 339. id="c_1146">1146 См.: Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 57–58. id="c_1147">1147 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 338. id="c_1148">1148 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. № 7. С. 126. id="c_1149">1149 Там же. id="c_1150">1150 Там же. С. 131. id="c_1151">1151 С мыслью А. Л. Хорошкевич о том, что Иван IV обходился без официального царского титула, нельзя согласиться полностью. Со времени венчания на царство в 1547 году царский титул, по верному замечанию В. А. Шарова, «становится официальным атрибутом монарха в России» (Шаров В. А. Опричнина Ивана Грозного: что это такое? // Археографический ежегодник за 2003 год. М., 2004. С. 124). Другое дело — непризнание царского титула Польско-Литовским государством. Однако позиция западного соседа мало что значила во внутриполитической жизни Русии. id="c_1152">1152 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 340. id="c_1153">1153 Потом царь Иван скажет, что согласился заключить перемирие, «свою трудность персоне своей отлагая», т. е. сообразуясь с обстоятельствами. — Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 145. Ср.: Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 345. id="c_1154">1154 Сборник Русского исторического общества. Т. 71.С. 123. id="c_1155">1155 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13–14. id="c_1156">1156 См.: Скрынников Р. Г. Переписка Ивана Грозного и Курбского… С. 57. id="c_1157">1157 В исторической литературе высказывались и другие догадки. Так, А. А. Зимин говорил: «Казнь Шаховского и известие об измене Шишкина могли послужить поводом для опалы на князя Андрея Курбского, который 8 марта получил назначение «годовать» в далекий Юрьев» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 102–103). А. А. Зимин не разъясняет, почему эти разноплановые события (казнь Ивана Шаховского и измена Ивана Шишкина) могли так существенно повлиять на судьбу Андрея Курбского. id="c_1158">1158 Иван и впоследствии «полностью возлагал ответственность» за заключение перемирия на бояр (Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 345). И в этом он был прав. id="c_1159">1159 Витебская старина. Т. IV. Витебск, 1888. С. 65–66. Эту официальную отписку А. Л. Хорошкевич почему-то уподобляет слухам. — Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 341. id="c_1160">1160 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. См. также: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 472; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 102; Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 178; 2) Царство террора. С. 157; Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 341. id="c_1161">1161 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 158. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 179 (прим. 3). id="c_1162">1162 См.: Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 12. С. 235. id="c_1163">1163 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 177; 2) Царство террора. С. 157. id="c_1164">1164 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1165">1165 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 18. С. 466–467. id="c_1166">1166 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 80; М., 2002. С. 128. id="c_1167">1167 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 181. Ср. его же: Царство террора. С. 159. id="c_1168">1168 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 182–183. См. также: Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 159. id="c_1169">1169 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 360. id="c_1170">1170 Там же. С. 362. id="c_1171">1171 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 361. id="c_1172">1172 Там же. С. 362. id="c_1173">1173 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 132. id="c_1174">1174 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. id="c_1175">1175 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 344. id="c_1176">1176 В грамоте (ноябрь 1562 г.), отправленной митрополитом Макарием епископу виленскому Валериану и виленскому же воеводе Н. Я. Радзивиллу, читаем: «Что ты князь Валериан бискуп виленский, и ты Миколай Янович Радивил, воевода виленский, присылали к нам паробка своего Семена с грамотою, а в грамоте своей, бьючи челом, писали есте, чтоб мы благочестивому государю, боговенчанному царю, воспоминали, чтоб он с братом своим, с вашим государем, хотел доброго пожитья и миру, и об иных о многих делех государских писали есте; и мы то ваше челобитье выслушали и вразумели гораздо. И вы и преж того многижда есте к нам присылывали посланников своих, и мы всем тем посланником вашим отказывали, что нам до тех дел дела нет, зане мы люди церковные, пасем стадо Христово словесных овец, и строим вещи церковные, а те дела ведают государские бояре и с паны ссылалися; а к прежним митрополитом, к нашим братьям, о таких делех от государя вашего рады присылки не бывало: и вы б и впредь о таких делех нашему смирению не стужали». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 6. С. 101. id="c_1177">1177 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 132. id="c_1178">1178 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. id="c_1179">1179 Там же. id="c_1180">1180 Там же. С. 134. id="c_1181">1181 Там же. С. 132. id="c_1182">1182 Там же. С. 134. id="c_1183">1183 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 133. id="c_1184">1184 Там же. С. 134. id="c_1185">1185 См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 1903. Стб. 1486. id="c_1186">1186 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 139, 140, 142. См. также: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 367. id="c_1187">1187 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 143. id="c_1188">1188 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 367. id="c_1189">1189 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 132. id="c_1190">1190 Сборник Русского исторического общества. Т. 71, № 8. С. 149, 150, 151. id="c_1191">1191 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 182–183; 2) Царство террора. С. 160. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 126–127. id="c_1192">1192 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 365. id="c_1193">1193 Там же. С. 368. id="c_1194">1194 Там же. id="c_1195">1195 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 467. id="c_1196">1196 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. id="c_1197">1197 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148. id="c_1198">1198 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 183. id="c_1199">1199 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1200">1200 О том, что эти амбиции имели место, говорят конкретные факты. Так, в 1560/61 г. княгиня Ефросинья пожертвовала Троице-Сергиеву монастырю плащаницу, на правой стороне которой была выткана «надпись, гласившая, что «сии воздух» сделан «повелением благоверного государя князя Владимера Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича, правнука великого князя Василия Васильевича Темного» (Маясова H. А. Мастерская художественного шитья князей Старицких // Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 51). Мечты о высшей власти не оставляли Владимира Старицкого и после летних событий 1563 года. На другой плащанице, пожертвованной в Кирилло-Белозерский монастырь, значится надпись: «Повелением благоверного князя Владимира Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича» (Там же. С. 56). По поводу данных фактов А. А. Зимин пишет: «Напоминая таким образом о своем происхождении от великих князей Василия II и Ивана III, старицкий князь тем самым недвусмысленно заявлял свои права на наследование московского престола: он, так же как и Иван IV, был внуком Ивана III, а прецедент коронации внука великого князя существовал уже с 1498 г.». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 104. id="c_1201">1201 По словам А. А. Зимина, «наиболее преданные князю Владимиру бояре, дети боярские и дьяки переведены были в государев двор, а к старицкому князю приставлены царские бояре и дворовые люди». — Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. id="c_1202">1202 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 160. id="c_1203">1203 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 104. id="c_1204">1204 Там же. С. 109. id="c_1205">1205 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 79; 2) Царство террора. С.161; 3) Иван Грозный. М., 2002. С. 217. id="c_1206">1206 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1207">1207 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 160. id="c_1208">1208 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 183. См. также: Скрынников Р. Г. 1) Иван Грозный. М., 1975. С. 79; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 127. id="c_1209">1209 Ср.: Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 14. id="c_1210">1210 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 14. id="c_1211">1211 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. id="c_1212">1212 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148. Автор здесь допускает неточность: Ефросинью постригли не в Воскресенском девичьем монастыре на Белоозере, а «на Москве на Кириловском дворе». — См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1213">1213 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л.,1966. С. 183–184. id="c_1214">1214 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 79. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 127. id="c_1215">1215 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. id="c_1216">1216 Там же. id="c_1217">1217 Там же. См. также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 2). id="c_1218">1218 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 7). В другой своей работе эти «несколько месяцев» автор умещает в один-два: «Старицкие вышли из опаы не ранее сентября — октября 1563 г». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. id="c_1219">1219 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 185 (прим. 7); 2) Царство террора. С. 161. id="c_1220">1220 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. См также: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 1). id="c_1221">1221 ААЭ. Т. I. СПб., 1836, № 289. С. 352; Государственный архив России XVI столетия. Подготовка текста и комментарии А. А. Зимина. Т. 1. М., 1978. С. 89–90. id="c_1222">1222 Там же. id="c_1223">1223 Возможно, установлению этого «обихода» была посвящена специальная грамота. id="c_1224">1224 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 306, 309. См. также: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895. Стб. 808. id="c_1225">1225 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987.С. 60. id="c_1226">1226 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1227">1227 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184 (прим. 2). id="c_1228">1228 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 79; М., 2002. С. 127. id="c_1229">1229 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 443. id="c_1230">1230 По словам Р. Г. Скрынникова, «вассалы Ефросиньи получили в окрестностях монастыря земли от 4500 до 6000 четвертей пашни в трех полях». — Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 162. id="c_1231">1231 Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV — начало XVI в. Л., 1971. С. 22. id="c_1232">1232 См.: Аграрная истории Северо-Запада России XVI века. Л., 1974. С. 10–15. id="c_1233">1233 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. id="c_1234">1234 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 299. id="c_1235">1235 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. id="c_1236">1236 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 348. Ради точности надо сказать, что 5 августа 1563 года состоялось пострижение старицкой княгини на подворье Кириллова монастыря в Москве. Свое согласие на уход Ефросиньи в монастырь Иван IV дал несколько раньше. id="c_1237">1237 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1238">1238 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. id="c_1239">1239 Филюшкин А. И. История одной мистификации… С. 184. id="c_1240">1240 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 348–349. id="c_1241">1241 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. id="c_1242">1242 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1243">1243 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 115. id="c_1244">1244 Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции. Подготовка текста и комментарии А. А. Зимина. Т. III. М., 1978. С. 475. id="c_1245">1245 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161. id="c_1246">1246 Флоря Б. Н. Иван Грозный. С. 148–149. id="c_1247">1247 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 349. id="c_1248">1248 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 143. id="c_1249">1249 Там же. С. 143–144. id="c_1250">1250 В. Б. Кобрин причину прощения старицких князей видит в ином, перенося проблему в плоскость общих явлений истории общественной жизни: «Князь и его мать повинились (в невиновных, признающихся в преступлениях, в годы террора никогда нет нехватки). Царь их милостиво простил: должно быть, раскаяние было условием прощения» (Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61). Мы все-таки считаем, что они повинились, поскольку были виноваты, что вина их была доказана в процессе розыска, а помилование получили не столько под условием раскаяния, сколько в результате «печалования» митрополита, владык и Освященного собора. id="c_1251">1251 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 105. id="c_1252">1252 Там же. id="c_1253">1253 См.: ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 135, 140. id="c_1254">1254 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 349. id="c_1255">1255 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 184–185. id="c_1256">1256 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 161, 162. id="c_1257">1257 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 61. id="c_1258">1258 См., напр.: Веселовский С. Б. 1) Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические записки. Т. 22. 1947; 2) Исследования по истории опричнины. С. 115; Садиков А. П. Очерки по истории опричнины. С. 14–15; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 104–106. id="c_1259">1259 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 368. id="c_1260">1260 Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 184 (прим. 6); 2) Царство террора. С. 161. id="c_1261">1261 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVII вв. С. 459. id="c_1262">1262 Там же. С. 482. id="c_1263">1263 Там же. id="c_1264">1264 В преамбуле к описи сказано: «А у сех книг рука одного диака Ивана Болотникова, а Григорья Нечаева руки нет, потому что Григорей не переписав дел, послан на государеву службу в Астарахань». — Там же. С. 459. id="c_1265">1265 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 162. id="c_1266">1266 Веселовский С. Б. Последние уделы Северо-Восточной Руси. С. 108. id="c_1267">1267 Там же. id="c_1268">1268 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. С. 15. id="c_1269">1269 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. С. 106. id="c_1270">1270 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. С. 362. id="c_1271">1271 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 370. id="c_1272">1272 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12. М., 1987. С. 199. id="c_1273">1273 Посетивший Россию в начале XVII века немецкий герцог Ганс видел в Старице царский дворец «со множеством шпицов и выступов». — Путешествие герцога Ганса Шлезвиг-Гольштинского в Россию в 1602 году// ЧОИДР. 1911. Кн. 3. С. 13. id="c_1274">1274 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 320. id="c_1275">1275 См.: Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 197. id="c_1276">1276 Там же. С. 321, 347. См. также: Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. С. 88, 92. id="c_1277">1277 «И государь царь и великий князь в то время был в Можайску в великом собрании для Литовского дела»; «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии для своего дела Литовского стоял на Можайску»; «пришел государь в Можаеск…, а с ним царь Александр Сафа-Киреевичь Казанской» (Там же. С. 342, 343, 347); «царь и великий князь как пошел на свое дело из Можайску к Лукам»; «царь и великий князь пойдет на свое дело на земское из Можайска к Великим Лукам». — Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 99, 115. См. также: Полосин И. И. Социально-политическая история России… С. 75; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 95. id="c_1278">1278 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. 342. См. также: Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 96. id="c_1279">1279 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М, 1962. С. 125. id="c_1280">1280 См.: Епифанов И. И. Крепости // Очерки русской культуры XVI века. 4. 1. М, 1977. С. 322. id="c_1281">1281 См.: Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 115. id="c_1282">1282 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 372. id="c_1283">1283 Ключевский В. О. Лекции по русской истории, читанные на Высших женских курсах в Москве в 1872–1875 гг. М., 1997. С. 365. id="c_1284">1284 Платонов С. Ф. Иван Грозный. (1530–1584). М., 1998. С. 83. id="c_1285">1285 Сборник Русского исторического общества. Т. 71.С. 108. id="c_1286">1286 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1988. С. 184–185. id="c_1287">1287 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. С. 110. id="c_1288">1288 Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. С. 158 id="c_1289">1289 Воробьев В. М. Как и с чего служили на Руси в XVII в. (К истории русского дворянства) // Средневековая и новая Россия. Сб. статей. СПб., 1996. С. 460. id="c_1290">1290 «Слободка Николское Стучево на тверском рубеже на реце на Медведице на Захарьинской земле Овиново в Николском погосте, что была за князем за Осифом Дорогобужским, а после того была в поместье за Борисом за Федоровым сыном Волынцова, а ныне дана Митке Григорьеву сыну Волынцова, безпоместно» (НПК, VI, II, 159–161); «в Сорогошине ж в Защижье деревня Кирилловское Босоволкова да брата его Июдинская Клементьевых, а была в поместье за Нечаем да за Федком за Некрасовыми детми Нечаева за Федком за Соломенным, а ныне дана Пасюку Михайлову сыну Корнилову, безпоместному (Там же. 441); «в Слезкине ж в Ыльинском погосте великого князя деревня и пустошь, а были в поместье за Ондреем за Крюком за Парфеньевым сыном Баскакова да за его сыном за Якушем, а ныне та деревня и пустошь даны беспоместному Ондрюше Васильеву сыну Бирилева» (Там же. 537), и др. id="c_1291">1291 См.: Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 155, 156, 158. id="c_1292">1292 См.: Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. М., 1960. С. 295. Перед Иваном III, по выражению Б. Д. Грекова, стояла задача «ассимилировать вновь приобретенное большое государство». — Там же. С. 290. id="c_1293">1293 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля в XV веке. М.-Л., 1961. С.314, 315. id="c_1294">1294 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. I. Одесса, 1871. С. 32. В связи с секуляризацией рассматривают конфискации в Новгороде, осуществленные Иваном III в конце XV века, и некоторые современные исследователи. — См., напр.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л., 1958. С. 16. id="c_1295">1295 ПСРЛ. Т. XXV. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949. С. 318. См. также: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322; Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 20. id="c_1296">1296 Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. С. 284. Ср.: Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим». Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. С. 141. id="c_1297">1297 Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. С. 20. id="c_1298">1298 Аграрная история северо-запада России. Вторая половина XV — начало XVI в. Л., 1971. С. 333. id="c_1299">1299 Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 324. id="c_1300">1300 Андрияшев А. М. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонская пятина по писцовым книгам 1498–1576 гг. М., 1914. С. VIII. id="c_1301">1301 АИ. Т. 1. СПб., 1841, № 82. id="c_1302">1302 Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси. СПб., 2000. С. 175. id="c_1303">1303 Ср.: Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»… С. 141. Покушения на земельную собственность духовенства со стороны представителей светской власти, в том числе князей, имели место едва ли не со времени возникновения этой собственности. В одной древней жалованной грамоте новгородскому Пантелеймонову монастырю говорится: «А кто почьнеть въступатися въ тое землю, и въ воду, и въ пожни или князь или епискуп, или хто иметь силу деяти, и он въ второе пришьствие станеть тяжатися съ святым Пантелеймоном» (ГВНП. М.-Л., 1949, № 82. С. 141). Среди потенциальных нарушителей права собственности Пантелеймонова монастыря на пожалованные земли фигурирует, как видим, и князь. id="c_1304">1304 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 314–352. id="c_1305">1305 Андрияшев А. М. Материалы по исторической географии… С. LVI–LVII. id="c_1306">1306 ПСРЛ. Т. XII. СПб., 1901. С. 220. См. также: ПСРЛ. Т. XXIV. М., 2000. С. 237. Это событие летописцы объясняют тем, что приведенные в Москву новгородцы хотели якобы «убити Якова Захариича, наместника Новогородскаго». Однако трудно поверить в такое количество заговорщиков, тем более что «иных многих думцев Яков пересек и перевешал». Скорее всего, здесь мы имеем дело с волнениями «житиих людей», вызванных перспективой их вывода в Москву, сопровождавшегося, по В. Н. Бернадскому, «острой борьбой» (Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322). Впрочем, согласно версии, заключенной в Софийской второй летописи, Иван III повелел вывести из Новгорода житьих людей «обговору деля, что наместники и волостели их продавали, и кои на них продажи взыщут, и они боронятся тем, что их, рекши, думали убить: и князь великий москвичь и иных городов людей посла в Новгород на житье, а их вывел, а многих иссечи велел на Москве, что рекши, думали Якова Захарьича убити» (ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1853. С. 239). Думается, одно не исключает другого. id="c_1307">1307 ПСРЛ. Т. XII. С. 220. id="c_1308">1308 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 199. id="c_1309">1309 Греков Б. Д. Избранные труды. Т. IV. С. 158 (прим. 69). id="c_1310">1310 См.: Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 322. id="c_1311">1311 Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 54. id="c_1312">1312 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий… С. 199. id="c_1313">1313 Там же. id="c_1314">1314 Бернадский В. Н. Новгород и новгородская земля… С. 319–320. См. также: Казакова H. А. Очерки… С. 58. id="c_1315">1315 Я. С. Лурье относит установление связей между Ф. Курицыным и новгородскими еретиками ко времени не ранее лета 1479 года, когда Иван III уже побывал в Новгороде (Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. С. 101). Полагаем, что эти связи между братьями по еретическому цеху, очные или заочные, существовали ранее, быть может, с момента возникновения ереси в волховской столице. id="c_1316">1316 Там же. id="c_1317">1317 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.-Л., 1947. С. 285. id="c_1318">1318 Там же. id="c_1319">1319 ПСРЛ. Т. XII. С. 249. id="c_1320">1320 И. У. Будовниц полагает, что это произошло между 1491 и 1504 гг. — Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 69. id="c_1321">1321 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С.51. id="c_1322">1322 См.: Казакова H. А. Очерки… С. 58. id="c_1323">1323 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 3. id="c_1324">1324 См.: Седельников А. Д. К изучению «Слова кратка» и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС АН СССР. Т. XXX. id="c_1325">1325 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 1. id="c_1326">1326 Там же. id="c_1327">1327 Там же. С. 2. id="c_1328">1328 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 2. id="c_1329">1329 Там же. С. 22. id="c_1330">1330 Там же. С. 12. id="c_1331">1331 Там же. С. 18. id="c_1332">1332 Там же. С. 12 id="c_1333">1333 Там же. С. 4–47. id="c_1334">1334 Там же. С. 26. id="c_1335">1335 ЧОИДР. М., 1902. Кн. II, отд. II. С. 40. id="c_1336">1336 Там же. id="c_1337">1337 Там же. С. 15. id="c_1338">1338 Там же. С. 57. id="c_1339">1339 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. I. С. 90. id="c_1340">1340 См.: Платонов С. Ф. 1) Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). СПб., 1910. С. 134–135; 2) Иван Грозный. С. 54; Веселовский С. Б. 1) Первый опыт преобразования центральной власти при Иване Грозном // Исторические записки. Т. 15. 1945. С. 57–59; 2) Феодальное землевладение… С. 315–321; 3) Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 77–80; Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. С. 407–422; Павлов А. И. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. С. 86–95; Власть и реформы. От самодержавной к советской России. С. 64–65. — В исторической литературе высказывалось мнение, будто испомещение «тысячников» осталось нереализованным проектом (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 366–371. Ср.: Павлов А. И. Государев двор… С. 94–95). «Проект реформы, — говорил А. А. Зимин, — вероятно, остался неосуществленным потому, что у правительства не было необходимого фонда свободных земель под Москвой» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 371). Очень трудно поверить в то, что правительство, приступая к столь масштабному предприятию и даже издав соответствующий указ, не имело сведений о том, располагает ли оно для осуществления его необходимым фондом земель. id="c_1341">1341 См., напр.: Павлов А. С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. 1. Одесса, 1871. С. 37; Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. 4. 2. М., 1951. С. 31, 32; Каштанов С. М. Социально-политическая история России конца XV — первой половины XVI в. М., 1967. С. 12, 14; Ивина А. И. 1) Судебные документы и борьба за землю в Русском государстве во второй половине XV — начале XVI в. // Исторические записки. 86. М., 1970. С. 335–336; 2) Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV — первой половины XVI в. Л., 1979. С. 105. id="c_1342">1342 См.: Алексеев Ю. Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV–XVI вв. Переяславский уезд. М.-Л., 1966. С. 95; Ивина А. И. Крупная вотчина… С. 126. id="c_1343">1343 См.: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV–XVI вв. М.; 1951. С. 86–87. id="c_1344">1344 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение… С. 90. id="c_1345">1345 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор // Памятники русского права. Вып. IV. 1956. С. 128. id="c_1346">1346 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.-Л., 1960. С. 49. См. также: Зимин А. А. Об участии Иосифа Волоцкого в соборе 1503 г. // Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л. 1959. С. 370. id="c_1347">1347 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. 4. 2. С. 313. См. также: Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 107. Ср.: Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 168. id="c_1348">1348 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 191. id="c_1349">1349 Подробнее о соборе 1503 года см: Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 197–211. id="c_1350">1350 Там же. С. 212. id="c_1351">1351 О разгроме еретиков подробнее см.: Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 194–220; Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий… С. 212–232. id="c_1352">1352 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С.243. id="c_1353">1353 Там же. С. 244. id="c_1354">1354 Там же. С. 246. id="c_1355">1355 Там же. С. 244, 245. id="c_1356">1356 Там же. С. 257. id="c_1357">1357 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 83. id="c_1358">1358 Собрание государственных грамот и договоров. 4.1. М., 1813. С. 412. id="c_1359">1359 Источники по истории еретических движений XIV — нач. XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 518. Ср.: Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 464. id="c_1360">1360 Зимин А. А. 1) Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 133; 2) Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI в.). М., 1977. С. 93–94. См. также: Павлов А. Исторический очерки секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 66. id="c_1361">1361 См.: Казакова H. А. Очерки… С. 106–107. id="c_1362">1362 См.: Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 93, 283; Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 468; Ивина Л. И. Крупная вотчина… С. 138. Н. А. Казакова полагает, что «Варлаам, не будучи сам нестяжателем, сочувствовал им». — Казакова H. А. Очерки… С. 107. id="c_1363">1363 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 417. id="c_1364">1364 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 282–283. id="c_1365">1365 Следовательно, пять лет ростовская епархия оставалась незанятой, что, по-видимому, свидетельствует о напряженной борьбе за место архиепископа в Ростове, в ходе которой одолели нестяжатели. id="c_1366">1366 Не исключено, что Протасий оставил Рязанское епископство не без давления и происков со стороны нестяжателей. id="c_1367">1367 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 283–284. id="c_1368">1368 Там же. С. 284. id="c_1369">1369 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 257. id="c_1370">1370 Ивина Л. И. Крупная вотчина… С. 138. id="c_1371">1371 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV — первая половина XVI века. СПб., 2000. С. 302. id="c_1372">1372 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. 1. С. 83 (прим. 1). id="c_1373">1373 Там же. С. 85. id="c_1374">1374 См.: Герберштейн С. Записки о московитских дела. СПб., 1908. С. 41. id="c_1375">1375 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 285. А. А. Зимин, уточняя Герберштейна, говорит, что Варлаам «съехал на Симонов, а позднее был сослан в Каменский монастырь» (Там же. С. 284). id="c_1376">1376 Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. Часть первая. М., 1996. С. 94. id="c_1377">1377 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 698. id="c_1378">1378 ПСРЛ. Т. XIII. Продолжение. С. 43. id="c_1379">1379 Там же. Т. IV. 4.1.С. 541. id="c_1380">1380 Там же. Т. VI. С. 264. id="c_1381">1381 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 285 id="c_1382">1382 Там же. id="c_1383">1383 Там же. С. 285–286. id="c_1384">1384 Там же. С. 286. id="c_1385">1385 См.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени… С. 124–141. id="c_1386">1386 См.: Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 267–274. id="c_1387">1387 Казаков H. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С. 279. id="c_1388">1388 Там же. С. 326. id="c_1389">1389 Казаков H. А. Вассиан Патрикеев…. Ранее С. М. Каштанов развивал несколько иные взгляды: «Пожалование вотчин монастырям при Василий III и в период регентства Елены Глинской (1534–1538 гг.) приобрело характер исключений из общего правила…». — Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 128. id="c_1390">1390 См.: Веселовский С. Б. Феодальное землевладение… С. 90–91. id="c_1391">1391 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С. 102–103. id="c_1392">1392 Павлов А. Исторический очерк секуляризации. С. 102. id="c_1393">1393 Там же. С. 102, 103. id="c_1394">1394 ПСРЛ. Т. IV. 1. М., 2000. С. 574. id="c_1395">1395 См.: Конин Г. Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.-Л., 1937. С. 275. id="c_1396">1396 Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 89. id="c_1397">1397 Павлов А. Исторический очерки секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 103. id="c_1398">1398 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 329. id="c_1399">1399 Там же. id="c_1400">1400 Каштанов С. М. Социально-политическая история России… С. 376. id="c_1401">1401 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 156–176. См. также: Каштанов С. М. 1) Историко-правовой обзор. С. 128, 166, 167; 2) К изучению опричнины Ивана Грозного // История СССР. 1963, № 2. С. 113; Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 106; Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 141. Аналогичные суждения высказывал еще ранее П. А. Садиков. — См.: Садиков П. А. 1) Из истории опричнины царя Ивана Грозного // Дела и дни. 1921. Книга вторая. Пг., 1921. С. 20–29; 2) Из истории опричнины XVI в. // Исторический архив. III. М.-Л., 1940. С. 171–174. id="c_1402">1402 К этой мысли С. М. Каштанов пришел давно. Еще в 1956 году он замечал: «Непрочность положения боярских временщиков заставляла их искать союзников в среде крупнейших духовных феодалов». Отсюда земельные раздачи духовенству. — См.: Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 128. id="c_1403">1403 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 89. id="c_1404">1404 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 27, 76. id="c_1405">1405 Там же. С. 28, 76. id="c_1406">1406 См.: Тимофей, Дионисий. О Церкви, православном Царстве и последнем времени. М., 1998. С. 20–24. id="c_1407">1407 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 320. id="c_1408">1408 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 129; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 313. id="c_1409">1409 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в. С. 346. id="c_1410">1410 См.: Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 98. id="c_1411">1411 Каштанов С. М. Историко-правовой обзор. С. 129 id="c_1412">1412 Там же. id="c_1413">1413 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 106–107. id="c_1414">1414 Там же. С. 107. id="c_1415">1415 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В трех томах. Т. 3. М., 1995. С. 67. id="c_1416">1416 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.-Л., 1958. С. 56. id="c_1417">1417 РИБ. Т. IV. СПб., 1878. Стб. 1440. id="c_1418">1418 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155. id="c_1419">1419 Там же. С. 46–48, 64, 153–154. id="c_1420">1420 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 67. id="c_1421">1421 РИБ. Т. IV. Стб. 1440. id="c_1422">1422 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века // Исторические записки. Т. 15. 1945. С. 248. id="c_1423">1423 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… Т. 15. С. 248. id="c_1424">1424 Стратонов И. А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси. Казань, 1912. С. 23–30. id="c_1425">1425 Авалиани С. Л. «Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев» как исторический источник // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1909, март. Т. I. С. 381–383. id="c_1426">1426 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Апокрифический памятник XVI в. // Л3АК. Вып. X. 1889; Петров И. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев // Филологические записки. Вып. V–VI. Воронеж, 1905. С. 51–53; Бельченко Г. П. К вопросу о составе и об авторе «Беседы преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев». Одесса, 1914. С. 2–3; Седельников А. Д. Две заметки по эпохе Ивана Грозного // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. I. М., 1940. С. 142; Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 258–259; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 78, 84, 87; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 92 (прим.1). id="c_1427">1427 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1902. С. 284. id="c_1428">1428 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 137 (прим.). id="c_1429">1429 Пресняков А. Е. Рецензия на Л3АК. Вып. X // ЖМНПросв. 1896, сентябрь. С. 161–162; Зимин А. А. 1) «Беседа Валаамских чудотворцев» как памятник позднего нестяжательства // ТОДРА. Т. XI. М.-Л., 1955. С. 198–208; 2) И. С. Пересветов и его современники… С. 431. id="c_1430">1430 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4. I. С. 136. Некоторые историки полагали, что это был Вассиан Патрикеев. — См.: История российской иерархии, собранная… Амвросием. Ч. II. М., 1810. С. XXVI–XXVII; Бодянский О. М. Рассуждение инока-князя Вассиана о неприличии монастырям владеть отчинами // ЧОИДР. Т. III. 1859. С. VIII; Хрущов И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина. СПб., 1868; Невоструев К. И. Рассмотрение книги И. Хрущева // Отчет о XII присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1869. С. 64–65; Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881; Авалиани С. «Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев» как исторический источник. С. 381–383; Иконников В. С. Максим Грек и его время. Киев, 1910. id="c_1431">1431 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247, 251. id="c_1432">1432 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 275–276; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916. С. 306. id="c_1433">1433 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65–66. id="c_1434">1434 Рыбаков Б. А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. 1934. № 3. С. 26; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 103, 112, 114. См. также: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92 (прим. 1). id="c_1435">1435 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике. С. 257–259. id="c_1436">1436 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65–67. id="c_1437">1437 Там же. С. 67. id="c_1438">1438 Там же. id="c_1439">1439 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 50. id="c_1440">1440 См., напр.: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 136–137; Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 67; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. I. С. 142; Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 253; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 247; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 48–50, 74–77; Буланина Т. В. Валаамская беседа // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1955. С 104. id="c_1441">1441 Кузьмин А. Г. Публицистика и общественная мысль // Очерки русской культуры XVI века. Часть вторая. М. 1977. С. 123. id="c_1442">1442 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 177, 190. id="c_1443">1443 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С. XIII. id="c_1444">1444 Бельченко Г. П. К вопросу о составе и об авторе «Беседы преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев». С. 58. id="c_1445">1445 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 249–250. id="c_1446">1446 Там же. С. 251. id="c_1447">1447 Об этом см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 80–102. id="c_1448">1448 Буланин Д. М. Трудности изучения биографии древнерусских писателей // Русская литература. 1980, № 3. С. 140. id="c_1449">1449 См.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65. id="c_1450">1450 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 161. id="c_1451">1451 Там же. С. 178. id="c_1452">1452 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 162, 179. id="c_1453">1453 Там же. С. 164, 181. id="c_1454">1454 Там же. С. 165, 181. id="c_1455">1455 Там же. С. 168, 183. id="c_1456">1456 Там же. С. 168, 184. id="c_1457">1457 Там же. С. 170, 185. id="c_1458">1458 Там же. С. 174, 188. id="c_1459">1459 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 161, 178. id="c_1460">1460 Там же. С. 165, 181. id="c_1461">1461 Там же. С. 174, 188. id="c_1462">1462 Там же. С. 164, 180. id="c_1463">1463 Там же. С. 168, 183. id="c_1464">1464 Там же. id="c_1465">1465 Там же. С. 188. id="c_1466">1466 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 173–174. id="c_1467">1467 Там же. С. 188. id="c_1468">1468 Там же. С. 174, 188. id="c_1469">1469 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 172, 187. id="c_1470">1470 Там же. С. 167–168, 183. id="c_1471">1471 Там же. С. 169, 184. id="c_1472">1472 Там же. С. 167, 183. id="c_1473">1473 Г. Н. Моисеева обратила внимание на сходство аргументации в данном вопросе автора «Валаамской беседы» и еретика Матвея Башкина. — Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 110. id="c_1474">1474 Там же. С. 162, 168, 169, 173, 177, 179, 184, 187, 190. id="c_1475">1475 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 174–175, 188–189. id="c_1476">1476 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 65. id="c_1477">1477 Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 347. id="c_1478">1478 См.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 108; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92–93. id="c_1479">1479 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 338. id="c_1480">1480 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 166–167, 182. id="c_1481">1481 Там же. С. 163, 179–180. id="c_1482">1482 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 165–166, 182. id="c_1483">1483 Там же. С, 166, 182. id="c_1484">1484 Там же. С. 174. Во Второй редакции «Беседы» термин улусы заменен словом угодия: «И давати им (монахам. — И.Ф.) … промышленные угодия». — Там же. С. 188. id="c_1485">1485 Там же. С. 162, 174, 175, 179, 188, 189. id="c_1486">1486 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 22. М., 2004. С. 230–231. id="c_1487">1487 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 167, 183. id="c_1488">1488 Там же. id="c_1489">1489 Там же. id="c_1490">1490 Там же. С. 185. id="c_1491">1491 См.: Будовиц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI веках (по «житиям святых»). М., 1966. С. 77–111. id="c_1492">1492 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев» и ее место в русской публицистике XVI века. С. 251. id="c_1493">1493 Там же. id="c_1494">1494 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 100. id="c_1495">1495 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 92. id="c_1496">1496 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 162, 179. id="c_1497">1497 Там же. С. 163, 179. id="c_1498">1498 См.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 95. id="c_1499">1499 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 166, 182. id="c_1500">1500 Там же. С. 161–162, 178. id="c_1501">1501 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 21, 70. id="c_1502">1502 Там же. С. 16, 65. id="c_1503">1503 Там же. id="c_1504">1504 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 163, 179. id="c_1505">1505 Там же. Во Второй редакции данный текст читается несколько по-другому: «Государем царем уставлено царство и грады, с волостми держати, и власть имети — со князи и з боляры, и с протчими великородными и приближними своими мирскими людми, а не с иноки». — Там же. С. 180. id="c_1506">1506 Там же. С. 162. «Протчие миряны» заменены во Второй редакции «Беседы» «протчими великородными и праведными мирскими людми». — Там же. С. 179. id="c_1507">1507 Там же. С. 166, 182. id="c_1508">1508 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 94–95. id="c_1509">1509 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. id="c_1510">1510 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 176. id="c_1511">1511 Там же. С. 190. id="c_1512">1512 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. id="c_1513">1513 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 191. id="c_1514">1514 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 191. id="c_1515">1515 Там же. С. 191–192. id="c_1516">1516 Там же. С. 192. id="c_1517">1517 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. С. XIII–XVII. При этом В. Г. Дружинин и М. А. Дьяконов замечали, что автору «Сказания» «очень хотелось, чтобы оно стало неотъемлемой прибавкой «Беседы». — Там же. С. XV. Об авторах «Беседы» и «Сказания» см. также: Бельченко Г. П. К вопросу о составе… С. 47. id="c_1518">1518 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 140–148 id="c_1519">1519 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 94. id="c_1520">1520 См., напр.: Стратонов И. А. Заметки… С. 22–23. id="c_1521">1521 См., напр.: Зимин А. А. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 201–202. id="c_1522">1522 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 66. id="c_1523">1523 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 24. М., 1999. С. 163. id="c_1524">1524 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 260. Ср.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 141–142. id="c_1525">1525 Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 284. id="c_1526">1526 Смирнов И. И. «Беседа Валаамских чудотворцев»… С. 248–249. Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 94–95. id="c_1527">1527 См.: Теплова В. А. Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия // Уния в документах. Минск, 1997. С. 34–36. id="c_1528">1528 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 33, 36. id="c_1529">1529 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. id="c_1530">1530 См.: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. С. 283–284. id="c_1531">1531 Ср.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства… С. 93. id="c_1532">1532 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 192. id="c_1533">1533 См.: Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 299. id="c_1534">1534 Кунцевич Г. Челобитная иноков царю Ивану Васильевичу. СПб., 1912. С. 9, 11. id="c_1535">1535 Там же. С. 11. id="c_1536">1536 Там же. id="c_1537">1537 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 255. id="c_1538">1538 «Челобитная крылошан ко государю царю» — так называет наш памятник И. У. Будовниц (Там же. С. 254), следуя за его рукописным заглавием (Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12). Однако, по справедливому замечанию Г. Кунцевича, «из текста памятника не видно, чтобы Челобитная шла именно от крылошан». — Там же. С. 4 (прим. 1). id="c_1539">1539 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 255–256. id="c_1540">1540 Там же. С. 254. id="c_1541">1541 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12–13. id="c_1542">1542 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 17. id="c_1543">1543 Там же. id="c_1544">1544 Там же. С. 17–18. id="c_1545">1545 Там же. С. 15. id="c_1546">1546 Там же. С. 14. id="c_1547">1547 Там же. id="c_1548">1548 Там же. С. 13. id="c_1549">1549 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 13. id="c_1550">1550 Будовниц И. У. Монастыри на Руси… С. 92. id="c_1551">1551 Там же. С. 99. id="c_1552">1552 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 19. id="c_1553">1553 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 13. id="c_1554">1554 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. М. 1992. Стб. 806. id="c_1555">1555 Кунцевич Г. Челобитная иноков… С. 12. id="c_1556">1556 Там же. С. 10. id="c_1557">1557 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. М., 1988. С. 723–743. id="c_1558">1558 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 75 (прим. 83). См. также: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. Одесса, 1871. С. 109. id="c_1559">1559 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 13. М., 1987. С. 195. id="c_1560">1560 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 75. id="c_1561">1561 Там же. id="c_1562">1562 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376. id="c_1563">1563 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 274. id="c_1564">1564 Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 122. А. М. Сахаров придерживался этой точки зрения и ранее. — См.: Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.). Критические очерки. М., 1967. С. 102. id="c_1565">1565 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 722. id="c_1566">1566 Там же. С. 717. id="c_1567">1567 Кистерев С. Н. Дело Аграфены Волынской и «Ответ» митрополита Макария // Археографический ежегодник за 1998 год. М., 1999. id="c_1568">1568 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века. СПб., 2002. С. 90. id="c_1569">1569 Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С. 141. id="c_1570">1570 См.: Зимин А. А. 1) Реформы Ивана Грозного… С. 376; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 274. id="c_1571">1571 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 88–91. id="c_1572">1572 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 109–111; Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 717. id="c_1573">1573 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 723–724. id="c_1574">1574 Там же. С. 724. id="c_1575">1575 Там же. С. 741. id="c_1576">1576 Там же. С. 728, 729, 735, 740, 742. id="c_1577">1577 Там же. С. 724, 728, 730. id="c_1578">1578 Там же. С. 726. id="c_1579">1579 Там же. С. 723, 725, 728, 729, 735, 743. id="c_1580">1580 Там же. С. 735. id="c_1581">1581 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 735. id="c_1582">1582 Казакова H. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С. 87. id="c_1583">1583 Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 153. id="c_1584">1584 Казакова H. А. Вассиан Патрикеев… С. 91. id="c_1585">1585 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. id="c_1586">1586 Ср.: Там же. id="c_1587">1587 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 740. id="c_1588">1588 Там же. С. 742. id="c_1589">1589 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 47, 86. Согласно A. C. Павлову, царь Иван укорял Сильвестра и его пособников в том, что они «злая советовали царю на Церковь Божию». — Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 108 (прим. 1). id="c_1590">1590 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 26, 74–75. id="c_1591">1591 Там же. С. 14–15, 64. id="c_1592">1592 Там же. С. 18. id="c_1593">1593 Там же. С. 46, 97. id="c_1594">1594 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13, 63. id="c_1595">1595 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. IV. С. 743 id="c_1596">1596 См.: Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. id="c_1597">1597 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 111. id="c_1598">1598 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 91. id="c_1599">1599 Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С. 153. id="c_1600">1600 Романов Б. А. Комментарий // Судебники XV–XVI веков. С. 218. id="c_1601">1601 Там же. С. 219–220. id="c_1602">1602 Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. 4.1. С. 116. id="c_1603">1603 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897. С. 140, прим. 1. id="c_1604">1604 Павлов-Сильванский Н. И. Государевы служилые люди. М., 2001. С. 114. id="c_1605">1605 Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного // Исторические записки. 29. М., 1949. С.211. id="c_1606">1606 Романов Б.А. Комментарий. С. 223. id="c_1607">1607 Там же. С. 226. id="c_1608">1608 Ad fontem / У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова. М., 2005. С. 98–99. id="c_1609">1609 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 352–354; Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 111–136. См. также: Ad fontem / У источника… С. 103. id="c_1610">1610 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. I. М.-Л., 1947. С. 126. id="c_1611">1611 Там же. С. 113. id="c_1612">1612 Смирнов И. И. Судебник 1550 г. // Исторические записки. 24. М., 1947. С. 264. id="c_1613">1613 Смирнов И. И. Очерки… С. 365, 366. id="c_1614">1614 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91. id="c_1615">1615 Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 289. Ср.: Смирнов И.И. Очерки… С. 366 (прим. 104). id="c_1616">1616 Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. С. 119. id="c_1617">1617 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 352–354. id="c_1618">1618 Там же. С. 352. id="c_1619">1619 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1.С. 126. id="c_1620">1620 Романов Б. А. Комментарий. С. 224. Ср.: Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91–92. id="c_1621">1621 См.: Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 91. id="c_1622">1622 Носов Н.Е. Становление сословно-представительных… С. 115. id="c_1623">1623 Судебники XV–XVI веков. С. 174. id="c_1624">1624 Смирнов И. И. Очерки… С. 366. id="c_1625">1625 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 105. См. также: Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1. С. 113. id="c_1626">1626 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. II. Киев; СПб., 1887. С. 103 (прим. 95); Памятники русского права. Вып. IV. С. 336; Судебники XV–XVI веков. С. 326; Российское законодательство X–XX веков. В девяти томах. Т. 2. М., 1985. С. 168. id="c_1627">1627 Судебники XV–XVI веков. С. 27. id="c_1628">1628 Романов Б. А. Комментарий. С. 326. id="c_1629">1629 Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. II. С. 175 (прим. 230). id="c_1630">1630 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 517. id="c_1631">1631 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1901. С. 3. id="c_1632">1632 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. I. С. 114–115. id="c_1633">1633 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 356–357. id="c_1634">1634 Смирнов И.И. Очерки… С. 366–367. id="c_1635">1635 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 531 id="c_1636">1636 Памятники русского права. Вып. IV. С. 336. id="c_1637">1637 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376. id="c_1638">1638 Памятники русского права. Вып. IV. С. 595. id="c_1639">1639 Вопрос этот, впрочем, спорный. Современные историки решают его по-разному. «К какому времени относится издание этого приговора, — замечал И. И. Смирнов, — точно установить нельзя. В тексте гл. 98 [Стоглава] есть лишь ссылка на то, что 15 сентября митрополит Макарий «говорил» по поводу этого приговора с царем. Можно полагать, что время издания этого приговора не отделено слишком большим промежутком времени от объяснения по поводу его между митрополитом и царем. Поэтому можно допустить, что издание приговора о новых слободах относится примерно к тому же времени, что и выработка статьи 91 Судебника, или во всяком случае стоит в связи с обсуждением вопросов о слободах правительством Ивана IV в период определения общего направления политики по важнейшим вопросам государственного устройства, т. е. относится к 1549–1550 гг.» (Смирнов И. И. Очерки… С. 367–368). Н. Е. Носов в этой связи писал: «Был ли оформлен указанный проект в виде особого приговора 15 сентября 1550 г., как полагает И. И. Смирнов, сказать трудно. Мы думаем, что нет. Окончательно вопрос был решен лишь на Стоглаве…» (Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 108). На наш взгляд, ближе к истине А. А. Зимин, который относил появление «приговора» к 15 сентября 1550 года (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376). Во всяком случае, как нам кажется, «приговор» был оформлен в сравнительно короткий срок между 15 сентября 1550 года и временем составления Стоглава. Заметим, кстати, что в издании «Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века», вышедшем под редакцией Н. Е. Носова, данный документ датирован 15 сентября 1550 года и назван «Соборным приговором о новых монастырских слободах». — Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986, № 3. С. 30. id="c_1640">1640 Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 408–409. id="c_1641">1641 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века… С. 30. id="c_1642">1642 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1.С. 118, 119. id="c_1643">1643 Там же. С. 119–120. id="c_1644">1644 Там же. С. 120. id="c_1645">1645 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба… С. 121. id="c_1646">1646 Смирнов И. И. Очерки… С. 371. id="c_1647">1647 Смирнов И. И. Очерки… С. 371–372. id="c_1648">1648 Романов Б. А. Комментарий. С. 331. id="c_1649">1649 Романов Б. А. Комментарий. С. 330, 331. id="c_1650">1650 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376–377. id="c_1651">1651 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 107–108. id="c_1652">1652 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375. id="c_1653">1653 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 75. id="c_1654">1654 Там же. С. 75 (прим. 82). id="c_1655">1655 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных… С. 75. id="c_1656">1656 Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 368; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 106. id="c_1657">1657 Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. С. 232. См. также: Смирнов И. И. Иван Грозный; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 324–325. id="c_1658">1658 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 74. id="c_1659">1659 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 386, 388. id="c_1660">1660 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 74. id="c_1661">1661 Зимин А. А. Реформы ИванаГрозного… С. 32 id="c_1662">1662 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 158. id="c_1663">1663 Там же. С. 107. id="c_1664">1664 Смирнов И. И. Очерки… С. 371. id="c_1665">1665 См.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 346. id="c_1666">1666 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 107. id="c_1667">1667 Там же. id="c_1668">1668 Там же. id="c_1669">1669 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения… С. 3. id="c_1670">1670 Смирнов И. И. Очерки… С. 368. id="c_1671">1671 Там же. С. 369. id="c_1672">1672 Там же. С. 369–370. id="c_1673">1673 Там же. С. 370. id="c_1674">1674 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 376 (прим. 3). id="c_1675">1675 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 106. id="c_1676">1676 Смирнов И.И. Очерки… С. 371; Зимин A.A. Реформы Ивана Грозного… С. 377. id="c_1677">1677 См.: Церковь в истории России (IX—1917 г.)… С. 98. id="c_1678">1678 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 92; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 378; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 298. id="c_1679">1679 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73. В досоветской исторической литературе высказывалась версия, согласно которой это назначение состоялось 17 мая 1551 года (Замков П. М. Старец Артемий, писатель XVI в. // ЖМНПросв. 1887, ноябрь. С. 50) или около 17 мая 1551 года (Вилинский С. Г. Послания старца Артемия. Одесса, 1906. С. 45). Разные варианты на сей счет предлагает А. А. Зимин. Согласно одному из них, Артемий стал троицким игуменом «после окончания заседаний Стоглава» (Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155), а соответственно другому варианту — «около мая 1551 г.» (Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 389). Наконец, по третьему варианту назначение Артемия на пост игумена Троице-Сергиева монастыря состоялось «во время Стоглавого собора». — Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 297. id="c_1680">1680 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 155. id="c_1681">1681 Там же. id="c_1682">1682 Там же. id="c_1683">1683 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 71. id="c_1684">1684 ААЭ. Т. I. СПб., 1836, № 238. С. 246. id="c_1685">1685 Там же. id="c_1686">1686 Р. Г. Скрынников по этому поводу говорит совершенно определенно: «По настоянию Сильвестра известный нестяжатель старец Артемий был назначен игуменом крупнейшего в стране Троице-Сергиева монастыря». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. id="c_1687">1687 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 389. id="c_1688">1688 Там же. См. также: Казакова H. А. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 177. id="c_1689">1689 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 145. id="c_1690">1690 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 97; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 382–383. Ср.: Лебедев Н. И. Стоглавый собор 1551 года. М., 1882. С. 43; Бочкарев В. А. «Стоглав» и история собора 1551 года. Юхнов, 1906. С. 20, 27, 32; Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. СПб., 1909. С. 60–61; Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 67. id="c_1691">1691 См., напр.: Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 252; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 272–273; Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 99; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 386; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 182; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. id="c_1692">1692 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73. id="c_1693">1693 См.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 146 150. id="c_1694">1694 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000. С. 244. id="c_1695">1695 См., напр.: Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. СПб., 1904. С. 374; Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 252; Шмидт С. О. 1) Соборы середины XVI в. // История СССР. 1960, № 4. С. 81–83; 2) Становление российского самодержавства… С. 179; 3) У истоков российского абсолютизма… С. 202; Черепнин Л. В. 1) Земские соборы и утверждение абсолютизма в России // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 96; 2) Земские соборы русского государства… С. 80. id="c_1696">1696 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 80. Об участии Боярской Думы в работе Стоглавого собора писали и некоторые досоветские историки. — См., напр.: Латкин В. Н. Лекции по внешней истории русского права. СПб., 1888. С. 73–74. id="c_1697">1697 Р. Г. Скрынников считает, что «нестяжатели составляли на соборе ничтожное меньшинство». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 87. id="c_1698">1698 Черепнин Л. В. Земские соборы и утверждение абсолютизма в России. С. 96. id="c_1699">1699 Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 252. id="c_1700">1700 Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. С. 207. id="c_1701">1701 Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России… С. 89. id="c_1702">1702 Там же. С. 126. id="c_1703">1703 См.: Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 86. id="c_1704">1704 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 300. id="c_1705">1705 Ср.: Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 64. id="c_1706">1706 Стефанович Д. О Стоглаве… С. 81–95. id="c_1707">1707 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 72. id="c_1708">1708 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 79 (прим. 99). id="c_1709">1709 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. id="c_1710">1710 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 238 id="c_1711">1711 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 409–410. id="c_1712">1712 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 73 (прим. 78). id="c_1713">1713 Ср.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387, 388; 3) Крупная феодальная вотчина… С. 301. id="c_1714">1714 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 301. id="c_1715">1715 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 100. id="c_1716">1716 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 301. id="c_1717">1717 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387. id="c_1718">1718 Скрынников Р. Г. 1) Государство и церковь на Руси… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. id="c_1719">1719 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 410. id="c_1720">1720 Там же. С. 409–410 id="c_1721">1721 См.: Бочкарев В. А. «Стоглав» и история собора 1551 года. Историко-канонический очерк. С. 118–119. id="c_1722">1722 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 387–388. id="c_1723">1723 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375, 378, 379 id="c_1724">1724 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 301. id="c_1725">1725 Стефанович Д. О Стоглаве… С. 92–93. id="c_1726">1726 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 175. id="c_1727">1727 Скрынников Р.Г. 1) Государство и церковь на Руси… С. 240; 2) Крест и корона… С. 237. id="c_1728">1728 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387. id="c_1729">1729 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 64, 74. id="c_1730">1730 См.: Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 387; Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.)… С. 102; Русское православие: вехи истории. С. 123. Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 175. id="c_1731">1731 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388. id="c_1732">1732 Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 100 (прим. 217); 2) Реформы Ивана Грозного… С. 388 (прим. 1). id="c_1733">1733 Вилинский С. Г. Послания старца Артемия. С. 69; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388. id="c_1734">1734 На то, что среди адресатов Стоглава были также «соборные старцы», обращал особое внимание и А. Н. Гробовский. Но он не сделал из этого факта должных выводов. — См.: Гробовский А. И. Иван Грозный и Сильвестр… С. 20. id="c_1735">1735 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 410. id="c_1736">1736 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 100. id="c_1737">1737 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа… С. 69. id="c_1738">1738 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 412 id="c_1739">1739 Там же. С. 413. id="c_1740">1740 Там же. С. 412. id="c_1741">1741 Там же. id="c_1742">1742 Емненко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 374–375. id="c_1743">1743 Там же. С. 375. id="c_1744">1744 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 411. id="c_1745">1745 Там же. С. 413. id="c_1746">1746 См.: Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 200–207. Касаясь данной темы ответа Иоасафа, А. А. Зимин говорил: «Речь шла, конечно, о главе нестяжателей Ниле Сорском и Серапионе, архиепископе новгородском, т. е. о старинных противниках иосифлян». — Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 388; 2) Крупная феодальная вотчина…С. 301. id="c_1747">1747 Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. Л., 1986, № 5. С. 31–32. id="c_1748">1748 Там же. С. 32. id="c_1749">1749 Законодательные акты русского государства… С. 32. id="c_1750">1750 Там же. С. 32–33. id="c_1751">1751 Там же. С. 33. id="c_1752">1752 Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. II. М., 1954. С. 69. См. также: Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. I. С. 122. id="c_1753">1753 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 390. См. также: Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 81; Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 18. id="c_1754">1754 Законодательные акты русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Тексты. С. 32. id="c_1755">1755 Там же. id="c_1756">1756 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 190. Ср.: Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. М., 1997. С. 796, 798. id="c_1757">1757 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176, 190. id="c_1758">1758 См.: Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. Ч. I. М., 1996. С. 135. id="c_1759">1759 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 413. Р. Г. Скрынников допустил неточность, когда говорил, что «приговор был утвержден Боярской думой». — Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. id="c_1760">1760 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 238. По словам митрополита Макария (Булгакова), майский приговор не был внесен «в книгу Стоглав самим Собором», а помещался переписчиками в конце ее (Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. 4. 1. С. 135–136). Но это, на наш взгляд, не исключает мысли о соборном происхождении документа. id="c_1761">1761 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176. id="c_1762">1762 Там же. С. 190. id="c_1763">1763 В. В. Шапошник полагает, что Приговор «был составлен с участием Собора — об этом говорит его преамбула «и со всем собором»…» (Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176). Однако преамбула Приговора говорит о другом, а именно о том, что государь «приговорил» с митрополитом, архиепископами, епископами и «со всем собором». В преамбуле, таким образом, речь идет не о составлении Приговора, а об его утверждении «всем собором». id="c_1764">1764 Там же. С. 190. id="c_1765">1765 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 109. id="c_1766">1766 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 343, 350, 377. id="c_1767">1767 См.: Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. С. 88; 2) Царство террора. С. 104–105; 3) Иван Грозный. М., 1975. С. 39–40; М., 2002. С. 62. id="c_1768">1768 Смирнов И. И. Очерки… С. 442. id="c_1769">1769 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 99, 100; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 386, 388. id="c_1770">1770 С. В. Бахрушин недооценил, как нам кажется, серьезность ситуации, когда писал: «Дело свелось к ничтожным ограничениям в области как землевладения, так и суда, да и те едва ли целиком вошли в жизнь». — Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 273. id="c_1771">1771 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 195. id="c_1772">1772 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения… С. 189–190. id="c_1773">1773 Ср.: Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 797. id="c_1774">1774 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 392. id="c_1775">1775 См.: ААЭ. Т. I. №. 238. С. 246. См. также: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 135. id="c_1776">1776 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 233. id="c_1777">1777 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. II. С. 70. id="c_1778">1778 Там же. С. 69. id="c_1779">1779 Романов Б. А. 1) К вопросу о земельной политике Избранной рады // Исторические записки. 38. 1951. С. 262; 2) Комментарий // Судебники XV–XVI веков. М.-Л., 1952. С.311. id="c_1780">1780 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады. С. 265; 2) Комментарий. С. 315. id="c_1781">1781 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады. С. 263. id="c_1782">1782 Смирнов И.И. Очерки… С. 441–443. id="c_1783">1783 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 272. id="c_1784">1784 Там же. id="c_1785">1785 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 273. id="c_1786">1786 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 91. id="c_1787">1787 Там же. С. 92. id="c_1788">1788 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 375. id="c_1789">1789 Там же. С. 378. id="c_1790">1790 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина… С. 298–299. id="c_1791">1791 Там же. С. 300. id="c_1792">1792 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 85. id="c_1793">1793 Там же. С. 86–87. id="c_1794">1794 См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 39–40. id="c_1795">1795 Там же. С. 39. id="c_1796">1796 Там же. С. 40. См. также: Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 2002. С. 60–61. id="c_1797">1797 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 105. id="c_1798">1798 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 194–195. id="c_1799">1799 Там же. С. 195. id="c_1800">1800 По верному замечанию А. Л. Дворкина, «духовно-религиозный и идеологический аспекты» царствования Ивана Грозного «не получили должного освещения ни в русской, ни в зарубежной историографии» (Дворкин А. Л. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. Нижний Новгород, 2005. С. 21). Редкими исключениями здесь являются книга А. Л. Юрганова и соответствующий раздел исследования В. В. Шапошника. — См.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 408–509. id="c_1801">1801 Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 125. id="c_1802">1802 См.: Флоровский Георгий. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 27. Зря только Флоровский, хотя и с оговоркой, объединил здесь митрополита Макария с Сильвестром: «Взаимное отношение «Избранной рады» и митрополита остается неясным — политически «Сильвестр и Макарий не были единомышленниками, но в культурном отношении они принадлежали, скорее, к одному кругу». — Там же. С. 27–28. id="c_1803">1803 Там же. С. 29. id="c_1804">1804 См., напр.: Платовнов С. Ф. Иван Грозный. С. 56; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. II. С. 269; Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века С. 233; Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 33, 74; Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 180; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 203; Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 83–84. — Ср.: Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 121. id="c_1805">1805 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 176, 190. id="c_1806">1806 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 181; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. id="c_1807">1807 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 253. id="c_1808">1808 См.: Жданов И. Н. Материалы для истории Стоглавого собора // ЖМНПросв. 1876, июль — август. id="c_1809">1809 См., напр.: Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, № 4. С. 697–699; Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакции и состав. С. 23, 55. id="c_1810">1810 См., напр.: Зимин А. А. 1) Историко-правовой обзор // Памятники русского права. Вып. IV. М., 1956. С. 592; 2) К истории военных реформ 50-х годов XVI века // Исторические записки. Т. 55. 1956. С. 345–346; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 336–338, 349–350; Шмидт С. О. 1) Соборы середины XVI века // История СССР. 1960, № 4. С. 77–80; 2) Становление российского самодержавства… С. 166; 3) У истоков российского абсолютизма… С. 189; Носов Н. Е. 1) Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 31; 2) Собор «примирения» 1549 года и вопросы местного управления // Внутренняя политика царизма (середина XVI — начало XX в.). Л., 1967. С. 36. — Ср.: Смирнов И. И. Очерки… С. 486–488. id="c_1811">1811 Памятники русского права. Вып. IV. С. 576. id="c_1812">1812 Там же. С. 576–580. id="c_1813">1813 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 338. id="c_1814">1814 Кононов Н. Разбор некоторых вопросов… id="c_1815">1815 Носов Н. Е. Собор «примирения» 1549 года… С. 36. id="c_1816">1816 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 169–170; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 192–193. id="c_1817">1817 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 170; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 192. id="c_1818">1818 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного… С. 337–338. id="c_1819">1819 См.: Лебедев Н. Стоглавый собор 1551 г. С. 45; Бочкарев В. Стоглав и история собора 1551 года. С. 78–79; Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. С. 175 (прим. 3); Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 179; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 202; 3) Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 54. id="c_1820">1820 См.: Жданов И. Н. Церковно-земский собор 1551 г. // Исторический вестник. 1880, февраль. id="c_1821">1821 Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. СПб., 1912. С. 454–455. id="c_1822">1822 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 56. id="c_1823">1823 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1907. С. 144. id="c_1824">1824 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 181; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 204. id="c_1825">1825 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России… С. 72. id="c_1826">1826 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства… С. 81. id="c_1827">1827 Латкин В. И. Лекции по внешней истории русского права. С. 73–74. См. также: Кононов Н. Разбор некоторых вопросов, касающихся Стоглава // Богословский вестник. 1904, апрель. id="c_1828">1828 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России. С. 154. id="c_1829">1829 Там же. id="c_1830">1830 Российское законодательство X–XX веков. В девяти томах. Т. 2. М., 1985. С. 409. id="c_1831">1831 Каптерев И. Ф. Царь и церковные московские соборы XVI–XVII столетий // Богословский вестник. 1906, декабрь. С. 631. id="c_1832">1832 Беляев И. В. Об историческом значении деяний Московского собора 1351 г. // Русская беседа. 4. 4. М., 1858. С. 8. id="c_1833">1833 Шпаков А. Я. Стоглав (К вопросу об официальном и неофициальном происхождении этого памятника) // Сборник в честь профессора М. Ф. Владимирского-Буданова. Киев, 1904. С. 306. См. также: Писаревский И. Значение Стоглавого собора в истории русской церкви // Богословский вестник. 1895, июнь. id="c_1834">1834 См.: Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992; Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2002. id="c_1835">1835 См.: Зимин А. А. 1) И. С. Пересветов и его современники… С. 47; 2) Реформы Ивана Грозного… С. 388–389; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 301–302; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 88. id="c_1836">1836 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 40. id="c_1837">1837 Зимин А. А.1) Реформы Ивана Грозного… С. 382; 2) Крупная феодальная вотчина… С. 302, 303, 307 (прим. 143). См. также: Корецкий В. И. Новые послания Зиновия Отенского // ТОДРА. Т. XXV. М.-Л., 1970. С. 120. id="c_1838">1838 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 40. id="c_1839">1839 См.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102–103. id="c_1840">1840 ААЭ. Т. 1, № 238. С. 246. См. также: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 172, 174; Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (История одного мифа). С. 34. id="c_1841">1841 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. id="c_1842">1842 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102. id="c_1843">1843 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102. id="c_1844">1844 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 169–170; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 102; Назаров В. Д. К истории церковных соборов и идейно-политической борьбы в России первой половины XVI в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990. С. 206; Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 215. id="c_1845">1845 ААЭ. Т. I, № 239. С. 250–231. id="c_1846">1846 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 171. Ср.: Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 215, 216. id="c_1847">1847 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 169. id="c_1848">1848 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. С. 81. id="c_1849">1849 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. id="c_1850">1850 ААЭ. Т. I, № 238. С. 247. id="c_1851">1851 Смирнов И. И. Очерки… С. 232, 251. id="c_1852">1852 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 841–942. id="c_1853">1853 Голубинский Е. Е. История русской церкви. С. 842. id="c_1854">1854 Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. IV. 4.1. М., 1996. С. 146. id="c_1855">1855 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники… С. 48. id="c_1856">1856 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 843–844. id="c_1857">1857 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1993. С. 514–515. id="c_1858">1858 Там же. С. 515. id="c_1859">1859 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 433. id="c_1860">1860 Там же. С. 434. id="c_1861">1861 Граля И. Иван Михайлов Висковатый… С. 125. id="c_1862">1862 См.: Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 250. id="c_1863">1863 История русского искусства. Т. 3. М., 1955. С. 554; Мнёва Н. Е. Монументальная и станковая живопись // Очерки русской культуры XVI века. Ч. II. М., 1977. С. 314. id="c_1864">1864 См.: Малинин В. А. Русь и Запад. Калуга, 2000. С. 343. id="c_1865">1865 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. Стб. 2179. id="c_1866">1866 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 844. id="c_1867">1867 Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. С. 514. id="c_1868">1868 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 250. id="c_1869">1869 Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. С. 304. id="c_1870">1870 Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. I. С. 515. id="c_1871">1871 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 842. id="c_1872">1872 Там же. id="c_1873">1873 Мнёва И. Е. Монументальная и станковая живопись. С. 315. id="c_1874">1874 ААЭ. Т. I, № 238. С. 247. id="c_1875">1875 Кобрин В. Б., Лурье Я. С. Комментарий // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 392. id="c_1876">1876 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси… С. 251. id="c_1877">1877 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. II. Первая половина тома. С. 844. id="c_1878">1878 Там же. id="c_1879">1879 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861. Стб. 877–882. id="c_1880">1880 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.-Л., 1950. С. 11. id="c_1881">1881 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. id="c_1882">1882 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. id="c_1883">1883 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 882. id="c_1884">1884 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины… С. 11–12. id="c_1885">1885 Там же. С. 11. id="c_1886">1886 Смирнов И. И. Очерки… С. 202. id="c_1887">1887 Там же. id="c_1888">1888 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 877. id="c_1889">1889 Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия… Стб. 878. id="c_1890">1890 Там же. Стб. 879. id="c_1891">1891 Там же. Стб. 880. id="c_1892">1892 Там же. Стб. 882. id="c_1893">1893 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7. id="c_1894">1894 Сказания князя Курбского. СПб., 1868. С. 8–9. id="c_1895">1895 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 109. id="c_1896">1896 ААЭ. Т. I, № 238. С. 246. id="c_1897">1897 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 181. id="c_1898">1898 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. id="c_1899">1899 Там же. С. 396. id="c_1900">1900 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 412. id="c_1901">1901 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 207. id="c_1902">1902 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. Стб. 1901. id="c_1903">1903 См.: Соловьев С. М. Сочинения. В восемнадцати кн. Кн. III. М., 1989. С. 522; Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. С. 105. id="c_1904">1904 Скрынников Р. Г. 1) Царство террора. С. 136; 2) Иван Грозный. М., 2002. С. 111. См. также: Цветков С. Э. Иван Грозный. 1530–1584. М., 2005. С. 298. id="c_1905">1905 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. М., 2004. С. 73. id="c_1906">1906 Известно, что Андрей Курбский, находясь за границей, проявлял резкую враждебность к реформационным движениям и выступал защитником православной веры. — См.: Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 238–239. id="c_1907">1907 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 13, 53, 62–63. id="c_1908">1908 Там же. С. 17, 59, 67. id="c_1909">1909 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. С. 226. id="c_1910">1910 Лурье Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли древней Руси. С. 240. id="c_1911">1911 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 39, 55, 90. id="c_1912">1912 Там же. id="c_1913">1913 Там же. С. 7, 9. id="c_1914">1914 Лурье Я. С. 1) Вопросы внешней и внутренней политики в посланиях Ивана IV // Послания Ивана Грозного. СПб., 2005. С. 473; 2) Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси. С. 221. См. также.: Лихачев Д. С. Иван Пересветов и его литературная современность // Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956. С. 52. id="c_1915">1915 См.: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 159. id="c_1916">1916 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. id="c_1917">1917 См.: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. id="c_1918">1918 См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 3. М., 1976. С. 19. id="c_1919">1919 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. id="c_1920">1920 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 228, 256. id="c_1921">1921 Там же. С. 226. id="c_1922">1922 Там же. С. 256. id="c_1923">1923 Там же. id="c_1924">1924 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 274. id="c_1925">1925 Послания Ивана Грозного. С. 243–244. id="c_1926">1926 Там же. С. 251–252. id="c_1927">1927 Там же. С. 261. id="c_1928">1928 Ср.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 273. id="c_1929">1929 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 132. id="c_1930">1930 Там же. С. 141–154. id="c_1931">1931 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 336. id="c_1932">1932 См.: Там же. С. 337. id="c_1933">1933 Послания Ивана Грозного. С. 243, 245, 251, 261. id="c_1934">1934 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 118. id="c_1935">1935 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 337. id="c_1936">1936 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 60, 97. id="c_1937">1937 То, что «Лаодикийское послание» непосредственно связано с именем Федора Курицына, едва ли подлежит сомнению. Показательно также отсутствие каких-либо иностранных оригиналов этого памятника. — См.: Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 173; Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 64; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 1. Л., 1988. С. 505–506. id="c_1938">1938 Источники по истории новгородско-московской ереси конца XV — начала XVI в. // Казакова H. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XV — начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 265. — «Лаодикийское послание» приводим по наиболее древнему списку, относящемуся к первым годам XVI века и содержащему текст, почти современный авторскому. — Там же. С. 257. id="c_1939">1939 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 142. id="c_1940">1940 Там же. С. 145. Ср.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 258. id="c_1941">1941 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66. id="c_1942">1942 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 146. id="c_1943">1943 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 146. id="c_1944">1944 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 242. id="c_1945">1945 См.: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 333–350. id="c_1946">1946 Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь конца XV— начала XVI в. С. 173. id="c_1947">1947 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 243–256. См. также: Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 65–69. id="c_1948">1948 См.: Сервицкий А. И. Опыт исследования ереси новгородских еретиков или «жидовствующих» // Православное обозрение. 1862. Июнь. С. 191; Панов И. Ересь жидовствующих // ЖМНПросв. 1877. Январь. С. 27; Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892. С. 386; Тихонравов И. С. Сочинения. Т. 1. М., 1898. С. 226; Дмитриев А. Инквизиция в России. М., 1937. С. 27; Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1985. С. 94; Лурье Я. С. 1) Новгородско-московская ересь… С. 174; 2) Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.-Л., 1960. С. 172–173; Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 246. id="c_1949">1949 Лурье Я. С., Григоренко А. Ю. Курицын Федор Васильевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4.1. Л., 1988. С. 506. См. также: Лурье Я. С. Новгородско-московская ересь… С. 175. id="c_1950">1950 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 69. id="c_1951">1951 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 258. id="c_1952">1952 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике… С. 175. id="c_1953">1953 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 142–143. id="c_1954">1954 Источники по истории новгородско-московской ереси… С. 265. id="c_1955">1955 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 256. id="c_1956">1956 Клибанов А. И. Реформационные движения в России… С. 66. id="c_1957">1957 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. М., 2004. С. 152. id="c_1958">1958 Клибанов А. И. Духовная культура… С. 145. id="c_1959">1959 Источники по истории еретических движений XIV — начала XVI века. С. 265. id="c_1960">1960 Послания Ивана Грозного. С. 243, 251. id="c_1961">1961 Послания Ивана Грозного. С. 259. id="c_1962">1962 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 7–8, 9–10. id="c_1963">1963 Там же. С. 12, 53, 62. id="c_1964">1964 Там же. С. 25, 73. id="c_1965">1965 Там же. С. 35–36, 55, 84. id="c_1966">1966 Там же. С. 39, 55, 90. id="c_1967">1967 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. id="c_1968">1968 Веселовский С. Б. Исследования… С. 103. id="c_1969">1969 Там же. С. 140. См. также: Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 90. id="c_1970">1970 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 400. id="c_1971">1971 Веселовский С. Б. Исследования… С. 103. Ср.: Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. id="c_1972">1972 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 396. id="c_1973">1973 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 398. id="c_1974">1974 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 15, 16, 20, 21, 31, 38. id="c_1975">1975 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1976">1976 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11.С. 396. id="c_1977">1977 Там же. С. 400. id="c_1978">1978 Веселовский С. Б. Исследования… С. 104, 318. Впрочем, С. Б. Веселовский в другом месте своих исследований говорит: «Когда после смерти царицы Анастасии царь утратил душевное равновесие, и «воскурилось гонение великое», Макарий стал терять влияние на царя. На соборе 1560 г. он один решился поднять голос, и не столько за Сильвестра и Адашева, сколько за соблюдение обычаев «правого» суда и против заочного осуждения обвиняемых». — Там же. С. 115–116. id="c_1979">1979 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. См. также: Цветков С. Э. Иван Грозный. 1530–1584. М., 2005. С. 276. id="c_1980">1980 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 140–141. id="c_1981">1981 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136–137. id="c_1982">1982 Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 244. id="c_1983">1983 Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России… С. 222. id="c_1984">1984 Шапошник В. В. Иван Грозный: Первый русский царь. СПб., 2006. С. 203. id="c_1985">1985 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. III. Т. IX. М., 1989. Стб. 7. id="c_1986">1986 См.: Веселовский С. Б. Исследования… С. 104–105, 115–116. См. также: Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209–210; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232–233. См. также: Шапошник В. В. Иван Грозный… С. 203. id="c_1987">1987 Следует прислушаться к словам С. Б. Веселовского, который говорил, что на соборе 1560 года Макарий «решился поднять голос, и не столько за Сильвестра и Адашева, сколько за соблюдение обычаев «правого» суда и против заочного осуждения обвиняемых». — Веселовский С. Б. Исследования… С. 115–116. id="c_1988">1988 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1989">1989 Веселовский С. Б. Исследования… С. 104. id="c_1990">1990 Ср.: Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. id="c_1991">1991 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232. id="c_1992">1992 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1993">1993 Это сравнение касается конечных целей собора 1560 года и учреждения Опричнины. И собор, и введение Опричнины были одинаково направлены на восстановление поколебленных в годы правления Избранной Рады основ русского национального бытия — самодержавной власти, апостольской церкви и православной веры. Различие заключалось в способах достижения этой общей цели: в первом случае посредством мира и согласия, а во втором — насилия и крови. id="c_1994">1994 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 231. id="c_1995">1995 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. id="c_1996">1996 Там же. id="c_1997">1997 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_1998">1998 Там же. id="c_1999">1999 См.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1987. С. 164. id="c_2000">2000 Шмидт С. О. 1) Становление российского самодержавства… С. 209; 2) У истоков российского абсолютизма… С. 232. id="c_2001">2001 Черепнин А. В. Земские соборы русского государства в XVI–XVII вв. С. 90. id="c_2002">2002 Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 136. id="c_2003">2003 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 141. "> |
|
||||||||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||||||||
|
|
||||||||||
