|
||||
|
|
Книга втораяЭпоха рапиры Глава 9Рапира и ее спутники О смерти синьора де ла Шастеньере больше всех сожалел не кто иной, как сам король Генрих II. Он дал разрешение на поединок, в котором спорщикам отказал его предшественник, и его присутствие подтолкнуло обоих бойцов к тому, чтобы довести свою ссору до горького конца. Убитый рыцарь был близким другом королю, и тот так горевал о произошедшем, что поклялся никогда более не разрешать подобных поединков, — и сдержал свое слово. Именно поэтому Фендиль и д'Агерр из истории о мече-бастарде вынуждены были отправиться в земли герцога де Бульона, чтобы получить разрешение на схватку. В рыцарские времена поединки происходили только на турнирных аренах; разрешение на их проведение никогда не давалось в случае, если ссора была пустячной, а правом давать такое разрешение обладал только монарх или, в крайнем случае, правитель провинции, обладавший вице-королевской властью. Обставлялись такие поединки, как мы уже видели, роскошно и торжественно, и относились к ним столь серьезно, что иногда на них даже не пускали детей и женщин. В общем, если какие-то двое брали на себя смелость обойти закон и устроить дуэль без позволения, то это считалось изменой высшей степени, поэтому такое случалось крайне редко. Но опрометчивая клятва Генриха II изменила положение: немало благородных рыцарей обращалось к королю с просьбой разрешить им уладить свои противоречия добрым старым способом — но все получали отказ, так что им приходилось нарушать волю и эдикты короля, а вместе с ними — и законы страны. Так место турнирных поединков заняли массовые дуэли. Противники выезжали в леса и поля, когда в сопровождении секундантов, а когда и без них, что создавало массу возможностей для злоупотребления — часто это было поддевание одним из бойцов кольчуги под камзол, ведь дрались уже не в доспехах, а в обычной одежде; бывало и такое, что один из участников предстоящего боя, страшась его, подсылал своих людей, чтобы те в засаде поджидали его противника и нападали на него по дороге. Возможность попасть в такую засаду вскоре привела к тому, что обе стороны стали являться к месту дуэли в сопровождении кучки друзей и сторонников, в результате чего злоупотребления увеличились, и благородных дворян стало погибать еще больше. Но и в такой обстановке немало было примеров проявления рыцарской любезности и почти христианского великодушия. 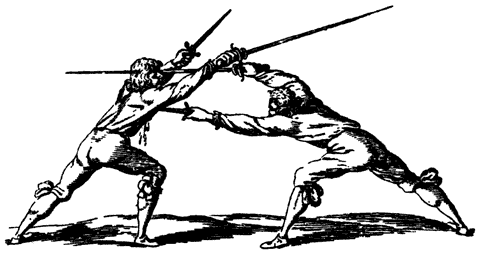 Дуэль без правил Время с середины XVI до середины XVII века характеризовалось наибольшим разнообразием оружия, используемого бойцами из высших классов. Позже огромный бронебойный топор практически исчез из употребления, хотя некоторые из авторитетных учителей XVII века и включали его наряду с двуручным мечом в список оружия, с которым должен быть знаком любой желающий считаться полноценным воином. Так что оставался двуручный меч, меч-бастард, и более удобный как в ношении, так и в бою одноручный или короткий меч, который со времен Генриха VIII существовал в двух основных разновидностях — с закрытой рукоятью и «рапирного» образца; обе имели корзинчатый эфес. Существовали еще парные рапиры, известные в Англии как «близнецовые». Это были скорее не рапиры, а короткие шпаги; носить их следовало в одних и тех же ножнах, рядом друг с другом; такой набор был крайне неудобен, так что пользовались ими мало, и исторических записей об их применении до нас дошло немного. Кинжал использовался в основном как дополнительное защитное оружие; как самостоятельное оружие его применяли разве что по горячке внезапно вспыхнувшей ссоры, хотя Брантом и повествует об одном случае дуэли на паре кинжалов по предварительной договоренности. Из оборонительной амуниции можно назвать щит-баклер, кинжал, плащ, большую боевую рукавицу и обычную перчатку. Но самым типичным для того времени оружием являлась длинная испано-итальянская рапира, со своими обычными спутниками — плащом или кинжалом. На эту рапиру следует обратить особое внимание. Она появилась не в результате внезапного озарения, а в итоге длительного совершенствования. Происходила она от крестообразного меча рыцарских времен, при работе которым бойцу приходилось для усиления хвата класть указательный палец на верх поперечины; этот незащищенный палец часто оказывался травмированным, и для его защиты над крестовиной стали делать дополнительную защиту в виде изогнутой полоски металла, иногда для симметрии помещая на крестовину по одной такой полоске с каждой стороны. Дополнительных элементов защиты пальцев и кисти становилось все больше, в том числе стальные кольца, и в конце концов постепенно появилась знакомая нам изящная «стреловидная» форма эфесов второй половины XVI века с поперечиной, pas d'asne и контргардами. В XVII веке «стреловидный» эфес, пройдя через ряд вариаций, обрел свою совершенную форму — чашеобразную, которая служила руке замечательной защитой с учетом того, каким образом использовалось оружие; кинжал же стали снабжать прочной треугольной (сужающейся книзу) защитной полосой, которая обеспечивала безопасность руки не хуже. 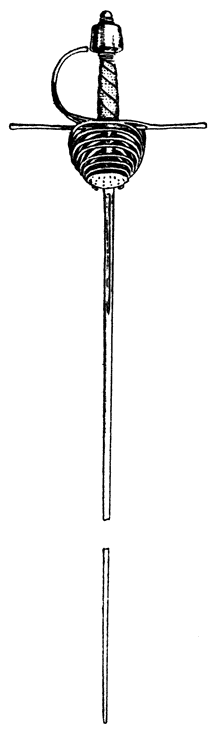 Рапира с семью кольцами В нередких в то время личных ссорах доспехов на противниках уже не оказывалось, они сражались в одних рубашках, а с учетом смертоносности такого оружия, как рапира, возросла необходимость в обретении качественных навыков фехтования. Искусство это, в том виде, в каком преподавали его итальянские мастера, расцвело пышным цветом. Рапиры сами по себе были длинными и неудобными, редко когда длина их составляла менее четырех футов от хвостовика до острия, а бывало, что и превышала пять футов; атакующие действия были не слишком стремительными и уж никак не могли представлять собой сложные движения, и, когда противники сражались только на рапирах, от колющих ударов они спасались перемещениями и уходами, а не парированием собственным оружием. Перемещениями, о которых идет речь, были более или менее быстрые, в зависимости от ситуации, шаги вперед, назад или в сторону (так называемые «траверсы»). Самым популярным средством обороны был кинжал; технически защитных действий им насчитывалось три или четыре, и все они были крайне просты; для атаки противника его практически не использовали, разве что войдя в плотный контакт. Такие поединки на рапирах с кинжалом выглядели, пожалуй, самыми романтичными и живописными за всю историю фехтования. Иногда вместо кинжала использовался плащ — его в два слоя наматывали на левую руку и отмахивали его свисающим концом уколы противника, а в некоторых случаях и метали таким образом, чтобы или обернуть им самого соперника целиком, или запутать его оружие. Научиться подобным методам ведения боя было очень легко. Суэтнам утверждает, что за несколько уроков пятнадцатилетнего мальчика можно было научить обороняться против любого мужчины; и мы действительно знаем об одном мальчике указанного возраста по имени Чарльз Сефтон, который более чем постоял за себя в бою против своего собственного учителя. 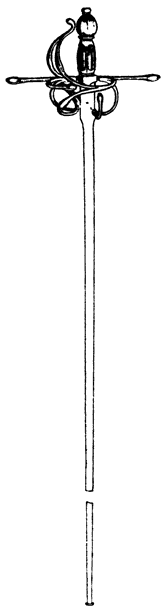 Рапира со стреловидным эфесом По правде говоря, период рапиры был временем самых вспыльчивых нравов за всю историю: мужчины столь трепетно относились к своей чести, что готовы были драться насмерть по любому поводу, а то и без него — просто по легкомыслию и ради удовольствия. Современник того оживленного периода, Шекспир, дает нам некоторое представление о типичных конфликтах, бытовавших в те времена, приводя слова Меркуцио, обращенные к Бенволио (надо сказать, единственному более-менее миролюбивому человеку во всей пьесе «Ромео и Джульетта»): «Милый мой, ты горяч, как все в Италии, и так же склонен к безрассудствам и безрассуден в склонностях. Ведь ты готов лезть с кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя, или только за то, что человек ест каштаны, в то время как у тебя глаза каштанового цвета. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо — здоровою пищей, и, совершенно как яйцо, сбита всмятку вечными потасовками. Разве ты не поколотил человека за то, что он кашлянул на улице и разбудил твою собаку, лежавшую на солнце? Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи, или на кого-то другого за то, что он новые башмаки подвязал старыми лентами?» [32] 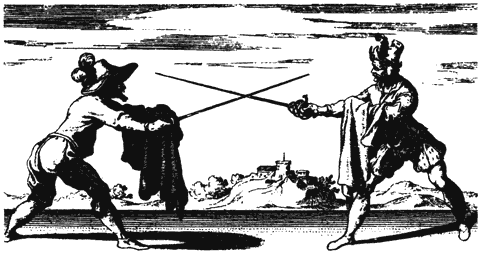 Дуэль на рапирах с плащами А ведь речь идет об образце миролюбия того времени! 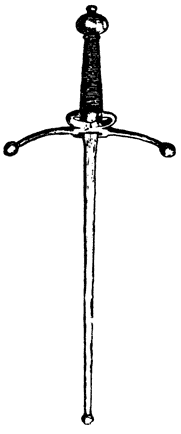 Кинжал для учебного фехтования Жители XVI века готовы были принять за вызов любой брошенный на них взгляд, как повествует о том в своей «Практике» Винченцо Савиоло. Предоставим ему слово: «Что же произошло с врожденной галантностью благородных мужей древности? Есть в том вина и некоторых недостойных людей, которую я не могу не порицать — выходя на улицу, эти люди взяли себе в привычку окидывать всех проходящих мимо таким взглядом, словно они хотят оценить и запомнить их; многие из тех, на кого подобным образом смотрели, не могли оставаться спокойными, и это стало опасным. Ведь может статься, что тот, на кого брошен изучающий и оценивающий взгляд, может в силу подозрительности своей натуры, или какой-нибудь личной тайны, приписать такому взгляду какие-то одному ему известные причины. И может разгореться нешуточная ссора, поскольку тот, на кого смотрели, спросит, чем он обязан такому взгляду, а тот, кто смотрел, может ответить резко или грубо, и оба придут в ярость, и ситуация станет опасной. Я сам видел замечательный пример подобного конфликта, когда проезжал через город Триест, находящийся на краю области Фриуле в Италии. Два брата, один из которых был весьма уважаемым офицером, а второй — храбрым и достойным солдатом, шли по улице, и несколько местных молодых господ подвергли их не слишком учтивому осматриванию посреди улицы. Офицер с братом восприняли это как бесцеремонность и любезно поинтересовались, не встречались ли они с этими господами раньше и знакомы ли они. Те ответили «нет»; на следующий вопрос о том, почему же вы тогда столь пристально на нас смотрите, один из наглецов дал ответ «глаза есть, вот и смотрим», а другой добавил «все вопросы к воронам, почему они нам их до сих пор не выклевали». Короче, слово за слово, и перешли к делу, ибо что сказано языком, то должно подтвердить руками: завязалась яростная драка, брат офицера был убит, двое из местных — ранены, а остальные — бежали, причем самый искусный боец из них оказался раненым в ногу и убежать не смог, был арестован и вскоре обезглавлен. Его очень любили в городе, но никто не помог ему избежать смерти, к которой его привели безумная самоуверенность и плохая компания». В те бурные времена самым мудрым советом было «ни с кем не спорить». Много голов полетело из-за возражений, ведь любое, самое ничтожное слово поперек полоумному горячему парню воспринималось как наглая ложь, а рапиры в те дни очень непрочно сидели в ножнах… Более миролюбивыми и здравомыслящими людьми были придуманы и напечатаны правила о возражениях, где подробно расписывалось, в каком именно случае встречи с «наглой ложью» следует драться, а в каких — не следует. Там присутствовало понятие «Безусловное Обвинение во Лжи», которая была определенно подходящей причиной для драки, да и в наше время, когда обществом заправляют юристы, привела бы к появлению на руках лжеца наручников; но в благословенные времена королевы Елизаветы наручники были вещью неизвестной, а подобные споры решались с помощью ее величества рапиры. Так, к примеру, некий Джон заявлял некоему Джеймсу: — Ты сказал, что я в битве при Монконтур забыл присягу и трусливо бежал, так вот, я отвечаю на это, что ты солгал! — и мог добавить, дабы еще более прояснить свои намерения: — И язык твой подобен рукам вора! Это — пример четкого и энергичного возражения, и Джеймсу теперь положено вызвать Джона на поединок, чтобы своими руками доказать правоту своих слов. Помимо «Безусловного Обвинения во Лжи», имелось еще «Общее Обвинение во Лжи» — это когда утверждение произнесено «в общем», без указания на конкретное лицо, например: «Кто бы ни говорил, что я не верен своему сюзерену, тот лжет!» На подобное утверждение никто не обязан отвечать вызовом, потому что возможно, что об этом говорили все подряд, а сражаться со всеми подряд было бы неумно. Затем следует «Условное Обвинение во Лжи». «Условным Обвинением во Лжи мы называем обвинение, которое будет действительно при некоем условии, например заданном в утверждении типа: «Если ты назвал меня вором, ты тем самым солгал, если назовешь меня вором впоследствии, ты тем самым солжешь, и сколь часто ты произносил или произнесешь такие слова, столь часто и солгал или солжешь». Такое «Условное Обвинение» часто вызывает споры и сомнения, поскольку оно не может считаться действительным, пока не проверено условие, иными словами — пока не засвидетельствовано, что описанные слова действительно были произнесены. Поэтому во избежание двусмысленности ситуации всем благородным господам рекомендуется воздерживаться от утверждений, классифицируемых как Условное Обвинение во Лжи». И завершает список «Пустое, или Глупое, Обвинение во Лжи». «Принято считать, что тот, кто обвиняет другого во лжи, не важно, сколь обоснованно, получает право выбора оружия при поединке. Вследствие этого недалекие люди ежедневно говорят массу глупостей, так что люди только и слышат от них: «Если ты скажешь, что я не честный человек, то врет твой язык!» — глупость чего очевидна. Или еще: невежественные забияки могут заявлять так: «Если кто-нибудь говорил обо мне дурное, он лгал; если же кто-то будет отрицать, что говорил — он тоже лжет!» Такие вздорные речи следует считать Пустым и Глупым Обвинением во Лжи, способным вызвать лишь смех. Вот еще пример Пустого Обвинения: Саймон, встретив Льюиса, заявляет: «Доставай оружие, и я докажу, что ты — лжец и негодяй; если же не достанешь — то ты тем более негодяй!» Или так: «Если ты. скажешь, что я тебе не ровня, то солжешь!» Такое обвинение во лжи не имеет под собой основания и, следовательно, заслуживает только насмешек». Глава 10О некоторых неблагоприятных последствиях указа Генриха II Как месье де Соёлль отправился в одиночку сражаться с месье Девесом, и что с ним произошлоМесье де Соёлль женился на мадемуазель Дюпон, красивой молодой леди из Лангедока. Несколько дней спустя после свадьбы ему пришлось покинуть дом и отправиться ко двору за неким благодеянием от короля. Рановато было для новоиспеченного мужа покидать свою молодую жену, но дело не терпело отлагательств, и он возложил на своего шурина Дюпона обязанности по присмотру за домом и женой. Оказалось, что у этого молодого человека гораздо лучше получалось обнаруживать уже произошедшие неприятности, чем предотвращать их. У Соёлля был сосед по имени Девес, бывший ему самым близким другом, постоянно навещавшим его, и не прекративший являться в гости с отъездом самого Соёлля. Девес был молод, красив, богат и обходителен; леди тоже была молода, красива и полна очарования. Остальное можно додумать самостоятельно. Соёлль возвращается домой. Дюпон рассказывает ему о своих открытиях, и разражается бурная семейная сцена. Соёлль бросается на поиски Девеса, добирается до его дома к обеду и застает его вместе с отцом и дюжиной друзей в тот момент, когда они собирались сесть за стол. Все обнимаются с вновь прибывшим, особенно горячо — Девес-младший, и гость присоединяется к трапезе, которая проходит самым приятным образом. Вот она закончилась, и Соёлль уводит Девеса в сад. Там, на одной из аллей, он вдруг говорит: — Я приехал драться с тобой насмерть; я припас пару шпаг и кинжалов в укромном месте, куда мы сейчас и отправимся. — Со мной? — изумляется Девес. — Ты, должно быть, шутишь? Я с удовольствием сразился бы с твоими врагами, но не с тобой, своим ближайшим другом! — Ну нет, — отвечает ему Соёлль, — ты меня не обманешь! Или я убью тебя, или ты убьешь меня! — Как это? — восклицает Девес. — Даже безо всякой ссоры? Я не понимаю, что происходит? — Просто я так хочу, — отрезал гость. Тут в голове у Девеса мелькнула черная мысль. — Просто ты так хочешь? Ну что ж, не могу тебе отказать. Но сегодня мы драться не будем. Здесь полно моих друзей, и, если мне посчастливится победить, могут подумать, что не обошлось без их помощи; лучше пришли мне письмо и сообщи в нем место и время — я буду там к твоим услугам.  Рапира со стреловидным эфесом Удовлетворившись таким решением, Соёлль возвращается домой и на следующий день через слугу отсылает письменный вызов. Положившись на честность Девеса, он прибывает на встречу в одиночку. Девес уже поджидает его на условленном месте, но не один, а с группой друзей, которые набрасываются на несчастного; один из них протыкает Соёлля сзади с такой силой, что клинок рапиры ломается, и обломок остается в теле раненого, которого бросают истекать кровью. Однако рана впоследствии зажила, хотя здоровье Соёлля полностью так и не восстановилось. Узнав об этом, Девес приходит в ужас и совершает еще одно коварное покушение. Но тут об обоих случаях узнает король и в гневе изгоняет Девеса из армии, где тот числился кавалерийским корнетом. Это разжалование — страшный удар для виновного, который тем самым получает репутацию недостойного человека, с которым никто из благородных не скрестит более шпаги. Соёлля же впоследствии сумел полностью излечить один итальянский хирург, с которым они случайно познакомились на Монпелье. Как капитан Матас пощадил Ашона, и как Ашон отплатил за благородствоКороль Франциск II однажды отправился на охоту в Венсеннский лес. В его свите были, помимо прочих, два рыцаря — некий Ашон, молодой придворный фаворит, и капитан Матас, человек несколько эксцентричный в поведении и в одежде, но наряду с тем — храбрый солдат, верой и правдой служивший своему королю во всех войнах, за что его высоко ценили, несмотря на все его странности. На охоте эти двое что-то не поделили и решили драться. Вот они потихоньку отстают от своих спутников, выбрав себе расположенный неподалеку крутой холм, забираются на него и принимаются выяснять отношения с помощью рапир. Опытный вояка Матас обрушивает на соперника столь мощный натиск, что оружие быстро вылетает у того из рук; однако в силу великодушного расположения духа и нежелания прослыть mangeur de jeunes gens [33] командир отпускает посрамленного со словами: — Ступайте же, молодой человек, и поучитесь лучше держать оружие в руках, да остерегайтесь впредь бросаться на таких людей, как я. Я прощаю вас, ведь вы еще так молоды, и давайте теперь обо всем забудем. Поднимите свою шпагу. Произнеся это, Матас поворачивается к своему коню, собираясь сесть на него и вернуться к остальным, но тут вероломный Ашон, чью жизнь он только что пощадил, подбирает выбитую шпагу, бросается вслед Матасу и протыкает его насквозь, так что тот падает замертво. Смерть Матаса вызвала всеобщее сожаление, поскольку это был храбрый воин, но герцог Гиз очень разозлился на убитого за то, что он так невысоко оценил свои воинские навыки и свое везение, заставившие противника сдаться ему на милость, что счел, гордец, допустимым оставить побежденному жизнь, которой тот и воспользовался для того, чтобы тут же убить великодушного победителя. Итальянские специалисты по этикету дуэлей придерживались в те времена того же мнения, что и Гиз, советуя добрякам, не желающим лишать побежденного противника жизни, оставлять его в таком случае, как минимум, лежащим на земле с покалеченными руками и ногами во избежание какого-либо злодейства с его стороны, а кроме того — полоснуть его по лицу так, чтобы оставить уродливый шрам на вечную память. Матасу стоило бы прислушаться к этим советам. Как месье де Милло сразился с бароном де Вито и бесчестно убил егоХоть бесчестное убийство барона де Вито и служит плохой репутацией его противнику, но и сам барон представлял собой личность не особенно симпатичную, отличаясь, по свидетельствам современников, во всем, что касалось проявлений жестокости. Как-то раз в Тулузе он встретился с бароном де Супе, чрезвычайно самоуверенным молодым человеком, который имел неосторожность недооценить де Вито. Тот был человеком щуплым, и де Супе, который, наоборот, имел богатырские размеры, посматривал на него сверху вниз во всех отношениях. Как-то раз за ужином они поругались по какому-то банальному поводу, и де Супе позволил себе швырнуть канделябром противнику в голову. Рассвирепев, коротышка схватился за меч и готов был драться прямо там, но его удержали друзья Супе, которых было там гораздо больше, чем его собственных, поэтому он просто покинул дом. Но, выйдя, спрятался и стал ждать с мечом наготове, а когда вышел ничего не подозревающий Супе, бросился на него и проткнул насквозь. Тело де Вито бросил там же, на дороге, что было, надо сказать, делом опасным, ведь в Тулузе как раз в тот период законы соблюдались строго, да и влиятельных друзей и родственников у убитого в городе оказалось предостаточно, так что, попадись де Вито им в руки — наказание было бы неизбежным. Однако тут его спас низкий рост — он переоделся девушкой и неопознанным проскочил через городские ворота, таким образом, по словам своего обожателя Брантома, «храбро избежав смерти». Вскоре после этого с ним снова происходит не менее похвальная история. На этот раз гнев де Вито пал на некоего Гонельо, любимчика короля, и вполне заслуженно — ибо тот, по слухам, жульнически убил младшего брата нашего героя, пятнадцатилетнего юношу, которому прочили большое будущее. И вот яростный барон, узнав, что убийца с тремя друзьями держит путь к себе в Пикардию, поскакал вслед в сопровождении лишь одного своего друга — молодого Бусико, догнал преследуемого на равнине возле Сен-Дени и сразу же убил безо всяких церемоний. Король, очень любивший Гонельо, был в бешенстве, и, поймай он барона, тому пришел бы конец. Но наш достойный рыцарь успел сбежать в Италию и так и не вернулся до того самого дня, когда злой рок свел его с Милло, у которого было достаточно причин ненавидеть барона, чтобы сразу же бросить ему вызов. Вот два противника встречаются в сельской местности под Парижем, с ними — секунданты, призванные следить за тем, чтобы ни на одном из противников не было скрытых доспехов или магических амулетов для обретения нечестного преимущества. Оба разделись до рубашек, секундант Милло подходит к барону, а секундант барона — к Милло, тот расстегивает рубашку и показывает, что под ней ничего нет. Дуэлянты становятся в стойку и обмениваются серией быстрых ударов, после которых острие рапиры барона оказывается погнутым. Но погнуться оно могло и об эфес шпаги противника; тогда де Вито мгновенно наносит два укола сопернику в грудь так, что тот отскакивает шага на три-четыре, но больше никакого эффекта удары не оказывают. Де Вито начинает что-то подозревать и принимается атаковать «эстрамасонами». Эстрамасон, как называет этот удар Брантом, — это необычный отвесный удар, наносимый в голову, но не с целью прямо проткнуть ее, а проколоть голову сверху вниз, от лба до подбородка. Милло парирует эти удары, что можно уверенно сделать шпагой и кинжалом одновременно, подняв их кверху и скрестив близко к рукоятям — так называемое «двойное» парирование, и, воспользовавшись предоставленной возможностью, тут же наносит барону мощный колющий удар в корпус, а за ним — еще один, и еще, и еще, и приканчивает противника, не дав ему даже попросить пощады. Барон поубивал много народу, в том числе — отца Милло, и недруги говорили, что победы свои де Вито одерживал нечестно, с помощью жульничества. Милло об этом знал и прибег к советам некоего синьора Ферроне, итальянца из Асти, который обучил его не только фехтовальным приемам своих соотечественников, но и другим, не столь рыцарским по природе, приемчикам тоже. Итальянцы в то время считались самыми хитрыми и мстительными в цивилизованном мире, придерживаясь убеждения, что за предательство и обман благородный человек вполне вправе отплатить тем же и это нисколько не запятнает его чести. Милло глубоко воспринял эти уроки и хорошо подготовился к встрече с бароном перед тем, как послать ему вызов. Он заказал себе легкую кирасу, которую можно было бы носить прямо на голое тело; она была столь искусно сделана и окрашена, что случайный наблюдатель — а секундант Вито был, похоже, каким-то уж совсем случайным — решил бы, что перед ним живая плоть. Так, с помощью этого трюка месье де Милло отмстил за убийство своего отца. Как месье де Сурдиак сразился с месье де ла Шасне-Лалье и убил его с помощью жульничестваВ период мрачного правления Генриха II, 31 марта 1579 года, в Париже, на острове Лувье на Сене, состоялась дуэль между месье де Сурдиаком, молодым лордом Шастонефом, и месье де ла Шасне-Лалье, который незадолго до того служил охранником молодого лорда. Какой-то сплетник нашептал Сурдиаку, что его бывший охранник распространяется о нем нежелательным образом, и Сурдиак тут же отреагировал вызовом. Сам Сурдиак — молодой энергичный парень, а рвется в драку с мужчиной, как минимум, средних лет, чтобы не сказать пожилым, что само по себе нехорошо; однако в оговоренный день они все же встречаются в сопровождении секундантов. Однако, как это часто бывает, слухи о предстоящей дуэли разошлись, и по обеим сторонам реки собралось множество людей всех сословий, чтобы насладиться зрелищем. Сурдиак спрашивает своего противника, правда ли, что тот отпускал о нем столь недостойные замечания, и ла Шасне отвечает: — Клянусь честью благородного человека, я никогда ничего подобного не говорил. — В таком случае, — говорит Сурдиак, — я полностью удовлетворен. — А я — нет, — отвечает ему старший. — Из-за тебя мне пришлось ехать сюда, я настроен драться, да и что скажут все эти люди, которые собрались здесь вокруг, по обеим берегам, когда увидят, что мы явились сюда с рапирами и кинжалами просто для того, чтобы немного поболтать? Это запятнает наши репутации. Так что приступим к делу! И вот они раздеваются до рубашек и, понадеявшись на честность друг друга в части отсутствия какого-либо жульничества, начинают бой на рапирах и кинжалах. Оба — опытные бойцы, и какое-то время продолжается безрезультатный обмен ударами, уколами и парированиями, пока наконец ла Шасне не наносит мощный удар над рукой — imbroccata — прямо в середину корпуса Сурдиака, и этот удар, ко всеобщему удивлению, не оказывает вообще никакого действия. JIa Шасне восклицает: — Негодяй! Ты еще и в доспехах! Но ничего, я тебя и по-другому достану! И с этими словами он принимается метиться в голову и горло и наносит такой яростный боковой удар рапирой (те первые рапиры имели острые лезвия), что, не успей Сурдиак уклониться корпусом, быть бы его горлу перерезанным. Однако же он остается невредим и удваивает натиск, протыкая в конце концов тело ла Шасне. Но вряд ли эту победу можно назвать триумфальной, ведь ни для кого не представляет сомнения, что победитель явился на бой, мошеннически поддев под одежду потайной доспех. Как месье де Ромфор сразился с месье де Фреденем, как пытался смошенничать, и как это ему не удалосьСлучилось это в Лимузане, а нам все стало известно со слов Брантома. Жила-была некая дама непонятного сорта, в чьем доме частыми гостями были два господина — месье де Ромфор и месье де Фредень. Как часто бывает в случаях с подобными дамами, оба горячих молодых парня стали страшно ревновать друг к другу. Первым начинает Ромфор и доверяет свою беду некоему господину, чье имя не называется, указывается лишь, что у него была репутация «честного малого», несколько разгильдяйского, правда, характера. Этот друг Ромфора передает Фреденю вызов с предложением встретиться в некоем уединенном месте и там выяснить отношения наедине безо всяких секундантов или иных свидетелей, за исключением слуг, которые будут удерживать лошадей. Так они и встретились, только вот Ромфор решил, так сказать, подстраховаться: в ливрею слуги он одел все того же своего бесценного друга, договорившись с ним, что если придется туго, то тот бросит лошадей на произвол судьбы (успеется потом их поймать) и придет на помощь, чтобы разделаться с бедным Фреденем вдвоем. Вот дуэлянты подбирают подходящее место для боя, довольно далеко от коновязи, а слуги не спеша бредут за ними. Фредень оглядывается и тут же узнает спутника своего противника. «Ага! — думает он. — Тут дело нечисто. Надо действовать внезапно!» И, будучи лучшим фехтовальщиком, чем рассчитывал Ромфор, он в два движения укладывает своего соперника замертво, не успел сообщник последнего даже сообразить, что пора идти на помощь. Преданный слуга Фреденя подвел лошадь гораздо ближе к полю боя, чем осторожный лжеслуга Ромфора, так что победитель мгновенно влетает в седло и мчится на растерянного господина, который тут же бросается прочь, оставив Ромфора на произвол судьбы. Фредень не устраивает погони, удовольствовавшись советом вдогонку беглецу убираться ко всем чертям. Сам же он с победой возвращается домой, слуга его несет оружие безобидного теперь Ромфора, а победитель долго хвастается всем своей победой и тем, как он прогнал с поля лжеслугу, чье имя, как мы можем только догадываться, он не постеснятся раскрыть. Глава 11Как восхитительный Криштон сразился с итальянским храбрецом на рапирах и поразил его и как впоследствии сам был убит с помощью обмана Об этом сэр Томас Уркухарт в своем труде «Самоцвет» рассказывает так: «Теперь же я поведу речь о Криштоне, надеясь не обидеть наивного читателя, и опишу великодушный поступок, совершенный им при дворе герцога Мантуа не только к собственной чести, но и к вечной славе Британского острова. Случилось это так. Жил-был некий господин из Италии телом могучий, проворный и энергичный, а характером — дерзкий, злобный и воинственный. И был он столь искусен в ведении боя, что одолел всех известных мастеров и учителей фехтования в Италии, вынудив их своими неотразимыми ударами, рубящими и колющими, признать себя победителем. Завоевав себе таким образом репутацию, он решил, что пора взяться и за зарабатывание денег. С этой целью наш фехтовальщик сменил учебную рапиру на боевую, прихватил с собой полный кошель денег (примерно фунтов в четыреста в пересчете на английские) и отправился в путешествие по Испании, Франции, Италии и всем остальным краям, где можно было встретить самых горячих и жестоких дуэлянтов. Появляясь в городе, где имелась надежда на встречу с местным героем, который был бы готов сразиться с заезжим выскочкой, наш итальянец храбро везде бросал такой знаменитости вызов с предложением сразиться на арене на главной рыночной площади города с условием, что тот поставит на себя не меньшую сумму, чем сам итальянец, а победитель боя получит весь призовой фонд. Немало храбрецов из разных стран приняли его предложение, не побоявшись рискнуть жизнью и состоянием, но до встречи с Криштоном его преимущество над всеми соперниками оказывалось столь очевидным, а судьба его противников — столь плачевной, что те из них, кому повезло остаться в живых (пусть и истекая кровью), были просто счастливы, что потеряли лишь деньги и репутацию. В конце концов он возвращается домой, нагруженный золотом и увенчанный славой за счет посрамления всех этих иностранцев, которых итальянцы зовут «трамонтани». По дороге наш боец по привычке завернул в город Мантуа, где местный герцог удостоил его своего покровительства и приставил к нему охрану. Сам же фехтовальщик и здесь оповестил весь город, как и везде до того — барабанным боем, звуками рога и объявлениями, которые разместил на всех главных воротах, столбах и колоннах города, — о своем намерении сразиться на рапирах с любым, кто осмелится принять его вызов и сможет поставить на кон сумму в пять сотен испанских пистолей против такой же, которую ставит он сам, с условием, что победитель получает все. Вызов недолго оставался без ответа. Случилось так, что в это же время при дворе Мантуа находились сразу трое из самых выдающихся рубак в мире, которые, услышав про возможность быстро и легко срубить (как они решили) пять сотен пистолей, чуть не передрались между собой за право первого поединка с пришельцем, и только вмешательство придворных герцога заставило их с помощью не оружия, но жребия определить, кто из них выйдет в бой первым, кто — вторым, а кто — третьим, если ни первому, ни второму не повезет победить. Тот, кому выпало счастье принять бой первым, без дальнейших проволочек явился на арену, подготовленную для боя, где под звуки рога его поджидал противник. Бойцы взялись за дело, бой начался жарко, но вскоре тот, кому выпало первым из троицы сразиться, первым же и отправился на тот свет, упав навзничь с пробитым горлом. Это, однако, ничуть не смутило двух оставшихся, и на следующий день на бой вслед за первым вышел второй — и выступил с тем же успехом, получив смертельный укол в сердце. Тем не менее, третий все так же рвался в бой, как и два дня назад, и на следующий день он, собравшись с духом, смело вошел на арену и какое-то время искусно и энергично сражался, но в итоге ему повезло не больше, чем двум предыдущим бойцам, — он пропустил удар в живот и в течение двадцати четырех часов испустил дух. Как можно себе представить, эти бои представляли собой прискорбное зрелище для герцога Мантуа и всего города. Победоносный вояка, гордясь столь прибыльными как для его репутации, так и для кошелька победами, целых две недели триумфально расхаживал по улицам Мантуа, не встречая никакого сопротивления. Когда о происходящем узнал неизменно Восхитительный Криштон, только что прибывший ко двору Мантуа (впрочем, он был как раз отсюда), он не мог ни есть ни пить, пока не послал пришельцу вызов, чтобы смыть позор трусости, павший на дворян Мантуа. В вызове заезжему чемпиону предлагалось явиться на все ту же арену, где он убил уже троих, к девяти утра следующего дня и сразиться с Криштоном перед лицом всего двора Мантуа. Кроме того, в вызове говорилось, что есть при дворе Мантуа люди не менее храбрые, чем итальянец, и что для пущего задора Криштон добавляет к объявленной сумме в пять сотен пистолей еще тысячу, ожидая того же и от гостя, чтобы победителю достался действительно стоящий приз. Вызов мгновенно принят, и в оговоренное время оба дуэлянта уже на месте, каждый выдает по пятнадцать сотен пистолей и выбирает себе по одной рапире из двух предложенных — одинаковой длины, веса и качества. По сигналу, которым послужил выстрел из большой пушки, бойцы, словно два льва, набросились друг на друга на глазах у герцога, герцогини, благородных господ и дам, вельмож и всех достойных мужчин, женщин и девушек города. Храбрый Криштон, сойдясь с противником, сначала ушел в оборону, стремясь скорее измотать соперника. Столь искусно и ловко он отражал удары и корпусом уходил от серьезных ударов, не обращая внимания на финты, что казалось, что он просто играет с противником, а тот нападает всерьез. Спокойствие, которое Криштон сохранял в пылу боя, как молния, озаряло сердца зрителей и делало его предметом любви всех итальянок; ярость же второго бойца, ставшего похожим на раненого медведя, способна была вселить страх в волков и испугать даже английского мастифа. Оба бойца были в одних рубашках и внешне казались находящимися в совершенно равных условиях, но, когда итальянец удваивал усилия в яростном броске, у него на губах выступала пена, а дыхание становилось хриплым; шотландец же, сдерживая натиск, спокойно срывал все планы нападающего. Тот заставлял соперника работать то примами, то секундами, менять защиту терциями на защиту квартами, парируя удары то высоко, то низко, и выгибал тело, как только можно, в поиске уязвимых мест в обороне рыцаря — но все тщетно. Неодолимый Криштон, перед которым была бессильна любая хитрость, отражал все атаки и с невероятной ловкостью как в парировании, так и в перемещениях разрушал все замыслы противника. Только теперь в голову непобедимого доселе итальянца начала закрадываться мысль о том, что кто-то может превзойти и его. Несравненный же Криштон решил, что пора положить сокрушительный конец затянувшемуся поединку, чтобы не обмануть ожиданий дам и надежд герцога. Он просто перевоплотился, обернувшись из защищающегося в нападающего, и совершил, в защиту чести герцогской семьи и в воздаяние за кровь троих убитых здесь ранее, следующее: провел длинную стоккаду de pied ferme; отскочил и нанес еще один удар, на долю секунды зафиксировав клинок в теле соперника; и наконец, сделал последний шаг назад и, резко стартовав с правой ноги, вогнал рапиру в живот итальянца, горло и сердце которого уже были пробиты предыдущими двумя ударами. Таким образом он отмстил за трех вышеупомянутых господ, которые были убиты тремя такими же ударами. Итальянец, чувствуя, как жизнь покидает его вместе с вытекающей кровью, успел сказать только одно — что он умирает со спокойной душой, ибо принял смерть от руки самого храброго воина». Джеймс Криштон был не только талантливым бойцом, но и в целом очень способным и образованным молодым человеком, так что неудивительно, что герцог Мантуа питал к нему особую привязанность, и тем более — после славной победы над заезжим бойцом. Видя, что Винченцо ди Гонцага, сын герцога, имеет склонность к литературе и искусствам, правитель приставляет Криштона к сыну в качестве компаньона и наставника. На беду, сам Винченцо оказался человеком злобным, мстительным и имел много плохих привычек. Как рассказывает нам сэр Томас Уркухарт, после победы над итальянцем на глазах у всего города красавицы Мантуа готовы были пасть к ногам героя. Среди толпы красоток он бы и жил счастливо, но, к сожалению, нашлась среди них одна, захватившая гораздо больше его внимания, чем все остальные. К большому сожалению, и принц тоже начинает питать пристрастие именно к этой особе, в связи с чем у него развивается ревность к шотландцу, перерастающая в смертельную ненависть. Как-то раз последний возвращался от предмета своей страсти, по бытовавшей в то время среди итальянской знати манере играя на мандолине. На него набрасываются с полдюжины вооруженных бандитов, чьи лица тщательно закрыты масками. Криштон вынимает рапиру и кинжал и так умело обороняется, что вскоре двое нападающих уже повержены наземь, трое — бегут, а у шестого он выбивает оружие, срывает с него маску и видит принца Винченцо, своего молодого господина. Да, он лишь разоружил противника, да и то — защищаясь, а ведь мог бы и убить. Потрясенный своим открытием, он становится на колено и с поклоном возвращает принцу его рапиру. Винченцо, пьяный от вина, разъяренный своим поражением, подлый и мстительный по природе, принимает рапиру и тут же протыкает ею рыцаря насквозь. Так в юном возрасте двадцати двух лет завершилась жизнь Восхитительного Криштона. Глава 12О рыцарском поведении мастеров рапиры Пожалуй, хватит о жульничествах, о злобе и предательстве. Теперь приятно было бы узнать о том, что не все благородные господа того времени были столь жестоки. Да, действительно жестокие и безнаказанные убийства капитана Матаса и Восхитительного Криштона, совершенные теми, кого эти рыцари только что великодушно пощадили, вряд ли могли подтолкнуть благородных по природе своей людей к тому, чтобы вести себя с побежденным противником так, как подсказывает сердце. Но все же в истории сохранилось немало примеров рыцарской учтивости победителей по отношению к побежденным, которую последние принимали с благодарным почтением. Узнаем же о них. Как два капитана, Петр Корсиканец и Джованни из Турина, сражались на рапирах и плащах, и как великодушно они себя вели по отношению друг к другуПри дворе принца Джианнино дей Медичи состояли двое храбрых капитанов, именовавшихся Петр Корсиканец и Джованни из Турина. Они храбро служили своему повелителю во всех войнах и несколько лет жили добрыми друзьями. Но как-то раз между ними зародилось недовольство; они перестали доверять друг другу, и отношения их переросли в открытую ссору. Споры между ними стали постоянным делом, а поскольку ни тот ни другой ни в чем не желал признать себя неправым — при том что виноваты были в какой-то степени оба, — примирить их стало задачей поистине невозможной, хотя до физических оскорблений дело еще не дошло. Когда такое положение дел стало известно Джианнино, их хозяину и повелителю, то, зная храбрый нрав обоих, он сразу понял, что не за горами тот день, когда они сцепятся насмерть и погибнут оба, ибо ни тот ни другой не сдастся. Не желая терять двух лучших своих вассалов, он прилагает все усилия, чтобы привести их к согласию, однако они столь упрямы, что не стали слушаться и самого князя. Отчаявшись, принц решил положить конец ссоре раз и навсегда. Он призывает обоих к себе и в последний раз пытается помирить их — разумеется, безуспешно. Тогда принц приказывает принести ему две рапиры одинаковой длины и веса и протягивает каждому из воинов по одной, после чего снимает собственный плащ, своим же острым кинжалом распарывает его надвое и по половине плаща вручает каждому из спорщиков. И в завершение — приказывает запереть их в большом пустом зале и не открывать дверей, пока они не уладят все свои взаимные претензии окончательно. Вот их оставили наедине и двери заперли на замки. Но полным уединением это назвать сложно — за действиями противников наблюдает достаточно внушительная аудитория, кто — в замочную скважину, кто — в щели в дверях, а кто и вскарабкался на стену, чтобы заглянуть в окно. Что ж, противоречия действительно надо улаживать, и бойцы берутся за дело. После короткого обмена ударами Джованни задевает клинком лоб противника. Рана сама по себе пустяковая, царапина, но драться мешает очень, поскольку кровь, струясь по лицу, заливает глаза, так что Петру приходится постоянно вытирать ее. Джованни говорит: — Петр Корсиканец, так не пойдет, это уже не бой. Давай сделаем перерыв, перевяжи свою рану. Тот принимает предложение, как может, перевязывает рану платком, и они снова принимаются сражаться, еще яростнее прежнего, да так, что рапира Джованни вылетает из руки. Корсиканец, желая отплатить великодушием за великодушие, опускает клинок и произносит: — Джованни из Турина, подними рапиру. Я не буду убивать безоружного. Затем наши бойцы сходятся и в третий раз и так отчаянно бьются, нанося друг другу множество тяжелых ран, что кто-то из наблюдателей отправляется к принцу и умоляет его остановить бой, пока они друг друга не убили. Принц тут же входит и видит, что оба участника лежат на полу и сражаться уже не могут по причине ужасных ран и большой потери крови. Правитель зовет на помощь и приказывает скорее унести их. Под чутким наблюдением князя их лечат со всем тщанием, и через какое-то время оба полностью выздоравливают. Однако, пока они лечились, у них было время подумать, и по излечении оба так высоко оценили проявленное противником во время боя благородство, что из врагов они снова превращаются в друзей и в таком качестве еще долго славно служат принцу, своему повелителю. Тщеславный капитан из ПьедмонаБрантом повествует нам о случае еще большего великодушия, почти донкихотства по природе своей, проявленного неким капитаном из Пьедмона по отношению к одному своему земляку. Эти двое годами жили в близких, дружеских отношениях, но в конце концов отношения их из-за какой-то ерунды стали неприязненными, а по обычаям того времени даже мелкие ссоры следовало улаживать тем же способом, что и тяжелые оскорбления чести. Они сошлись с оружием в руках, и одному из них повезло самому без единой царапины так тяжело ранить соперника, что тот оказался практически беспомощным. Замечательные клинки XVI века делали очень низкой вероятность того, что ранен будет только один из сражающихся; так, Меркуцио у Шекспира спрашивает, получив смертельное ранение от Тибальта: «Заколол! <…> А сам ушел — и цел?» [34] Но, памятуя об их давней дружбе, победитель говорит: — Смотри! Мы так долго были почти братьями, что в глубине души я не желаю убивать тебя, да и кто будет меня за это винить, учитывая причину нашей ссоры? Так вставай же, прошу тебя, и я помогу тебе добраться до хирурга. Раненый же оказался несколько тщеславным малым; он поблагодарил победителя самыми учтивыми словами, но добавил: — Я умоляю тебя: будь же великодушен до конца! Меня бросает в ужас при мысли, что люди будут говорить о том, что я получил ранение и ничем не ответил на это. Не мог бы ты сделать так, чтобы создалось впечатление, что я тебя тоже задел, хотя бы слегка? — Что ж, с превеликим удовольствием! — отвечал великодушный победитель и слово свое сдержал. Он смочил левую руку кровью противника, благо что ее было предостаточно, положил руку на перевязь, отвел раненого к доктору, а потом на протяжении нескольких дней рассказывал всем общим знакомым историю, которой никогда не происходило. Что ж, это был поступок славного человека, и не стоит осуждать его за ложь, верно? Великодушие месье де БюссиЛуи де Клермон, лорд Бюсси, был одним из храбрейших людей своего времени. Как-то раз он оказался при дворе на службе брата короля. Среди его товарищей был некий месье де ла Ферте, доблестный воин, и схожесть характеров вскоре сблизила этих двоих — они становятся крепкими друзьями, каждый из которых многим обязан другому. Но вот между ними разгорается ссора по какому-то поводу, связанному с войной, в которой они в тот момент участвовали (а во времена Валуа ссорились люди не на словах), и вот они уже стоят лицом к лицу с рапирами в руках. Бюсси, не только один из храбрейших, но и один из опытнейших воинов князя, сумел нанести ла Ферте столь тяжелую рану, что тот может теперь лишь отбиваться, да и то все слабее и слабее. Заметив это, Бюсси говорит: — Брат, по-моему, с тебя хватит. Я знаю, что ты будешь сражаться до последней капли крови; но рана твоя так тяжела, что ты не способен уже драться с присущей тебе храбростью. Нам следует отложить окончание боя на другой раз, а сейчас мне лучше всего отвести тебя домой, где позаботятся о твоей ране. Месье де ла Ферте рад воспользоваться предложением Бюсси и, рассказывая друзьям о поединке, с трудом находит слова благодарности, достойные поступка его соперника. Наверное, не нужно и упоминать о том, что никакого продолжения дуэли конечно же не последовало и что оба дворянина стали после этого случая еще большими друзьями, чем прежде. Благородство ла ФотриераМы в Ла-Рошели у гугенотов, при дворе Генриха Наваррского. Среди прочих здесь находится молодой д'Обанье, дворянин из Ангулмуа, достаточно храбрый, но склонный к хвастовству, чрезмерно усердный, но не самый удачный подражатель знаменитого Бюсси д'Амбуаза. Однако это не повод относиться к нему свысока: он пять лет провел в Италии и времени там не терял, а посвящал в значительной степени изучению оружия, в особенности — «одиночной рапиры», под руководством знаменитого Патерностриера. И в этом виде поединка приобрел репутацию человека в сто раз более опытного, чем избранный им противник — уроженец Анжу по имени ла Фотриер. Из-за чего эти двое поссорились, история умалчивает; они встречаются, как и было оговорено, в старом саду, на ограде которого расселись секунданты и сочувствующие, с интересом наблюдающие за происходящим. Обанье вооружен одной лишь рапирой, а ла Фотриер по общепринятой манере держит в одной руке рапиру, а в другой — кинжал. Его противник возражает против использования кинжала: — Я умею драться только одной рапирой, так что нечестно было бы с твоей стороны пользоваться еще и кинжалом. В ответ ла Фотриер просто выбрасывает кинжал за ограду сада. Обанье думает, что это обеспечит ему преимущество; однако судьба распорядилась по-другому, его противнику повезло: будучи гораздо слабее в фехтовании, все же после короткого обмена ударами он оставляет более опытного бойца на земле мертвым. Добрая душа месье де СурдеваляФранциск I как-то раз послал своего любимого министра, кардинала Лотарингии, во Фландрию на заключение договора с императором Карлом, а с ним — и немалую свиту. Был в той свите один немного своевольный дворянин из Бретани по имени месье де Сурдеваль, и он поссорился с неким другим французским дворянином, имя которого история умалчивает. Решив уладить дело исключительно между собой, не беспокоя никого из своих друзей, они нашли тихое местечко за стенами Брюсселя, где располагался императорский двор. Скрестили шпаги, и храбрый Сурдеваль получает ранение, но в целом судьба к нему благосклонна, и ему удается нанести сопернику почти смертельную рану. Получилось так, что он прибыл к месту дуэли верхом, и хорошо, что у него был сильный конь, поскольку второй дуэлянт пришел пешком. Сурдеваль оказался не только храбр, но и великодушен: он поднимает поверженного противника, сажает его в седло, а сам садится на круп коня позади и, придерживая раненого, со всеми предосторожностями везет его обратно в город в дом хирурга-цирюльника, где пострадавший получает такой великолепный уход, что вскоре полностью выздоравливает. Император, прослышав о таком поступке, желает видеть доблестного Сурдеваля, приказывает ему явиться в большой зал дворца, перед лицом всего двора горячо благодарит его за великодушие и отличает героя, вручая ему величественную золотую цепь. Граф де Гран-Пре и сломанная шпагаГраф де Гран-Пре был одним из самых благородных и великодушных людей, когда-либо служивших при французском дворе, и при этом храбростью он обладал не меньшей, чем его добрая шпага; что, впрочем, не спасло его от ссоры с неким месье де Живри. Когда они встретились на дуэли, удача изменила Живри, и его шпага переломилась пополам, однако он продолжил бой, не обращая на это внимания. Граф опустил оружие, воскликнув: — Возьмите другую шпагу; моя вас не смеет коснуться в таких неравных условиях. Живри не стал принимать одолжение и ответил: — Нет, я прекрасно смогу убить вас и этим обрубком. Однако граф наотрез отказался продолжать бой, ставший неравным, и после недолгих переговоров дуэлянты пришли к взаимопониманию и помирились. Командир Левинстон отказывается от предложенного одолженияНекий шотландский командир по имени Левинстон, бывший в свите шотландской королевы Мэри во время ее пребывания во Франции, добился себе должности в Монтагю, что в Оверне. Это был крупный сильный мужчина, любитель прихвастнуть; особой совестливостью он не отличался и брал взятки со всех и каждого, с правого и виновного, так что за два года пребывания на должности сколотил состояние в сто тысяч крон. Именно эта алчность и послужила причиной его смерти, приведя к столкновению с неким господином, которого Левинстон каким-то образом ущемил. Этот господин присылает Левинстону вызов, тот, хотя и выказывает откровенное презрение к своему противнику, несмотря на то что тот имеет репутацию храброго бойца и честного человека, вызов принимает. Как только дуэлянты берутся за рапиры и кинжалы, противник сразу же наносит Левинстону сокрушительный удар в корпус, сопровождая его словами: — Друг мой Левинстон, для первого удара этого достаточно; удовлетворены ли вы? Однако разъяренный командир отвечает только: — Второго вы мне нанести уже не успеете, потому что я разделаюсь с вами! — Ну, если вам мало, может, отразите вот этот? — спрашивает учтивый господин, нанося второй удар и добавив, как только оружие достигает цели: — Мне кажется, уж этого-то должно хватить, шли бы вы лучше домой и вызвали врача! — Местный дворянин все еще не хочет убивать шотландца, если только тот сам захочет уйти живым. Но Левинстон, в ярости оттого, что его уверенно побил столь презираемый им человек, кричит: — Так добей же меня, если можешь, или я уничтожу тебя! Тут местный дворянин становится серьезным: — Вас ничем не проймешь, вы так и будете продолжать храбриться, дерзкий вы человек? Тогда я вас убью. И в два удара он укладывает шотландца наповал. И разве его можно винить? Хотя, наверное, лучше было бы подобных хвастунов, у которых не хватает храбрости поступать в соответствии со своими словами, разоружать, лишая возможности творить зло, и выставлять на посмешище, как они того заслуживают. Доброта графа КлаудиоВ царствование императора Карла V в Милане жил некий храбрый господин, чья фамилия ныне утеряна и забыта. Он настолько славился своей доблестью, великодушием и искусством сражаться и был всеми вокруг настолько любим, что называли его только по имени — граф Клаудио. В один прекрасный день граф отправляется на охоту, и случай выводит его на поляну, на которой крестьяне соорудили в свое время загон для скота, как раз в тот момент, когда четверо солдат решили выяснить свои отношения. Представители обеих сторон раздеты до рубашек и уже стоят наготове с оружием наголо, и тут появляется Клаудио, здоровается с собравшимися и говорит: — Господа, я умоляю вас не разбрасываться попусту столь ценными жизнями; лучше расскажите мне, в чем суть вашего спора, и, может быть, я помогу вам его разрешить. Наверное, не надо объяснять, что, когда достойные люди собираются для того, чтобы как следует подраться, ничто не способно вызвать у них такое раздражение, как появление незваного миротворца. Так произошло и на этот раз. Собравшиеся в резкой форме отвечают, что это не его дело, но не возражают против того, чтобы он остался посмотреть на бой и, может быть, считать удары. Граф спешился со словами, что счел бы себя подлецом, если бы позволил им перерезать друг другу глотки в его присутствии, а для придания своим словам пущей значимости обнажил шпагу. В глазах дуэлянтов он переходит тем самым все границы, и они единогласно принимают решение сначала избавиться от надоедливого приставалы, а затем уже спокойно подраться. Соответственно, вся четверка одновременно набрасывается на графа, но не тут-то было! Клаудио хитро маневрирует, прикрываясь от одного противника другим, и так доблестно контратакует, что не проходит и минуты, как двое из нападающих уже лежат на земле. Граф и рад бы пощадить хотя бы двух оставшихся, но те, видя, что их все еще двое на одного, и слышать об этом не желают и набрасываются на него с пущей яростью. Горя желанием отомстить за жизнь уже поверженных не по его вине, Клаудио меняет стойку, как это принято у фехтовальщиков, искусно парирует атаку и вскоре прерывает мирское существование третьего дуэлянта. Теперь он может развлечься с последним оставшимся героем, которому в конце концов наносит тяжелую рану, но великодушно оставляет жизнь; как можно быстрее граф присылает к раненому врача. Поправившись благодаря искусному уходу, выживший дуэлянт оказался благодарным человеком — он всем рассказывал о бойцовском подвиге Клаудио, восхваляя великодушие графа и объявляя о том, что при первой же возможности отплатит за добро. В дальнейшем он верой и правдой служит графу, который милостив к нему, и лишь сожалеет о том, что не удалось сохранить жизнь трем другим. Как месье де Креки сохранил жизнь дону Филиппу Савойскому, и что из этого получилосьПричина ссоры была пустяковой: ею стал обычный шелковый шарф — по крайней мере, так утверждает Вюльсон де ла Коломбьер. В 1597-м и 1598 годах Генрих IV Французский вел войну против герцога Савойского, армией его командовал знаменитый Лесдигере, который, помимо прочих операций, посчитал необходимым захватить небольшую крепость в местечке по названием Шамуссе на реке Лизере. Крепость быстро пала, и все ее защитники были преданы мечу за исключением тех немногих, кто спасся вплавь. Среди них был дон Филипп, единокровный брат герцога. Он, к несчастью, не умел плавать, но трое его людей придумали, как спасти господина, — они скрепили вместе две бочки из-под вина, все разделись, дона Филиппа посадили на этот импровизированный плот, а сами поплыли, толкая плот в направлении безопасного места. Дон Филипп был весьма огорчен потерей своей одежды, поскольку из-за нее становилось ясно, что спасся он не совсем достойным образом. Крепость была разрушена до основания, и месье де Креки, командовавший пехотой, отозвал своих людей обратно в основные части, которые осаждали Шарбоньер, крепость гораздо более важную. Через день или два от герцога прибыл парламентер с вопросом о некоем бароне де Шанивре, который был убит при взятии той крепости. Креки, встретившись с парламентером, показал ему шелковый шарф, по слухам принадлежавший к одежде дона Филиппа, которую тот бросил на берегу, и был так любезен, что предложил вернуть этот шарф владельцу, если это действительно он. Таким образом, стало ясно, что подробности бегства дона Филиппа известны не только самому дону и троим его спутникам, но и другим лицам, — и дон воспринял любезность Креки без особой радости. Замок Шарбоньер пал, а с ним — и ряд других городов. Армия французского генерала стала лагерем в местечке под названием Ле-Молетт, неподалеку от вражеской армии. Собственно, два войска разделяла только широкая равнина, на которой периодически вспыхивали стычки и которая стала заодно и дуэльной площадкой для горячих голов с обеих сторон, развлекавшихся бросанием друг другу вызовов. В один прекрасный день, когда Креки и думать забыл о каком бы то ни было доне Филиппе, прозвучал рог, и посыльный сообщил ошеломленному командиру, что дон ждет его на равнине облаченный в доспехи, чтобы обменяться пистолетными выстрелами и тремя ударами шпаги во имя любви прекрасных дам и рыцарской чести. Что ж, Креки садится на коня и вместе с посыльным выезжает на поле — но никакого дона Филиппа там нет. Тогда он посылает своего слугу к авангарду армии герцога с вопросом о том, что случилось. Выясняется, что герцог, узнав о происходящем, запретил дону Филиппу под каким бы то ни было предлогом встречаться с Креки. Последний выразил посыльному свое возмущение тем, что его надули, в надежде, что тот передаст это дону Филиппу, а поскольку уже темнело, то он вернулся домой безо всяких приключений. Однако на следующий же день он самолично отправляет дону Филиппу вызов — и с тем же результатом, поскольку герцог наложил решительный запрет на любые встречи этих двоих. Наконец воцарился мир, и с обеих сторон периодически предпринимались попытки все же договориться о встрече, но все они неизменно пресекались бдительным герцогом, который к тому времени находился уже в Шамбери. Однако 20 августа 1598 года Филиппу все же удается ускользнуть в сопровождении одного лишь месье де Пюигана, одного из эсквайров его брата. Не доезжая до Гренобля, дон Филипп останавливается и дальше посылает своего спутника одного, чтобы тот привел к нему Креки. Тот рад полученному известию и сразу же выезжает, прихватив с собой друга, месье де ла Бюисса. Добравшись до дона Филиппа, они предлагают ему на выбор один из двух привезенных с собой комплектов из рапиры и кинжала. Дуэлянты снимают камзолы, каждого из них осматривает секундант противника на предмет наличия потайного доспеха или другого мошенничества, и бой начинается. Сражающиеся обмениваются ударами — то имброкката, то стокката, то пунта риверса, — но все они парируются до тех пор, пока, пройдя между шпагой и кинжалом дона Филиппа, клинок его противника не пробивает дону Филиппу правое легкое. Тому явно достаточно — он теряет много крови и слабеет; его секундант Пюиган объясняет Креки ситуацию, и тот считает себя удовлетворенным, забирает, как и было оговорено, оружие побежденного, а затем — оказывает ему всю возможную помощь, отвозит в Жьер, где тот пожелал остаться, убеждается, что раненый получит хороший уход, и, после взаимных выражений добрых и дружеских чувств, прощается. Теперь Креки и дон Филипп — добрые друзья, и остались бы таковыми, если бы не вмешательство герцога, который разительно изменил свое отношение к их дуэли. Обозленный тем, что дуэль состоялась, несмотря на его запрет, и возмущенный поражением своего родственника, он приходит в страшный гнев, услышав, что Креки хвастается друзьям, что, мол, «попробовал савойской королевской крови». Герцог посылает брату письмо, где заявляет, что не желает больше видеть его, пока тот не исправит положение, и что он должен снова бросить вызов Креки, как только оправится. Что ж, по устранении некоторых предварительных затруднений решено, что следующая дуэль состоится под Сен-Андре, в Савое, неподалеку от реки Рон. Со стороны месье де Креки четверо уважаемых людей — сиры дю Пассаж, де Морж, д'Ориак и Дизимьо — ручаются, что бой будет проводиться честно и без вмешательства, а со стороны дона Филиппа то же самое заявляют сиры маркиз де ла Шамбр, барон де ла Серра, Дегей и де Монферран. В качестве секунданта дона Филиппа выступает месье д'Аттиньяк, а Креки — месье де ла Бюисс. Условия таковы: дуэлянты будут сражаться пешими, в одних рубашках, на рапирах и кинжалах, секунданты не должны их разводить, и от каждого из дуэлянтов на почтительном расстоянии должны лежать по двенадцать человек для того, чтобы унести его тело, если он будет убит. Секунданты каждого из дуэлянтов осматривают противников, чтобы убедиться в отсутствии тайного доспеха. Д'Аттиньяк, разумеется, прибывает к Креки, а чтобы вернуться на поле боя, им надо переправиться через реку в лодке. На том берегу их уже ждут дон Филипп и ла Бюисс, и когда прибывшие ступают на берег, последний не может сдержать возгласа: — Это наш день! — Что ж вы такого плохого обо мне мнения? — холодно вопрошает его дон Филипп. — Что вы, о вас я прекрасного мнения, но сейчас вам предстоит иметь дело с самым яростным клинком во всей Франции! Бой начался. У Креки, пожалуй, есть некоторое преимущество в плане освещения, но дон Филипп атакует столь стремительно, что кажется, исход схватки в пользу последнего неизбежен. Однако Креки очень ловок в защите и так хорошо использует моменты, когда противник открывается, что успевает трижды ударить его рапирой, не получив при этом ни царапины, и наконец протыкает соперника насквозь. Тот падает ничком. Креки подскакивает к поверженному и под угрозой кинжала призывает сдаться. Этого гордый дон Филипп позволить себе не может, но секундант его, д'Аттиньяк, выкрикивает от своего лица просьбу сохранить жизнь проигравшему, что Креки с удовольствием и выполняет. Победитель пытается поднять дона Филиппа с помощью ла Бюисса, а опытный хирург по имени Лион, которого специально привезли на дуэль, делает все, что может, — но тщетно. Рана оказалась столь тяжелой, что несколько минут спустя побежденный умирает. Мучимый угрызениями совести за то, что заставил брата возобновить давнишнюю ссору, герцог Савойский отправляет посланника с запретом на дуэль, но тот прибыл лишь через два часа после того, как все было кончено. Глава 13О кинжале Согласно современным представлениям, кинжал воспринимается исключительно как орудие тайного убийцы, а в тех странах, где им все еще пользуются, он является предметом обихода злодеев из низших классов. Однако в XVI веке и ранее кинжалы в открытую носили все от мала до велика, и это был весьма полезный атрибут одежды каждого. Его редко использовали как одиночное оружие в серьезных схватках, хотя есть несколько записей и о таких случаях, но часто, очень часто его выхватывали из ножен при внезапной вспышке ярости, и мастера в те времена не пренебрегали обучением владению этим оружием, как показывают дошедшие до нас труды некоторых из них — «Fechtbuch» Тальхоффера, манускрипт XV века, несколько лет назад воспроизведенный в Праге; «Opera Nuova» Мароццо, которую Гелли относит к 1517 году, и любопытная работа Иоахима Мейера, опубликованная в Страсбурге в 1570 году. Работе кинжалом обучали иногда как одиночным оружием, то есть в отсутствие какого бы то ни было защитного дополнения, например щита или плаща, — в этих случаях оружие часто перебрасывали из руки в руку, а бывало, и прятали обе руки за спиной одновременно, чтобы противник не знал, с какой стороны сейчас будет нанесен удар. В других же случаях кинжал использовали в паре с защитой в виде плаща, щита-баклера или второго кинжала. Кинжал того периода, о котором мы говорим, имел мощный и достаточно толстый клинок, грубо обобщая — около двенадцати дюймов длиной, обоюдоострый и очень остро отточенный. Ввиду короткой длины это было крайне опасное оружие для серьезных поединков, потому что его ударная дистанция оказывалась достаточно близкой для осуществления захватов, и бой принимал очень грязный характер, превращаясь в полуборьбу-полубойню. Подловив противника на вытягивании вооруженной руки вперед, полагалось нанести по этой руке сильный удар кинжалом, а затем распорядиться покалеченным врагом по своему усмотрению. Могло иногда случиться так, что какой-нибудь задира в таверне обнажал кинжал против безоружного — но и это предусмотрели мастера, обучавшие своих последователей различным способам обезоруживания противника, в частности рискованному приему хвата рукой за лезвие с последующим выкручиванием оружия; впрочем, это оказывалось вполне выполнимым в прочной перчатке, особенно если кинжал был не слишком острым, какими часто оказывались кинжалы трактирных забияк, слишком ленивых, чтобы следить за своим оружием. Правда, на этот случай некоторые из особо предусмотрительных рубак оснащали лезвия своих кинжалов зубцами, направленными к рукояти, и руку, опрометчиво схватившуюся за такую пилу, разрывало в лохмотья. Пришел черед перчаточников внедрить техническое новшество в ответ — им оказалась кольчужная вкладка на ладони перчаток, надежно защищавшая руку и заодно обламывавшая зубцы на кинжале. Или еще — специальным образом сделанный хитро сбалансированный кинжал можно было метать, держа за лезвие, так что в полете он разворачивался и по самую рукоять втыкался в противника. Это был известный прием, поэтому зачастую его использовали и в качестве обманного финта, когда у бойца выбивали шпагу, и надо было на мгновение отвлечь противника, чтобы получить возможность подобрать ее. 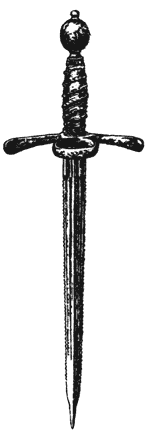 Кинжал с зазубренным лезвием Великий любитель фехтования елизаветинской эпохи Джордж Сильвер в своих «Кратких инструкциях» описывает следующие приемы владения кинжалом: «Об использовании одиночного кинжала против аналогичного оружия. 1. Прежде всего, знайте, что с этим оружием не годятся защиты или захваты, но против того, кто столь безрассуден, что будет пытаться нанести другому колотые раны в лицо или тело, вы можете использовать левую руку для сбивов в сторону или для выполнения подсечки после нанесения удара. 2. В бою на кинжалах вы должны использовать непрерывное движение, чтобы противник не имел возможности подойти вплотную или выполнить захват (ваши непрерывные движения лишают оппонента его правильного положения, что позволяет ранить его с большой степенью безопасности для вас). 3. Способ управления вашим непрерывным движением такой: держитесь вне дистанции удара или укола в кисть, руку, лицо или корпус противника, который будет напирать на вас. Если противник отражает удар или укол кинжалом, атакуйте кисть. 4. Если противник делает выпад ногой вперед, наносите удар в ту часть, которая первой окажется в зоне досягаемости, помня, что вы должны использовать непрерывное движение в своих продвижениях вперед и назад, согласно парным правилам. 5. Хотя бой на кинжалах является очень опасным видом боя, по причине короткой длины и единственности кинжала, тем не менее, если вести бой, как сказано выше, он будет настолько же безопасным для вас, как и с любым другим оружием» [35]. Кинжальный удар Бенвенуто ЧеллиниОдного римского юриста по имени Бенедетто Тоббиа образ жизни сделал другом Бенвенуто Челлини; однако некоему Феличе, бывшему на тот момент партнером Челлини, он задолжал денег за какие-то купленные у него кольца и тому подобные побрякушки. Феличе хотел получить свои деньги, а Бенедетто предпочитал, чтобы они полежали у него. Из-за этого они как-то раз поругались, а поскольку Феличе был в тот момент с друзьями, они прогнали юриста, чем очень сильно его разозлили. Чуть позже он явился в магазин Челлини, почему-то решив, что художнику все известно о ссоре, и, когда Челлини с обычной любезностью поздоровался с ним, ответил ему крайне грубо. 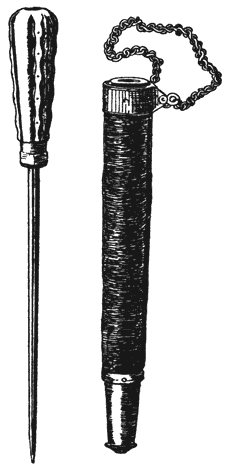 Малый кинжал, или стилет — Дорогой синьор Бенедетто, — сказал ему Челлини, — почему вы так сердиты на меня? Я ничего не знаю о ваших разногласиях с Феличе; ради бога — вернитесь к нему и покончите с этим, а ко мне не приставайте, не буду я этого терпеть. Синьор Бенедетто совсем вышел из себя и заявил, что все Челлини знал и что оба они, и Челлини, и его партнер, — просто пара мерзавцев. Тем временем собралась толпа зевак, нашедших себе бесплатное развлечение. Разозленный грубостью, Челлини нагнулся, набрал пригоршню грязи и бросил Бенедетто в лицо; тот внезапно ссутулился, и брошенное пришлось ему не в лицо, а в макушку. Да вышло еще так, что Челлини, сам того не ведая, зачерпнул вместе с грязью и камень с острыми краями, который не только оглушил Бенедетто, но и сильно порезал, так что тот свалился наземь без чувств, истекая кровью. Вся толпа зевак решила, что Бенедетто убит, и его уже хотели было поднять и унести, но тут мимо проходил ювелир по имени Помпео, сварливый малый, страшно завидовавший Челлини. Он стал спрашивать, что тут случилось, кто и кого убил. Ему ответили, что это Бенвенуто уложил человека одним ударом. Помпео усмотрел в случившемся прекрасную возможность подпортить конкуренту жизнь. Он как раз направлялся к папе римскому по делам и, добравшись до его святейшества, тут же донес: — Пресвятой отец! Бенвенуто только что убил синьора Бенедетто Тоббиа, я видел это собственными глазами. Папа пришел в гнев и приказал присутствовавшему там же наместнику поймать Челлини и тотчас же повесить на том самом месте, где произошло убийство. Однако последнего успели заблаговременно предупредить, и он, позаимствовав у друга коня, бежал в Паломбару, под покровительство одного из своих патронов. Папа Климент послал также камергера, чтобы тот навел справки о синьоре Бенедетто, и тот вскоре вернулся с известием, что застал того за работой у себя в мастерской и что с ним все в порядке. Услышав это, папа повернулся к Помпео со словами: — Ну и негодяй же вы! Уверяю вас, что вы расшевелили змею, которая еще как ужалит вас — и поделом! У Челлини дела пошли столь хорошо, что он забыл и о своей ссоре с Бенедетто, и о злой шутке, которую сыграл с ним Помпео. Предоставим далее слово ему самому. «Однажды, — рассказывает Челлини, — я, как обычно, надел кольчугу, вооружился шпагой и кинжалом и отправился туда, где мы с друзьями собрались встретиться и повеселиться. Пока все подтягивались, откуда ни возьмись, появился Помпео, а с ним еще с десяток человек, все они были хорошо вооружены. Поравнявшись с нами, Помпео внезапно остановился, как будто хотел меня о чем-то спросить. Друзья стали делать мне знаки, чтобы я смотрел в оба. Я на секунду задумался и решил, что если я обнажу шпагу, то в результате могут пострадать многие из тех, кто мне дорог и кто не имеет никакого отношения к нашей ссоре, поэтому лучше взять весь риск на себя. Глядя на нас, Помпео стоял так долго, что можно было два раза прочесть «Аве Мария», затем презрительно засмеялся, развернулся на пятках, сказал что-то своим спутникам, и все вместе ушли, смеясь. Мои друзья хотели было вмешаться, но я сказал им, что раз уж я нашел себе неприятности, то я мужчина и справлюсь с ними сам, и настоял, чтобы друзья против воли разошлись по домам. Однако один из них, мой лучший друг Альбертачио дель Бене, замечательный молодой человек, наотрез отказывался уходить, упрашивая разрешить ему отправиться вместе со мной. Я ответил: — Дорогой мой Альбертачио! Возможно, мне уже скоро понадобится твоя помощь, но в этот раз я умоляю тебя оставить меня, как все остальные, потому что мне надо торопиться. Помпео со своими спутниками тем временем уже ушли, я отправился в погоню и обнаружил, что он зашел в магазин какого-то аптекаря, где, завершив свои дела, о чем-то активно рассказывал, а судя по лицам слушавших, было ясно, что хвастался он тем, какую обиду только что мне нанес. Вооруженные друзья его тем временем разошлись, и подойти к нему стало проще. Я вынул свой маленький острый кинжал, набросился на него и ударил в грудь, а затем — в лицо, ибо я не хотел его убивать, а лишь изуродовать. Но от страха хвастун отвернулся, удар пришелся ему под ухо и свалил его замертво к моим ногам. Я перебросил кинжал в левую руку, а правой выхватил рапиру, приготовившись защищать свою жизнь; но ни один из храбрецов Помпео не удостоил меня своим вниманием — все они бросились к упавшему. Так что я тихо ускользнул и, встретив своего друга золотых дел мастера Пилого, все ему рассказал. Он ответил мне: — В жизни не бывает ничего непоправимого. Придумаем, как тебе помочь. И мы пошли к дому Альбертачио, который радушно меня принял, а вскоре туда же кардинал Корнаро прислал на мою охрану отряд в тридцать человек, вооруженных алебардами, пиками и аркебузами, — они проводили меня во дворец своего хозяина. Когда о случившемся доложили папе Клименту, он заметил: — О смерти Помпео мне ничего не известно; зато мне известно, что у Бенвенуто были веские причины ударить его, — и с этими словами собственноручно подписал мне охранную грамоту. Присутствовавший при этом миланец мессир Амброжьо, покровительствовавший в последнее время Помпео и близкий к папе человек, выразил мнение о неуместности проявления милосердия в данном случае, но его святейшество ответил: — Вы не знаете сути дела, а я — знаю, и не знаете вы и о том, какие провокации пришлось пережить Бенвенуто. К тому же, по моему мнению, столь выдающийся уникальный художник, как он, должен находиться выше любых законов». Странный бой корсиканских солдатОб этих сильных парнях, о том, как они поссорились и решили выяснить отношения у барьера, нам повествует Брантом. По их уговору, доспехами в этом поединке должны были служить кольчуги без рукавов, надетые поверх простых рубашек, и стальные шлемы-морионы. Тот счастливчик, которому выпало право выбора оружия, в страхе перед физической силой и борцовскими навыками своего соперника, выдвинул необычное требование: он захотел, чтобы кинжалы, должным образом заточенные, были закреплены на шлемах острием вперед и чтобы помимо этого затейливого устройства у сражающихся больше не было оружия, кроме шпаги. Отдав должное принятым церемониям, дуэлянты приступили к работе. После безрезультатного, ибо оба были опытными фехтовальщиками, обмена мощными ударами более сильный из соперников ворвался в ближний бой, захватил соперника и бросил его. Однако тот, хоть и был более слабым, настроен был решительно. Он вцепился в противника, и оба упали, причем бросающий при падении ухитрился сломать руку, что значительно снижало его силовое преимущество. В борьбе оба потеряли шпаги, а другого оружия, кроме клювообразных кинжалов на шлемах, у них не осталось. Оба, как могли, боролись и клевали друг друга этими кинжалами, как две диковинные птицы, так что лица, шеи и открытые руки их вскоре оказались исколотыми и изрезанными до неузнаваемости. Так они терзали друг друга, напоминая скорее диких зверей, нежели христиан, пока не упали рядом друг с другом от усталости и потери крови, не в силах шевельнуть ни рукой ни ногой. В этом состоянии секунданты растащили их по домам, бой остался без победителя, и ни один из дуэлянтов не смог продемонстрировать ни доблести, ни мастерства, ни великодушия. Весьма прискорбно, что такой зверообразный бой вообще был разрешен, поскольку он стал позорным пятном на репутации такого рыцарственного явления, как дуэль. Дуэль сира де ла Роке и виконта д'АллеманяШестидесятилетний сир де ла Роке и виконт д'Аллемань, которому было где-то около тридцати, были близкими соседями, и это обстоятельство часто приводило к ссорам между ними. Сложилось так, что некоторые деревни оказались под их совместным управлением, то есть оба имели в этих местах равное право сеньората, и, собственно, портить отношения начали даже не они сами, а их управляющие. Как раз такую сцену приводит в «Ромео и Джульетте» Шекспир. Слуги враждующих семейств — Монтекки и Капулетти — встречаются на улице и начинают ссориться, вместо того чтобы оставить это дело для своих хозяев. После недолгой предварительной перебранки Грегори заявляет: «— Вы желаете завести ссору, синьор? — Если вы желаете, синьор, то я к вашим услугам. Я служу такому же хорошему хозяину, как вы. — Да уж не лучшему! — Нет — лучшему, синьор!» [36] И они вступают в драку. То же самое произошло и с нашими управляющими. Встретившись как-то раз в одной из таких деревень по делу, они страшно разругались из-за того, что каждый утверждал, что он, как представитель своего хозяина, должен иметь приоритет. Однако эти простолюдины не имели права носить меч, так что обошлись руганью да донесением каждый своему господину своей версии произошедшего. 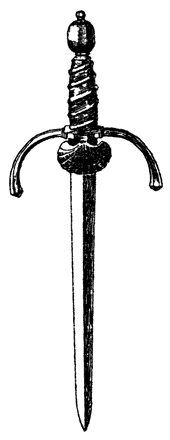 Кинжал, какой использовали в бою на рапирах Через некоторое время д'Аллемань, охотясь в лесу, встречается там с управляющим ла Роке, тоже выехавшим поохотиться. — Эй, бейлиф, что за дела? — с укором обратился к нему виконт. — Я слышал, ты тут утверждаешь свой приоритет над моим человеком? Не вздумай повторить этой попытки или я тебе все зубы выбью! Управляющий, не будь дураком, тут же доносит о произошедшем своему хозяину, добавляя, что месье д'Аллемань грозился надавать по зубам не только самому бейлифу, но и его хозяину, великому ла Роке. От последнего обвинения сам д'Аллемань яростно отпирался, уверяя, что никому, кроме управляющего, не грозил. И друзья ла Роке убеждают того, что вполне заслуженная угроза д'Аллеманя относилась только к бейлифу. Но тщетно — того теперь может удовлетворить только вызов виконта на дуэль. Так этот несчастный пожилой господин, давно переживший тот возраст, в котором годится драться на дуэлях, и так уже стоя одной ногой в могиле, сам приблизил свою кончину, решившись на предприятие, исход которого, ослепленный яростью, видел только в свою пользу. Он приобрел два кинжала и, встретив как-то раз д'Аллеманя на улице в Эйсе, обратился к нему: — Вы молоды, а я стар; в бою на рапирах у вас будет передо мной слишком большое преимущество. Так выберите же себе один из этих кинжалов, и я требую сатисфакции за нанесенную мне обиду! Д'Аллемань не отказывается от предложения. Взяв в секунданты молодого Салерня (секундантом ла Роке был сир де Ван), они покидают город и спускаются в ров, который был в то время осушен. Секунданты отходят в сторону, а ла Роке обращается к д'Аллеманю с призывом дать ему левую руку. Они берутся за руки и тут же начинают работать кинжалами: старик ударяет противника в корпус, а сам получает клинок по рукоять в горло и падает замертво. Сопернику же его удается прожить еще ровно столько, чтобы успеть разнять секундантов, которые тем временем тоже подрались и успели получить тяжелые ранения, после чего он последовал за своим противником в мир иной. Бой на двух кинжалахКинжал считался оружием рыцарским, поэтому ему нельзя было отказать в праве быть орудием дуэли. Правда, любителей носить с собой по два кинжала было не больше, чем носящих по два меча, но один такой случай Брантом нам все же приводит. Граф Мартинельо был великим воином, и его подвиги на войнах заслужили ему хорошую репутацию, однако помимо этого, увы, он был жестоким и бессовестным хулиганом. У него возникли какие-то противоречия с одним господином из Брешиа, не последним человеком в городе; граф много раз пытался вызвать его на бой, но тот подобного стремления не разделял и всегда уклонялся. Отчаявшись выманить своего противника на дуэль, граф твердо решил убить его каким угодно образом. Он нанял двух солдат, таких же отъявленных головорезов, как и он сам, втроем они заявились средь бела дня к тому господину домой и без всяких церемоний зарезали его. Затем тихо вышли, сели на заранее приготовленных коней и, прежде чем представители власти и родственники убитого успели пуститься в погоню, бежали в Пьедмон, где граф предложил свои услуги королю Генриху II Французскому, который с удовольствием их принял. Понятно, что после происшедшего несколько человек из числа родственников и друзей убитого брешианина возжелали встречи с графом. Одному из них, итальянскому командиру, чье имя, похоже, выпало из памяти месье де Брантома, повезло, или, вернее, как мы увидим дальше, не повезло, такой встречи добиться. Она произошла на мосту над рекой По, который, похоже, специально строили для таких встреч. В какой-то из предыдущих стычек командир повредил себе левую руку, поэтому он поставил условие, чтобы оружием в бою служили кинжалы, по одному в каждой руке, а левые руки обоих были бы заключены в «brassards a la Jarnac» — то есть в сплошные латы без гибких сочленений, так чтобы рука могла двигаться только в плечевом суставе. Это был редкий вид доспеха, и граф, как и Шастеньере, мог бы отказаться от него, но, как и тот же Шастеньере, Мартинельо был из тех, кто не боится ни человека, ни дьявола, и он сказал: — Да это не имеет значения; хочет свои латы — пусть будут. И это действительно не имело значения, по крайней мере для самого графа, который после нескольких первых ударов, уходов и уклонов воткнул один из своих кинжалов прямо в сердце противника, увенчав себя славой новой победы. Если бы мы писали художественный рассказ, то теперь следовало бы сообщить о том, что этого жестокого убийцу и злобного дуэлянта ждал суровый конец, что он был повешен, утоплен, четвертован или колесован, сожжен на костре или подвергнут другой подобной лютой казни, — но мы имеем дело только с историческими фактами, так что приходится признать, что он принял славную смерть на поле боя при осаде Ла-Шарите, храбро сражаясь на службе у своего венценосного господина. Глава 14Веселая шутка Длинной Мег из Вестминстера, и как она с мечом и баклером победила испанского рыцаря «Во времена достопамятного Генриха VIII в семье весьма достойных людей родилась дочка, получившая впоследствии за высокий рост кличку Длинная Мег, ибо она не только была выше всех в своей земле, но и столь пропорционально сложена, что казалось, что это высокий мужчина в женском обличье. Достигнув восемнадцати лет, Мег отправилась в Лондон, чтобы служить там и набираться городских привычек. Друзья отговаривали ее, но, раз приняв решение, она от него уже не отказывалась. Она отправилась в путь с перевозчиком по имени Папаша Уиллис и еще тремя-четырьмя такими же девушками, которые тоже ехали в Лондон искать себе работу. Перевозчик запряг лошадь, усадил девиц и стал думать, куда бы их пристроить. Он вспомнил, что хозяйка Игла в Вестминстере уже несколько раз говорила ему, что ей нужна служанка, и он направил свой экипаж через поля к ее дому. Хозяйка сидела дома и распивала в компании с испанским рыцарем по имени сэр Джеймс Кастильский, доктором Скелтоном и Уиллом Сомерсом. Перевозчик сообщил хозяйке, что привез в Лондон трех девиц из Ланкашира, а памятуя, что она частенько высказывала пожелание иметь служанку, привез девушек к ней на выбор. Так Мег была принята на службу.  Обоюдоострый меч Сэр Джеймс Кастильский очень старался завоевать любовь хозяйки, но чувства той были расположены к доктору Скелтону, так что сэр Джеймс не удостаивался ни единого знака внимания. Тогда он поклялся, что узнай он только, кто любовник хозяйки, как тут же проткнет его рапирой. В ответ хозяйка, большая любительница поразвлечься, подговорила Длинную Мег переодеться мужчиной и выйти со шпагой и баклером на бой с сэром Джеймсом на поле Святого Георгия, пообещав в случае победы подарить ей за труды новую юбку. — Так, — завелась Мег, — дьявол меня побери, если я упущу случай получить новую юбку! На этих словах хозяйка вручила ей костюм из белого атласа, какие носили охранники в доме. Мег надела его, повесила кинжал на бок и ушла в поле Святого Георгия на встречу с сэром Джеймсом. Вскоре к хозяйке явился сам сэр Джеймс и обнаружил ее в весьма меланхоличном настроении, ведь у женщин в арсенале есть лица на все случаи жизни. — Что с вами, счастье мое? — спросил он. — Откройтесь мне! Мужчина ли какой вас обидел? Будь он хоть самым известным бойцом в Лондоне, я отделаю его, и он будет знать, что сэр Джеймс Кастильский накажет любого наглеца! — Сейчас я узнаю, любите ли вы меня! — ответила дама. — Один мерзавец в белом сатиновом камзоле сегодня утром чудовищными словами оскорбил меня, и некому было за меня постоять! Он ушел и сказал, что если найдется боец, чтобы его обвинить, то пусть приходит на поле Святого Георгия, если посмеет. Сэр Джеймс! Если вы хоть когда-то любили меня, проучите негодяя, и я отдам вам все, что вы только пожелаете! — С превеликим удовольствием! — ответил тот. — Ступайте же со мной, чтобы лицезреть воочию, как я разделаюсь с негодяем, и вы, уважаемый доктор Скелтон, тоже будьте свидетелем моего мужества! И вот все трое явились на поле Святого Георгия, где Длинная Мег разгуливала меж ветряных мельниц. — Вот он, тот деревенщина, что оскорбил меня! — сказала хозяйка. — Что ж, госпожа моя, идите за мной! — ответил сэр Джеймс. — А я иду к нему. По мере их приближения Мег начала готовиться, сэр Джеймс тоже, но тут Мег сделала вид, что собирается уходить. — Погоди! — крикнул сэр Джеймс. — Я рыцарь этой прекрасной дамы, и сейчас я отделаю тебя в ее честь! Мег ничего не ответила, а лишь обнажила меч, и они приступили. Сначала Мег задела его руку. Рана была легкой, но, помимо этого, она несколько раз чуть не попала по нему и заставила рыцаря отступать, преследуя его с таким пылом, что ей даже удалось выбить оружие из руки сэра Джеймса. Увидев, что противник безоружен, она подошла к нему вплотную и, обнажив кинжал, поклялась, что теперь ничто в мире его не спасет. — О, сэр, пожалейте меня! — запричитал Джеймс. — Я рыцарь, а спор у нас всего лишь из-за женщины, так не пролейте же моей крови! — Будь здесь хоть двадцать рыцарей с самим королем во главе, они не спасли бы тебе жизнь, — грозно ответила Мег, — если бы ты только не выполнил одно мое желание. — Что же это? — взмолился сэр Джеймс. — Сегодня за ужином в доме этой женщины ты будешь прислуживать мне, а после ужина признаешь на всех землях Англии, что я лучше тебя владею оружием. — Да, сэр, я сделаю это, — охотно согласился тот, — ведь я же истинный рыцарь! На этом и разошлись, и сэр Джеймс отправился домой вместе с хозяйкой, сокрушаясь по дороге, что противник ему достался самый крепкий во всей Англии. Вот и ужин готов. Пришли сэр Томас Мур и еще несколько джентльменов, специально приглашенные доктором Скелтоном для того, чтобы посмеяться над рыцарем. Увидев приглашенных, сэр Джеймс попытался сделать хорошую мину и заранее рассказал сэру Томасу Муру обо всем, что произошло, — как он узнал об обиде, нанесенной хозяйке, как сражался с отчаянным придворным джентльменом, как потерпел поражение и как обещал прислуживать ему сегодня за столом. Сэр Томас Мур ответил на это, что нет ничего постыдного в том, чтобы потерпеть поражение от истинного английского джентльмена, ведь англичане отбросили в свое время и самого Цезаря! В тот самый момент, когда господа обсуждали достоинства англичан, в зал вошла Мег в мужской одежде. Как только она показалась в дверях, сэр Джеймс указал на нее Томасу Муру: — Вот тот английский дворянин, о чьей доблести я говорил и чье превосходство я целиком и полностью признаю. 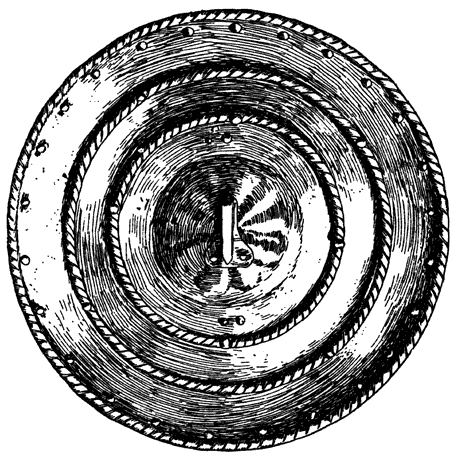 Круглый щит-баклер — Да, сэр, — добавила к этому Мег, снимая шляпу, так что волосы упали ей на плечи, — это именно тот, кто сегодня нанес ему рану, — Длинная Мег из Вестминстера, добро пожаловать! Все собравшиеся расхохотались, а сэр Джеймс был просто изумлен, как это женщина смогла так задавить его в бою. Однако ему пришлось сначала посмеяться вместе с остальными, а затем весь ужин прислуживать девушке, которой госпожа позволила сегодня быть хозяйкой вечера, так что под общий смех сэр Джеймс изображал из себя примерного пажа, а Мег — ее величество. Так сэр Джеймс подвергся бесчестью из-за безответной любви, а Мег стали считать достойной женщиной». Глава 15О парных, или «близнецовых», рапирах Носить с собой две шпаги одновременно было для дворянина XVI века так же странно, как и цеплять два кинжала на пояс или опираться на два посоха при ходьбе. Но все же на протяжении более сотни лет это причудливое парное оружие защитно-наступательного характера считалось «рыцарским», следовательно, отказываться от дуэли на нем было нельзя, если таков был выбор того, кто имел на это право. Итак, этот набор представлял собой пару прямых обоюдоострых шпаг средней, примерно равной, длины, имевших лишь с одной стороны защитную чашу и кольца. Их носили вместе в одних ножнах. Естественно, что таскать на себе всю эту громоздкую конструкцию было очень неудобно, так что нес ее в случае необходимости оруженосец, если речь шла о дуэли a la mazza — то есть о частном поединке в некоем укромном месте, или секундант, если был официальный вызов по всем правилам. Большинство благородных господ, конечно, пренебрегали обучением владению столь редко встречающейся разновидностью оружия, но только не мастера фехтования. Они обучали, читали по нему наставления, растолковывали принципы обращения с этим оружием в своих печатных работах и очень серьезно убеждали своих учеников уделять ему время и силы, поскольку знакомство с этим редким оружием могло дать немалые преимущества в определенных серьезных случаях. Если к этому относиться как к игре для фехтовального зала, то бой на парных рапирах представляет еще больший интерес, чем живописный поединок с рапирой и кинжалом. В последнем случае боец, имея в одной руке оружие длинное, а в другой — короткое, вынужден на протяжении всего боя держать либо право-, либо левостороннюю стойку, а когда речь идет о двух рапирах одной, средней, длины, то фехтовальщик может в любой момент сменить стойку, не перекладывая оружия из руки в руку, и заставить таким образом противника тоже сменить стойку, причем против собственной воли. Великолепный пример фехтования на парных рапирах был представлен в Театре принца Уэльского 15 мая 1896 года с мистером У.Х. Верноном в роли Меркуцио и мистером Фредериком Вольпе в роли Тибальта, в то время как миссис Эсме и Вера Беринджер замечательно изобразили Ромео и Джульетту. Как сиры де Сарзе и де Веньер сразились на парных рапирах, и что с ними произошлоВ 1537 году, в царствование Франциска I, произошла ссора, участниками которой стали четверо: сир де Сарзе, сир де ла Тур, сир де Гокур и сир де Веньер. Началось с того, что Сарзе сгоряча бросил в адрес ла Тура, что в битве при Павии, которая окончилась для короля Франциска крайне неудачно, тот позорно бежал. Ла Тур призвал обидчика к ответу за свои слова перед лицом его величества. Сарзе не стал отпираться от того, что говорил, но добавил, что сам услышал эту историю от месье де Гокура. За последним тут же послали, и ла Тур призвал бы к ответу и его, но не успел он и слова вымолвить, как Сарзе закричал Гокуру: — Ведь это вы сказали мне, что ла Тур сбежал с поля боя? Гокур попытался хитрить и изворачиваться, но наконец сдался: — Да вы же сами сказали мне, что слышали это от Веньера! И это Сарзе пришлось признать, после чего Гокур стал настаивать на том, что, раз Сарзе сам сознался, что услышал сплетню от совсем другого человека, то, стало быть, ему, Гокуру, как человеку совершенно непричастному к данному случаю, делать здесь больше нечего. Король не мог с этим поспорить и отпустил Гокура, призвав вместо него месье де Веньера. Когда тому объяснили суть дела, он сразу же резко объявил Сарзе лжецом. Для Сарзе ситуация стала совсем угрожающей, к тому же по ходу дела выяснилось, что ни один из троих любителей опорочить потехи ради чужое честное имя даже близко не был с битвой при Павии, а все они сидели дома, попрятавшись по своим имениям, вместо того чтобы в тяжелый час быть в Италии рядом со своим сюзереном, так что никто из них вообще не имел права рассуждать о том, кто в той битве сражался, а кто — бежал. Само обвинение, выдвинутое против ла Тура, король Франциск презрительно отмел, а вот Сарзе и Веньеру приказал сразиться у барьера, чтобы стало ясно, кто из них лжет. Настает назначенный день, арена для поединка в городе Мулин готова, командует боем лично его величество. Экипировку для сражения выбирает Веньер: из доспехов это латы с длинным набедренником, хорошо закрывающим живот и бедра, кольчужные рукава и латные рукавицы, шлем-морион; из оружия — обоюдоострая шпага в правой руке и такая же, на дюйм-другой короче, — в левой, то есть именно парные рапиры плюс, разумеется, стандартный кинжал в ножнах на боку. Со всем этим секунданты — сир де Бонваль со стороны Веньера и сир де Вильбон со стороны Сарзе — вводят их на арену. По завершении всех церемоний герольд выкрикивает установленный сигнал к бою.  Парные рапиры Современный ценитель исторического фехтования прекрасно знает, что боец, прежде практиковавшийся только с рапирой и ее спутником кинжалом или плащом, будет поставлен в тупик, если ему вдруг придется сражаться на парных рапирах, из-за того что шпага, как защитный инструмент, оказывается гораздо тяжелее и длиннее, чем привычный кинжал. Не стали исключением и наши дуэлянты. Если бы им, как в свое время Шастеньере и Жарнаку, дали положенный, как это принято, месяц на подготовку к сражению, они бы обратились к известным мастерам за обретением навыков сражения столь сложным оружием. Но Франциск I дал делу такой спешный ход, что учиться было уже некогда. В общем, когда начался бой и дуэлянты стали обмениваться атакующими действиями, очень быстро стало видно, что ни тот ни другой совершенно не умеют обращаться с оказавшимся у них в руках оружием, причем поняли это не только зрители, но и сами бойцы — они отбросили парные шпаги и достали кинжалы с видимым намерением перейти в ближний бой. Однако король, решив, что с него довольно этого жалкого зрелища, бросает на арену свой жезл, прекращая тем самым дуэль. Сарзе и Веньеру приказано помириться, и они покидают поле боя, скорее потеряв, чем выиграв в отношении репутации, поскольку всем собравшимся уже ясно, что воинская доблесть обоих болтунов так же хромает, как и их христианская праведность. Репутация же еще одного присутствовавшего на дуэли господина, ла Тура, напротив, полностью восстановлена, поскольку король перед всем двором свидетельствует, что лично видел его в той битве храбро сражающимся бок о бок с монархом. Глава 16О дальнейших неблагоприятных последствиях опрометчивого указа Генриха II Французского Как мы уже видели, в рыцарские времена, в царствование Франциска I и его предшественников, было невозможным, чтобы дуэль, а вернее — combat à outrance [37] у барьера могла состояться без монаршего соизволения или, в крайнем случае, без разрешения вице-регента соответствующей провинции; видели мы и ту печаль, с которой горевал о своем любимце Шастеньере король Генрих II, под воздействием которой он торжественно поклялся, что никогда и никому больше, ни малым ни великим, не даст он такого соизволения. В результате, как мы тоже видели, поссорившиеся дворяне, получая отказ на просьбу встретиться в поединке на турнирной арене, где имелись бы все условия для проведения честного и благородного боя, удалялись вместо этого в некое укромное место в поле или в лесу, где и выясняли свои отношения не в рыцарских латах, а раздетыми до рубашек, на смертоносных рапирах и кинжалах. Видели мы, как это приводило к многочисленным случаям мошенничества на дуэлях, когда злодей, рассчитывая на честность своего противника, являлся на поле боя с кольчугой под рубашкой или приводил с собой банду громил, чтобы вместе разделаться с несчастным; поэтому необходимо стало приводить с собой на дуэль друзей, просто для того, чтобы не погибнуть от руки подобного мошенника. Теперь перед нами предстанет следующий виток порочной спирали: в прежние времена долгом секундантов было приложить все усилия к примирению спорщиков, а если это не удавалось — то проследить за тем, чтобы дуэль прошла как можно честнее; теперь же вместо этого секунданты, а также сочувствующие, которых брали с собой в большом количестве, тоже вступали в бой, хотя уж им-то точно нечего было делить. И сейчас мы расскажем о том, как родилась эта преступная традиция. Дуэль миньоновУ Генриха III, короля французского и польского, служили при дворе несколько молодых людей, чьи представления о морали были до крайности гибкими; наиболее выдающиеся из них были удостоены самых теплых чувств и близких отношений со стороны монарха. Те, кто не входил в этот тесный круг, нелицеприятно именовали этих молодых людей миньонами [38] его величества. Особенно покровительствовал король месье де Келюсу. Он происходил из знатного рода, отцом его был Антуан де Келюс, сенешаль и правитель Роверня, один из самых славных рыцарей ордена Святого Духа; но из всех добродетелей благородного отца сын унаследовал только храбрость в бою. И этот Келюс воспылал ревностью к сиру де Дюну, младшему сыну синьора д'Антраге, известному при дворе под уменьшительным именем Антрангет, образованным по тому же принципу, что и «Шарлот» от «Шарль». А этот Антрангет, надо заметить, был одним из любимых фаворитов знаменитого «Меченого», герцога Гиза. Между королевскими домами Гизов и Валуа имелись серьезные разногласия, что не могло не оказать влияния на чувства их приверженцев. Оба этих молодых человека были влюблены (или считали, что влюблены) в некую даму, которая была широко известна своей красотой, но не благонравием. Однажды вечером Келюс застал Антрангета выходящим из дома этой женщины и, сочтя случай подходящим, чтобы сказать сопернику какую-нибудь гадость, решил подразнить его: — Эй, Антрангет! Думаешь, ты один удостоился ее ласк? Поверь мне, есть еще множество других. Дурит тебя красавица! На что следует лаконичный ответ в таком же духе: — Брехня все это! И тут начинается беда. Как же, слово главного миньона главного короля в христианском мире поставили под сомнение! Такое оскорбление можно смыть только кровью. Так что Келюс доверяется двум другим миньонам своего августейшего повелителя — это Можирон, красавчик, к тому же отличающийся храбростью, и знаменитый Ливаро. Келюс рассказывает им, как клеврет Гиза посмел посягнуть на его честь, и что теперь надо бросить ему вызов; друзей же просит поприсутствовать при дуэли, дабы не допустить нечестных действий с противной стороны и выступить гарантами честного проведения поединка. Вызов брошен и принят Антрангетом с радостью, поскольку тот польщен возможностью оросить свой меч кровью ненавистных Валуа, не говоря уже о том, что и сам он лично обижен. В помощники он выбирает Риберака и Шомберга. Место поединка — парк де Турнель, где торговали лошадьми, время — четыре часа утра следующего воскресенья, чтобы вокруг не собралось слишком уж много зевак или торговцев лошадьми. Вот обе стороны явились на дуэль, люди Гиза, как видно, настроены здраво и в общем-то не против помириться. Риберак подходит к Ливаро и Можирону и говорит последнему: — Господин хороший, мне кажется, самое лучшее, что мы можем сделать, — это постараться, чтобы эти два господина пришли к взаимному согласию, и не дать им убить друг друга из-за такого пустяка. На что Можирон дерзко отвечает: — Бог с вами, Риберак! Я сюда пришел не серенады петь, а драться, и именно этим я и собираюсь заняться! Настроенный менее воинственно секундант Антрангета удивлен: — Можирон, да с кем вы-то тут собрались драться? Вы лично вообще не замешаны в ссоре, здесь вообще нет никого, кто был бы о вас дурного мнения! На что Можирон заявляет: — А вот с вами и буду драться! Не в силах более выносить высокомерие юного задиры, Риберак выхватывает оружие, но, предостерегающе подняв ладонь, говорит: — Погодите же! Вы настаиваете на том, чтобы драться со мной, — извольте, я не в силах вам отказать; но давайте же сперва вознесем молитву! — И с этими словами он складывает меч с кинжалом в виде креста, становится на колени и истово молится. Можирон в нетерпении осыпает молящегося бранью, утверждая, что тот молится слишком долго. Наконец Риберак поднимается, с оружием в руках набрасывается на противника и сразу же проводит тому сильный удар в корпус. Раненый шаг за шагом отступает, но Риберак не отстает, и вот Можирон падает. Однако в падении он выставляет вперед острие своей рапиры, несчастный Риберак напарывается на него и падает замертво. Можирон тоже умирает с ругательствами на устах. А что же сами дуэлянты? Келюс явился на бой с одной лишь рапирой; однако, видя, что Антрангет вооружен еще и кинжалом, требует, чтобы тот от него отказался, но противник возражает: — Это ты поступил глупо, что оставил кинжал дома; ведь оговоренное нами оружие — рапира и кинжал. Мы сюда пришли драться, а не обсуждать мелочи всякие! Келюс активно атакует и слегка задевает руку противника, но его собственная левая рука оказывается жестоко покалеченной в попытке парировать один из оборонительных ударов соперника. Антрангет вовремя атакует и вовремя уклоняется, не говоря уж о том, что наличие кинжала обеспечивает ему дополнительное преимущество, и ему удается несколько раз проткнуть противника, так что в конце концов тот зашатался и упал; Антрангет готов уже добить его, но Келюс, взмолившись, упрашивает удовлетвориться уже содеянным. Что же до двух оставшихся секундантов, то, увидев, что все их друзья уже дерутся между собой, Шомберг обращается к своему визави: — Дерутся уже все четверо: что нам делать? — подразумевая тем самым предложение разнять их. На что Ливаро отвечает: — Значит, и мы должны драться, во имя нашей чести! — что само по себе странновато, поскольку раньше секунданты никогда не дрались. — Со всей душой, — соглашается Шомберг, и они вступают в бой. Шомберг мощным «мандритто» срезает сопернику всю левую щеку, но Ливаро отвечает более чем достойно и протыкает немцу грудь, свалив его замертво, после чего сам падает в обморок от потери крови. Генрих III в отчаянии — у него было два любимых фаворита, и вот Можирон убит, а Келюс — при смерти. Король обещает тысячу франков врачу, который сможет исцелить его, а еще тысячу — самому Келюсу, дабы поднять его дух; но одна из полученных им ран была смертельной, так что врачи оказались бессильны. Смерь Келюса погружает короля в беспросветную печаль, он вынимает из ушей покойного собственноручно вдетые в них когда-то серьги и, приказав срезать ему волосы, сохраняет их как реликвию. Кроме того, Генрих запрещает любые дуэли в своей стране под страхом разжалования и смертной казни; в Париже он воздвигает храм Святого Павла с превосходными мраморными скульптурами обоих погибших и выражает свою скорбь по ним самыми необычными способами. Почти все действующие лица только что описанной драмы умирают. Келюс и Можирон погибли сразу; добрый Риберак умер от ранения в гостинице де Гиза, куда его доставили после боя. Антрангет, отделавшийся легким ранением руки, предусмотрительно бежал от гнева монарха, который, несомненно, укоротил бы удачливого дуэлянта на голову, попадись тот ему в руки. О немце Шомберге мы больше ничего не слышали, видимо, он встретил свою смерть на острие рапиры Ливаро. Самого же беднягу Ливаро срезанная Шомбергом щека начисто лишила былой красоты, и Генрих, который всегда предпочитал красавчиков, охладел к нему, так что тому пришлось искать новых развлечений, и, похоже, он нашел их, потому что два года спустя после той ужасной тройной дуэли он встретился с маркизом де Мальере, и сейчас мы увидим, чем это кончилось. Смерть ЛивароМесье маркиз де Мальере, старший сын месье де Пьенна, только что вернулся из Италии, куда ездил завершать свое образование и где изучал, помимо прочего, искусство владения «множеством видов оружия», особенно, конечно, самым популярным набором — рапирой и кинжалом, которыми он научился орудовать с выдающейся ловкостью и искусством. Он сразу же является ко двору, где встречает, как и следовало ожидать, теплый прием. Однажды на балу случилось ему поссориться с нашим старым знакомым, синьором де Ливаро, — по серьезному ли поводу или просто по gaieté de coeur [39] — не упоминается. Ливаро еще со времен знаменитой дуэли миньонов весьма гордится своей репутацией mauvais garçon — плохого парня — и считает, что перед ним не может устоять ни мужчина, ни женщина; в общем, к соседям своим он испытывает уже нечто вроде презрения. Воспылав страстью к некоей придворной даме, он столь ревниво стал на страже ее красоты, чести и богатства, что никого к ней просто не подпускал. Маркиз же, красивый и смелый молодой человек в возрасте примерно двадцати лет, узнав об этом, отваживается заговорить на балу с упомянутой дамой. Ливаро в своей высокомерной манере отвечает вместо нее, причем ответ выходит столь оскорбительным для Мальере, что тот вспыхивает, кг к сноп сена, требует удовлетворения, и они договариваются о встрече на следующий день один ни один, не беспокоя никого из друзей, на небольшом островке посреди реки, возле города Блуа. Утром они верхом отправляются на условленное место; с ними нет никого, кроме слуг. Сам бой длится недолго: после пары первых движений маркиз, демонстрируя свою итальянскую выучку, одним из хитрых ударов укладывает фехтовальщика, пережившего дуэль миньонов, теперь уже навсегда. Однако и победитель тут же принимает коварный удар от подлой руки слуги Ливаро. Этот человек хоть и был простолюдином, но все же имел представление о владении шпагой и скрыто принес ее на дуэль (по своей воле или по хозяйскому наущению — не известно); за спиной у маркиза он обнажает ее, протыкает Мальере насквозь. Заметим с удовлетворением, что этот бесчестный поступок был замечен, слугу поймали и живо вздернули, дав ему лишь сказать в свое оправдание, что это была месть за смерть доброго хозяина. Глава 17К чему привела дуэль миньонов Из предыдущей главы мы знаем, как после, смерти Келюса, Можирона и остальных членов своей команды недоброй памяти монарх издал указ, запрещающий любые дуэли на всей территории своего доминиона под страхом смерти и прочих неприятностей. На деле же получилось, что он сам же и превратил свои угрозы в насмешку, ибо воздвиг мраморные памятники тем, кто погиб именно на дуэлях, да еще с подробным описанием выдающихся доблестей и славных подвигов этих героев. В общем, почести, возданные этим миньонам, и чувства, демонстрируемые по отношению к ним монархом, вкупе с созданной им репутацией более чем подтолкнули множество преданных, но легкомысленных королевских подданных к тому, чтобы последовать их примеру, и никакие угрозы монарха не могли их от этого удержать, ибо все здраво полагали, что истинные чувства повелителя все же на стороне дуэлянтов. Молодой барон де Бирон, который впоследствии, при Генрихе Великом, станет в силу множества своих достоинств маршалом Франции, был любимцем герцога д'Эспернона, сменив на этом посту месье де Келюса. Бирону нравилась наследница Комон, молодая дама, чье чрезвычайно богатое состояние делало ее предметом увлечения многих молодых людей; однако эта золотая жила привлекла также и месье де Каранси, старшего сына графа де ла Вогийона. Оба молодых дарования прекрасно понимали, что две собаки и одна кость — не самое лучшее сочетание и за столь жирную и вкусную косточку придется побороться. Так что при первом удобном случае, встретившись в узком коридоре, они совершенно случайно столкнулись. Бирон, то ли потому, что у него не было с собой шпаги, то ли потому, что он просто вышел из себя, хотел было драться прямо на месте на кулаках, но Каранси, положив руку на рукоять шпаги, отказался от столь вульгарного способа, предложив решить дело по-благородному. Местом для проведения дуэли соперники выбрали тихий деревенский уголок недалеко от Парижа и тайно, чтобы не беспокоить плохо относящегося к подобным затеям короля, ускользнули из города. Бирон взял с собой своих друзей — Логиньяка и Жаниссака, а Каранси сопровождали Эстиссак и ла Бастид. Стоит середина зимы, погода плохая, валит снег — но наши дуэлянты так разгорячены, что не чувствуют холода, зато никто, кроме какого-нибудь случайного крестьянина, не увидит их дуэли. Каранси сходится с Бироном и наносит удар шпагой, которая, соскочив с рукояти кинжала барона, проскальзывает по его левой руке и легко ранит в плечо. Ответный удар Бирона приходится противнику прямо в корпус, отчего тот замертво падает в снег. Завершив бой, он устремляется на выручку приготовившимся к драке друзьям, за что Брантом возносит ему хвалу, называя поступок юного храбреца примером мудрости и предусмотрительности. А тем временем Логиньяк и Жаниссак разбились на пары с Эстиссаком и ла Бастидом; удача сопутствует им не меньше, чем их другу. Дольше всех затянулась схватка с участием Эстиссака — оба противника фехтуют до тех пор, пока Эстиссак не спотыкается; его соперник тут же набрасывается на него и осыпает лежащего целым градом ударов. Несчастный, тем не менее, умирает не сразу, и победитель, несмотря на то что его друзья давно уже ускакали домой, еще долго верхом на коне стоит на дуэльной площадке, чтобы, наконец, насладиться зрелищем смерти поверженного. Месье де ла Гард ВалонМесье де ла Гард Валон (настоящее имя было ла Гард, а Валон — название замка, где он жил и где мать его вела хозяйство) был молодой человек, холостяк, что, наверное, было и к лучшему для юных дам, учитывая его многочисленные выходки и тот ужасный конец, который неизбежно настиг его. Ла Гард представлял собой образец буйного молодого дворянина времен Генриха Великого — он был смел до безумия и совершенно не ценил жизнь, ни свою ни чужую; добр и предан по отношению к своим друзьям и слугам, как высокого, так и низкого звания, настолько, что бытовало мнение, что любой местный бродяга, у которого хоть раз хватило смелости сражаться бок о бок с ла Гардом, становится его человеком, а значит, и связываться с ла Гардом опасно. По отношению к врагам своим это был человек жестокий и злопамятный, в общем, он был поистине достойным сыном своего бурного времени. Сейчас мы познакомимся с одним из его подвигов. Один бедный солдат по имени Иона, из числа не особенно близких друзей ла Гарда, был арестован за какое-то преступление, заточен в тюрьму Ла-Балейн в городе Фижеак, и в ближайшем времени ему предстояло быть повешенным. Когда весть эта достигает ушей ла Гарда, он тут же приходит к мысли, что такой замечательный воин заслуживает лучшей смерти и его следует спасти. Он заявляется в тюрьму в отсутствие тюремщика и просит начальника охраны позволить ему скрасить жизнь бедняге заключенному стаканом вина, на что охотно получает разрешение. Так ла Гард отсылает одного охранника за вином, еще одного — за фруктами, третьего — еще за чем-то, пока их не остается совсем мало. Тогда он с помощью рапиры расправляется с оставшимися, высаживает дверь и вместе со спасенным выбирается наружу, где их уже ждут еще один солдат и слуга ла Гарда. Далее весь отряд пробирается через город и случается им пройти мимо дома начальника полиции, который сидит с женой у окна. Увидев беглеца, этот достойный чиновник, которому уже успели доложить о побеге, готов выскочить из дому и с помощью нескольких своих людей арестовать наглецов, но тут в него вцепляется жена, не желая никуда выпускать мужа. Эта семейная сцена очень развеселила ла Гарда. Приподняв шляпу, он обращается к даме со словами: — О, прекрасная дама, молю вас, пустите же его, и я обещаю избавить столь прекрасное создание от этой незаслуженной обузы! С этими словами он поворачивается и, продолжая путь целым и невредимым, выводит освобожденного им солдата из ворот Фижеака, препровождает его в свой замок, где предается веселым шуткам с друзьями, рассказывая им, как он вытащил Иону из чрева кита. Вероломство МаррелаНе так уж много времени прошло с вышеописанного случая, а наш друг ла Гард уже в окрестностях города Виллефранш, где к повешению приговорены на этот раз трое несчастных солдат, его скромных друзей. Виллефранш — надежная и хорошо охраняемая крепость, и ла Гарду ясно, что здесь не пошалишь так, как в Фижеаке. Поэтому он тянет время — подъезжает в одиночку (как это на него похоже!) к воротам и заявляет охраннику, что ему нужен торговец по имени Дарден. Вполне возможно, что такого человека на самом деле вообще не существовало. Ла Гард со своими приспешниками давно уже наводил ужас на всю округу, так что комендант крепости, некий Маррел, которому доложили о прибытии гостя, усмотрел в происходящем замечательную возможность схватить наглеца, и, если бы ему это удалось, судьба ла Гарда оказалась бы весьма незавидной. Так что комендант в сопровождении отряда из нескольких десятков солдат выехал за ворота и, в то время как солдаты молча замыкали вокруг пришельца кольцо, учтиво обратился к нему: — Уважаемый господин, не соблаговолите ли вы войти в наш город? Ла Гард отвечает: — Нет, спасибо, у меня в вашем городе никаких дел нет, мне надо только пообщаться с одним торговцем, ну так он может и сам ко мне выйти. — Что, правда? — делано изумляется Маррел. — Зато у моего города есть к вам много дел! За дело, парни! И солдаты принимаются за дело: один выхватывает шпагу из ножен ла Гарда, другой — пистолет из его кобуры, третий берет под уздцы его коня, а еще несколько человек держат гостя под прицелом своих аркебуз. Храбрый ла Гард, для которого все происходящее — полная неожиданность, только сейчас осознает, в насколько серьезный переплет он попал. Воспрянув, он вырывает свою шпагу из рук солдата, пришпоривает коня, при этом солдат, державший коня, отлетает в сторону. Ла Гард, как сам дьявол во плоти, прорывается через окружение, размахивая шпагой направо и налево; большинство солдат со всех ног убегают обратно в город, а ла Гард галопом уносится прочь, весь в дыму от выстрелов аркебуз, из которых палили в него с близкого расстояния, не причинив, однако, никакого вреда. Единственная полученная им рана — это царапина на пальце, которую он сам себе нанес, вырывая у солдата свою шпагу. Ла Гард скрывается в городе Наяк, правитель которого — его друг. Жители Виллефранша пуще прежнего теперь боятся ла Гарда и, встретив на дороге всадника, спрашивающего, откуда они, неизменно отвечают, что из Наяка; но ла Гарду все же удается захватить кого-то из них в заложники, чтобы гарантировать безопасность трех своих солдат. И вот уже договорились об обмене, но, как только ла Гард отпускает заложников, Маррел нарушает свою клятву, отправляет тех трех бедолаг на виселицу и назначает награду за поимку самого ла Гарда, как возмутителя общественного спокойствия. Этот подлый обман приводит нашего героя в ярость, обычно ему несвойственную; но прежде всего он приходит ночью в сопровождении одного лишь лакея к месту казни, снимает с виселиц три тела и заботится о том, чтобы они были должным образом преданы земле. После этого ла Гард клянется отмстить всем и каждому в городе Виллефранш, в особенности — Маррелу и его близким, и пишет последнему письмо: «Та maison en cendres, ta femme violée, tes enfans pendus. Ton enemy mortelle La Garde» [40]. Детям чудом удалось спастись, а если бы не удалось, то нет никаких сомнений, что лорд Валон сдержал бы свое слово лучше, чем градоначальник Маррел. Однако один член семьи последнего все же попадается ла Гарду в руки; впрочем, узнав, что это лишь дальний родственник, тот отпускает его на волю, удовлетворившись отрезанием ему носа и одного уха, да еще оскоплением в придачу. За этот подвиг наш герой получил прозвище Coupe-le-Nez [41]. Дуэль с Базане — конец ла ГардаМесье де ла Гард, помимо прочих своих занятий, был немного поэтом, то есть имел привычку писать стишки, по большей части для развлечения своих подружек, но в любых его стихах содержались какие-нибудь саркастические нотки, поэтому именно поэтическая стезя привела его к ссоре с господином, которого он до того и в глаза-то не видел, но который положил конец карьере одаренного юноши. Однажды близкий друг ла Гарда, барон де Мервилль, зачитал на некоем званом вечере его стихи, в которых в несколько вольном контексте упоминалось имя месье де Линерака Авернского. К сожалению, на том вечере присутствовал брат Линерака, месье де Базане, который, видя, кто читает эти стихи, подумал, что они написаны в стиле ла Гарда, а зная о репутации последнего как бойца, решил воспользоваться случаем и снискать себе славу, вызвав его на поединок. Поэтому он заявил Мервиллю, что если бы тот помог ему встретиться с автором этих стихов со шпагой в руке, то оказал бы ему большую услугу. Мервилль ответил, что с удовольствием поможет в этом и что сам саркастический поэт сможет оказать Базане и не такую услугу. Базане обрадовался, снял шляпу и протянул ее Мервиллю со словами: — Передайте это своему поэту да скажите, что обратно я заберу ее только вместе с его жизнью! Это была большая серая шляпа с огромным пером, прикрепленным к ней великолепной золотой нитью. Она символизировала что-то вроде брошенной перчатки на манер рыцарей былых дней; как барон воспринял этот жест, мы не знаем, но он должным образом доставил и шляпу, и вызов ла Гарду, который воспринял и то и другое благосклонно, шляпу надел на голову и тут же выехал из Валона на поиски своего противника. Но хоть он и искал в Аверне во многих местах, где тот бывал завсегдатаем, но поиски не увенчались успехом, потому что именно в это время Базане лежал дома, прикованный к постели болезнью, и л а Гарду пришлось вернуться домой без приключений и все в той же серой шляпе. Через месяц Базане снова на ногах, а значит — и на коне; он берет с собой по паре рапир и кинжалов, одинаковых по весу и размеру, и в сопровождении своего двоюродного брата по имени Фермонте, деревенского парня, никогда не видавшего придворной жизни, отправляется в Керси на поиски ла Гарда. И вот однажды вечером, как раз к ужину, они заявляются к другу, живущему примерно в лиге от Валона, и прямо оттуда отправляют с мальчиком-слугой записку к ла Гарду. Мальчик прибывает в Валон и спрашивает ла Гарда; тот в этот момент уснул в своей комнате с книгой в руке (было лето, и стояла невыносимая жара), и будить его никто не посмел, так что слугу отправили к мадам де Валон, которая, увидев, что ее сына ищут по поручению Базане, заявила, что его нет дома и чтобы посланник возвращался обратно. Но смышленый мальчишка решил подождать за воротами хотя бы до ужина, и вечером его застал у ворот Мирабель, самый юный член семьи, вернувшийся с охоты. Выяснив, чего хочет пришелец, он заявил: — Ты не найдешь здесь моего брата, его здесь нет! — Но, господин, — взмолился мальчик, — в деревне говорят, что он здесь! Так или иначе, хозяин велел мне, если я не найду самого ла Гарда, обратиться к его брату. — Так это я, — ответил Мирабель, — у тебя есть для нас какое-то письмо? Посланник передал записку. Прочтя ее, Мирабель нахмурился: — Мальчик, возвращайся к своему хозяину и пусть он будет добр прислать к нам благородного дворянина! За ужином мадам де Валон удалось узнать, в чем дело, на что она заметила: — Очень мило со стороны месье де Базане посылать к тебе по такому вопросу лакея, после того как ты сам лично его обыскался везде, где только можно. Ла Гард ничего на это не ответил, но почти сразу же вышел из комнаты вместе с Мирабелем, который предложил не ждать никакого дворянина, а самим прямо сейчас съездить проведать Базане. Мадам де Валон, со своей стороны, поняла, что сболтнула лишнего, и, опасаясь за последствия своих слов, приказала запереть все двери в замке, а ключи принести ей. Так что нашим братьям пришлось покидать замок через окно, по лестнице. Первым делом они отправились домой, к деревенскому священнику, и заставили его прочитать для них полуночную мессу, а затем направились к дому, где остановился Базане. Подъехав достаточно близко, ла Гард спешился, сам остался стоять под деревом, а брата послал на разведку. Уже засветло тот прибыл на место и застал всех троих — Базане, Фермонте и хозяина дома. После обычных приветствий Мирабель сказал Базане: — Мой брат здесь, неподалеку, и он горит желанием вернуть вам вашу шляпу; возьмите с собой одного из друзей, и я отведу вас к нему. Фермонте и хозяин дома чуть не поссорились за честь быть этим другом, но честь секунданта уже давно была обещана дуэлянтом своему молодому кузену. Базане вручает Мирабелю два комплекта оружия, которые привез с собой, и просит отнести их на выбор брату. Выполнив просьбу, Мирабель возвращается и ведет обоих к месту, где их ожидает ла Гард. Увидев друг друга, дуэлянты улыбаются, снимают шляпы и заключают друг друга в объятия, как старые друзья. Слуг они запирают в сарае, а ключи уносят с собой на площадку, выбранную для боя. Дав Мирабелю задание поразвлечь пока Фермонте с помощью рапиры и кинжала, ла Гард отводит своего соперника шагов на пятьдесят в сторону, и они приступают. Ла Гард — великолепный фехтовальщик, и он проводит удар прямо в лоб Базане; но череп того тверд, и клинок не пробивает его. В следующий раз ла Гарду везет больше, и его второй удар, сопровождаемый восклицанием «Это вам за шляпу!», приходится уже в корпус противнику, третий — тоже в корпус, со словами «А это — за перо!». Когда они сходятся в четвертый раз, ла Гард кричит: — Теперь пора отплатить за прекрасную золотую нить! Ваша шляпа мне очень подходит! И действительно, и за нить он в очередной раз платит той же монетой. Израненному Базане уже не до шляп, поэтому он, движимый уже не рассудком, а отчаянием, выкрикивает: — Смотри скорее сюда или ты покойник! — и, отбросив шпагу, прыгает к ла Гарду с кинжалом в правой руке и бьет его в шею. Схватившись, они падают, но Базане, оказавшись наверху, продолжает тыкать в противника кинжалом с удвоенной энергией, нанеся ему не менее четырнадцати ранений от шеи до пояса; но уже в предсмертной агонии ла Гард откусывает Базане полщеки. Тем временем мастер Мирабель развлекается фехтованием на рапирах и кинжалах с кузеном Базане и пропускает несколько ударов, которые, впрочем, не проходят дальше рубашки, зато, наконец, наносит в ответ чувствительный удар. Фермонте останавливается, кричит: — Ты что, ранен? — и с этими словами бросается на Мирабеля, пытаясь вступить с ним в борьбу, но целехонький и полный сил Мирабель стойко удерживает его; раненый из последних сил кричит своему кузену, который занят добиванием ла Гарда: — Брат, следи за собой! Я убит… На этих словах Мирабель отпускает захват, и бедный юный Фермонте падает замертво. Распаленный смельчак Мирабель обращается к Базане, который собрался покинуть поле боя: — Эй, ты! Ты убил моего брата, а я твоего кузена; так давай же закончим наши дела! Однако Базане, вновь держа в руках и шпагу, и пресловутую шляпу, которые он, правда, обменял на оставшийся в зубах убитого противника кусок щеки, уже на коне. Он отвешивает храброму юноше поклон: — Мальчик мой! Твой брат был великим бойцом, и он не оставил мне сил больше драться; мне надо к врачу, — и галопом уносится прочь. Так поле боя остается за отважным Мирабелем, а вместе с ним — три рапиры, четыре кинжала и два тела, одно из которых он увозит с собой, но смерть брата такой тяжкой ношей ложится на плечи юноши, что не скоро он сможет заставить себя вернуться в Валон. Что ж, прощай, храбрый ла Гард, и да будет земля тебе пухом! Глава 18Джордж Сильвер, джентльмен Мода на такое элегантное и нарядное вооружение, как итальянская рапира с кинжалом, и соответствующую ему манеру боя колющими ударами пришла и в Англию, а вслед за ней на наших берегах стали появляться и итальянские авантюристы из числа людей, знакомых с оружием, но никак не мастеров искусства, которому собрались учить. И то подумать: будь они действительно великими мастерами, какой был бы им резон ехать в такую даль в те времена, когда путешествия были столь долгими, трудными и дорогими, если бы они могли прекрасно зарабатывать своими уроками и дома? В то время бытовало мнение, что, раз англичанам закон и обычаи запрещают участвовать в личных поединках, то и искусство фехтования этому народу совершенно незнакомо. Некий маркиз (чье имя мы намеренно оставим неразглашенным) приплыл в Лондон с возвышенной целью научить невежественных настоящему искусству постоять за себя. Имя этого благородного господина абсолютно ничего не говорило далеким от фехтования англичанам, и для того, чтобы хоть как-то представиться общественности, ему пришлось обратиться к одному музыканту, которому когда-то оказал услугу некий родственник синьора. Среди учеников этого музыканта был один джентльмен из числа подобных Джорджу Сильверу-младшему, страстный любитель всякого рода оружия и, соответственно, неплохой мастер владения им. Музыкант порекомендовал ему своего друга в качестве учителя, на что наш джентльмен ответил: — Прекрасно! Но мне надо знать, чему он может меня научить; если он победит меня, то конечно же мне стоит у него поучиться, чтобы понять, как ему это удалось. — Это не проблема, — ответил музыкант, — ведь он собирается открыть школу неподалеку от Лейчестер-сквера, где будет фехтовать с любым, кто согласится скрестить с ним шпаги, по гинее за раунд. Отметив, что он знает не одну школу фехтования, где можно поработать с разными мастерами и подешевле, наш джентльмен все же выразил готовность посмотреть, что там за маркиз такой. Договорились о встрече. Заручившись разрешением одного мастера фехтования на то, чтобы привести в его школу постороннего, наш джентльмен принялся за исполнение долга гостеприимства — пригласил итальянца на обед, обхаживал его, как только мог, а когда все сигары были выкурены, а кофе — выпит, привел его в дом того мастера фехтования, где уже собралось довольно много учеников. Сперва наш джентльмен со своим гостем взялись за учебные шпаги, и великий маркиз совершенно не оправдал надежд хозяина. Откровенно говоря, он проиграл вчистую. Тогда гость объяснил, что его конек — не шпага, что лучше всего он владеет саблей, и достал пару сабель, привезенных с собой; одну из них, старую и гнутую, он протянул партнеру, а вторую, почти новую, оставил себе, но даже с таким преимуществом выступил не лучше, чем на шпагах. Потом он провел ряд поединков с различными учениками школы, уровень мастерства которых был не особенно высок, но так никого и не смог одолеть. Неподалеку от Лейчестер-сквера так и не открылось никакой школы, и пребывание маркиза в Лондоне завершилось гораздо раньше, чем он планировал. Однако мы отвлеклись. Итальянцы, приезжавшие в Англию в елизаветинское время, имели перед своими современными собратьями преимущество в том, что их хорошо представляли общественности. Кроме того, они заявляли себя мастерами владения рапирой и кинжалом, на что в те времена была просто безумная мода, особенно при королевском дворе. Поэтому заморских мастеров неизменно ждал теплый прием, а местные молодые люди никогда не оставляли их без работы, так что в весьма сжатые сроки эти господа просто преображались. Об одном из них, по имени Рокко, мы уже рассказывали, а кроме него, были Иеронимо, инструктор из школы синьора Рокко, и Винченцо Савиоло, обессмертивший свое имя, написав трактат о владении рапирой. Не стоит полагать, что англичане были такими уж варварами, чтобы вообще не уметь владеть оружием, но любимым их вооружением оставался меч со щитом-баклером, реже — «длинный меч»; историческим является тот факт, что король Генрих VIII объединил ведущих преподавателей фехтования в корпорацию, которая, к сожалению, просуществовала недолго. В стране было много своих знаменитых учителей владения оружием, и они, как и ученики их, в большинстве своем с неприязнью восприняли новомодное «итальянизированное» фехтование; эти люди явно не имели большого опыта ни в чем, кроме своего специфического занятия, и не оставили после себя никаких письменных свидетельств. Но, к счастью для потомков, среди них были два брата, Джордж и Тоби Сильвер. Оба они были страстными любителями оружия, англичанами до мозга костей и ярыми противниками второсортных фехтовальных трюков итальянцев, которых с таким энтузиазмом принял свет и чье обучение грозило полностью искоренить старый добрый английский обычай биться с мечом и баклером, когда бойцы обменивались честными рубяще-сметающими ударами, а не колющими тычками с лягушачьим подпрыгиванием. Нам из этой пары больше интересен старший брат, Джордж, поскольку он увековечил себя ценными письменными трудами. В 1599 году он опубликовал свои «Парадоксы защиты», которые представляли собой в основном нападки на порочное учение модных в ту пору итальянцев, но это несомненно ему следует простить за то, что вслед за «Парадоксами» из-под его пера вышло дополнение — «Краткие инструкции к моим Парадоксам защиты». Эта часть его работы, самая ценная, так и не была опубликована при жизни, оставшись в виде рукописи, которая, к счастью, попала в Британский музей. Возможно, виной тому то, что вскоре после завершения этой работы Джордж Сильвер умер; по крайней мере, семнадцать лет спустя, на момент издания Джозефом Суэтнамом «Школы защиты», он точно был мертв, и даже имя его уже было исковеркано, поскольку Суэтнам отмечает, что, мол, «Джордж Гиллер крайне уважительно отзывался о короткой шпаге и кинжале», чего Джордж Сильвер совершенно точно не делал ни в «Парадоксах», ни в «Кратких инструкциях». Суэтнам вообще, кажется, был склонен путать имена, поскольку в той же самой главе он советует читателям «спросить Августина Бэджера, который сам высочайшего мнения о коротком мече, поскольку крайне часто пользовался этим оружием на поле боя и победил в большем количестве труднейших боев, чем кто-либо другой из тех, кого я знаю». Описание этого Бэджера полностью совпадает с тем, что мы знаем об Остине Бэггере, который за несколько лет до того отправил в отставку синьора Рокко, а по контексту, в котором Суэтнам упоминает этих двоих, ясно, что на момент написания книги Остин Бэггер был еще жив и не переставал развлекаться своими «труднейшими боями», а Джордж Сильвер уже отдал свой долг природе. Те, кто возьмет на себя труд прочесть его работы, ныне полностью доступные благодаря усилиям капитана Мэттью, признают в Сильвере отца английского фехтования, хотя сам он на себя такой роли не брал, желая лишь записать то, чему его самого учили. Это первый исконно английский автор, предложивший общественности в печатном виде уроки фехтования, и это был первый автор в мире, кто формально изложил четкие инструкции по парированию и ответным ударам. В главе «О различных преимуществах, которые дает удар из защитного положения» он приводит описание множества ответных ударов — не менее шести из защиты, которая нам известна под названием «высокая терция», три — из «высокой секунды», пять — из «высокой примы», восемь — из терции и еще восемь — из кварты. А глава «Некоторые захваты и сближения для боя на одиночных коротких мечах» полна полезных инструкций о том, как себя вести, находясь в ближнем бою с противником. Практиками боя Джордж Сильвер и его брат Тоби были не хуже, чем наставниками. Первый рассказывает прелестную историю о том, как они бросали вызов итальянцам Винченца и Иеронимо. Синьор Рокко после истории с Остином Бэггером исчез из вида, а место его занял инструктор школы синьора, взяв в партнеры Савиоло. «Затем, — пишет Джордж, — появились Винченцо и Иеронимо, они учили фехтованию на рапирах при дворе, в Лондоне, и по всей стране, и занимались этим уже лет семь-восемь. Эти двое итальянских фехтовальщиков часто говаривали (особенно Винченцо), что англичане — сильные мужчины, но в них нет хитрости и они слишком сильно отступают в бою, а это уже оскорбление. Так что, узнав о таком оскорблении, мы с моим братом Тоби Сильвером бросили им обоим вызов, где им предлагалось сразиться на одиночных рапирах, рапирах с кинжалом, одиночных мечах, мечах и малых щитах, мечах и баклерах, двуручных мечах, шестах, боевых топорах и мавританских копьях в Белл-Совейдж, на помосте, чтобы тот, кто слишком сильно отступит, будь то англичанин или итальянец, рисковал сломать себе шею. Мы заказали в печать сотню объявлений с вызовом и выехали из Саутуока в Тауэр, оттуда — через Лондон в Вестминстер, и в назначенный час были на месте со всем перечисленным оружием, на расстоянии полета стрелы от фехтовальной школы итальянцев. К ним приходило множество людей, им показывали напечатанные объявления с вызовом, говорили, что Сильверы уже на месте и ждут, и все оружие у них с собой, и что вокруг полно зрителей, что надо идти сражаться, или они покроют себя позором… Однако, как итальянцев ни упрашивали, эти храбрецы так и не явились». Конец Иеронимо«Иеронимо вообще-то не был трусом, он действительно стал бы сражаться, что однажды и сделал. Он лежал в постели с любовницей. Жил на свете некий Чиз, очень опасный тип, в бою — истинный англичанин, ибо сражался мечом и кинжалом, а с рапирой вообще не умел обращаться. Чиз этот был с Иеронимо в ссоре, и внезапно нагрянул к нему/верхом на коне, когда тот был с любовницей, и стал кричать Иеронимо, чтобы тот вылезал из постели, угрожай, что иначе достанет его и там. Иеронимо выскочил и, схватив рапиру и кинжал, встал в свою любимую стойку, которую они с Винченцо рекомендовали всем своим ученикам, считая лучшей для самого смертного боя, пригодной как для атаки на противника, так и для ожидания, пока он сам подойдет. На отработку этой стойки он потратил, должно быть, много времени, но, несмотря на всю сноровку Иеронимо, Чиз двумя ударами проткнул его и сразил наповал». В своих трудах Джордж Сильвер нигде не выказывает никакой личной вражды по отношению к самим учителям фехтования, но подробно объясняет, почему он столь неодобрительно относится к их порочному обучению и оружию, которое они насаждают. И он был прав в конечном итоге. Длинная рапира — оружие для частных поединков, оружие дуэлянта, а не солдата, и лет через пятьдесят после исчезновения из вида автора трудов она выходит из моды. А мудрые наставления «Кратких инструкций» снискали Сильверу бесспорное право именоваться отцом отечественного фехтования. Глава 19Правление Ришелье Царствование Генриха Великого изобиловало кровавыми стычками по частным поводам; их нельзя даже называть дуэлями, поскольку дуэль — это поединок двух соперников, а в этих побоищах редко когда принимало участие меньше четырех человек, хотя суть конфликта, действительно, касалась только двоих. Говорят, что за период правления этого монарха в частных столкновениях полегло больше французских дворян, чем за все время гражданских войн, предшествовавших его восхождению на трон. Мы не ставим перед собой цели написать историю дуэлей, как таковых, это уже много раз делали до нас, мы хотим лишь привлечь внимание читателя к различным видам шпаг, используемых в тот или иной период, и изложить реальные, не выдуманные, примеры применения этих шпаг. Наверное, мы уже чересчур много рассказали о частных стычках XVI века, так что пора перейти к следующей эпохе, когда на троне Франции воцарился Людовик XIII, но страной правил его великий министр Арман дю Плесси, ужасный кардинал Ришелье. В этот период борьба с дуэлями обострилась донельзя, но и сам характер дуэли изменился, и не в лучшую сторону. В прежние времена сражающиеся хотя бы смутно представляли, из-за чего они, собственно, дерутся, но «другие времена — другие нравы». Теперь в порядке вещей стало, что если члены компании, направляющейся на бой, озадачены проблемой своей немногочисленности, то они могут остановить первого попавшегося прохожего и позвать его с собой, не важно, знаком он им или нет, и этикет запрещал ему отказываться, а напротив, требовал, чтобы он принял участие в бою по неизвестному поводу на стороне незнакомых людей и бился насмерть с человеком, о котором раньше даже ничего не слышал. Замечательным примером такого рода является случай из ранней карьеры д'Артаньяна, подробности которого мы приводим по его мемуарам, а не по художественному описанию Дюма из «Трех мушкетеров». Надо заметить, что в жизни д'Артаньяну на момент появления в Париже было не более шестнадцати лет, хотя парнишкой он был, конечно, храбрым и воинственным. МушкетерыОтважный маленький беарнец, шестнадцатилетний д'Артаньян, приезжает в Париж и является в гостиницу мушкетеров короля, у которых главный — великий месье де Тревилль, тоже родом из Беарна, за несколько лет до того прибыл в Париж точно так же, как и наш юный храбрец, и своей смелостью и верностью королю, — не говоря уж о компетентности в области оружия и прочих вещей, в которых его величество лично не разбирался, — добился столь большого уважения, что был удостоен звания капитана мушкетеров короля, доверенной королевской охраны. В былые дни месье де Тревилль был близким другом д'Артаньяна-старшего, отца юноши, поэтому наш молодой человек уверен в предстоящем ему теплом приеме. В передней ожидают аудиенции несколько мушкетеров, и среди них — три брата, Атос, Портос и Арамис. Они неразлучны. Если одному надо позавтракать, а у кого-то из остальных двоих есть чем — на троих им хватает. Если один заводит тайную любовную интрижку, то у него всегда есть наготове два друга, которые помогут залезть в окно к даме, а в случае появления помехи в виде родственника предмета страсти — две рапиры для того, чтобы его урезонить. Если одному из них предстоит серьезное дело, ему нет нужды просить о помощи прохожих на улице. Своей драчливостью эти трое заработали себе в Беарне неплохую репутацию, из-за которой де Тревилль вызвал их в Париж и записал в свою роту. Он сделал так, поскольку мушкетеры короля постоянно ссорились с гвардейцами кардинала Ришелье, агенты которого рыскали по всей Франции в постоянных поисках самых отчаянных головорезов для пополнения гвардии. Молодой д'Артаньян обращается к Портосу, который, расспросив его о том, кто он такой, когда и зачем приехал в Париж, завершает процесс удовлетворения своего любопытства словами: — Твое имя мне очень хорошо знакомо! Мой отец часто рассказывал, что знавал больших храбрецов из вашей семьи. Тебе следует хорошо постараться, чтобы быть достойным их, или придется вернуться в огород отца. Мальчик оказался чрезвычайно чувствительным в вопросах чести, да и отец перед отъездом советовал ему беречь честь пуще глаза. Поэтому он хмурится и резко бросает Портосу: — А что это ты так со мной разговариваешь? Если моя смелость вызывает у тебя сомнения, давай выйдем на улицу, и я тебе продемонстрирую ее во всей красе! Портос — огромный сильный мужчина, добродушный по характеру, совершенно не имеет желания затевать ссору с шестнадцатилетними мальчиками. Со смехом он советует молодому человеку быть храбрым, но не таким вспыльчивым, и говорит, что, будучи не только земляком, но и близким соседом по дому, он с гораздо большим удовольствием взял бы мальчишку под свою опеку, чем обнажил бы на него шпагу; но раз уж тот столь неразумен, что ему обязательно надо на кого-то задраться, то такую возможность Портос ему предоставит гораздо раньше, чем юноше кажется. Из дома де Тревилля они выходят одновременно, и д'Артаньян готов обнажить шпагу, как только они окажутся на улице, но в дверях Портос говорит ему: — Ступай на некотором отдалении от меня, как будто знать меня не знаешь. Мальчик так и делает, недоумевая, чего же хочет его предполагаемый противник. Портос идет по рю де Вожирар, пока не доходит до гостиницы «Эгийон», где у дверей встречается с господином по имени Жюссак. Манера, с которой они приветствуют друг друга, не оставляет у д'Артаньяна сомнений, что они — близкие друзья. Обернувшись через несколько шагов, чтобы посмотреть, идет ли Портос за ним, юноша с удивлением видит, что, сойдя с крыльца гостиницы и выйдя на середину улицы, чтобы швейцар не мог их слышать, те двое разительно меняют манеру общения. Теперь в их голосах слышно ожесточение и оба чем-то недовольны, а Портос в ходе разговора несколько раз указывает на д'Артаньяна, чем окончательно сбивает последнего с толку. Вот, наконец, разговор окончен; Портос подходит к своему юному другу и говорит: — Да уж, пришлось мне ради тебя поругаться с этим парнем! Через час нам с ними биться в Пре-о-Клер, трое на трое, а увидев, как горячо ты ищешь повода скрестить с кем-нибудь рапиры, я решил, что надо бы взять и тебя с собой на нашей стороне, но не стал тебе пока говорить, чтобы не разочаровывать, если бы не получилось; поэтому сначала я пришел сюда и предупредил месье де Жюссака, что нас будет четверо, а не трое, и попросил его тоже привести с собой четвертого — на твою долю. Теперь, наверное, надо бы объяснить тебе, в чем суть дела. Я тут ни при чем, сама ссора вышла между моим старшим братом Атосом и месье де Жюссаком, это человек кардинала. На днях моему брату случилось заявить в компании, что мушкетеры короля всякий раз оказывались круче гвардейцев его высокопреосвященства, когда выпадало скрестить с ними шпаги. Ну вот, а Жюссак оказался с этим заявлением не согласен, так что теперь нам предстоит драться. Юный д'Артаньян ужасно польщен, он горячо благодарит Портоса за оказанную честь и обещает проявить себя наилучшим образом, чтобы заслужить своей доблестью доброе имя. Так они вместе добираются до Пре-о-Клер, где их уже ждут Атос и Арамис. Увидев полнощекое лицо и молодой вид новоприбывшего, они отводят Портоса в сторону и спрашивают его, что все это значит. Он рассказывает, и Атос набрасывается на него: — Какого черта ты наделал? И что теперь — ты же знаешь Жюссака, несмотря на то что он видел твоего маленького друга, все равно ведь приведет какого-нибудь громилу из гвардейцев кардинала, тот уложит беднягу одним ударом, а потом получится четверо на троих? Но поскольку Портос уже договорился, обратного хода нет, мушкетерам приходится делать хорошую мину. Они учтиво принимают молодого человека и в цветастых выражениях благодарят его за то, что он пришел на помощь совершенно незнакомым людям, — хотя очевидно, что все эти благодарности произносятся через силу. Но вернемся к месье де Жюссаку. Его положение не из легких. Менее чем за час ему необходимо найти бойца, подходящего для того, чтобы скрестить рапиры с д'Артаньяном. Будучи солдатом, даже более чем — он на самом деле капитан, — Жюссак как-то давно не бывал в обществе маленьких мальчиков и теперь не может вспомнить ни одного юноши, которого прилично было бы привести на предстоящую вечеринку. Поэтому он доверяет свою проблему братьям Бискара и Каюсаку, двум бойцам кардинала, которых и выбрал на сегодня секундантами. Те сразу же называют кандидатуру своего третьего брата, Ротонди, планирующего в общем-то церковную карьеру. Он вот-вот собирается постричься в монахи, но, когда к нему обращаются за помощью, он согласен отбросить свои религиозные предрассудки, если больше никого не удается найти. Однако, к его счастью, в этот момент появляется один из друзей Бискара, и его сразу же представляют Жюссаку. Его имя — Бернажу. Это не рядовой солдат — он капитан в наваррском полку, высокий, красивый и подтянутый. Жюссак вкратце обрисовывает ему ситуацию, и тот, обрадовавшись, предлагает свою шпагу к услугам гвардейцев, к бесконечному облегчению Ротонди с его духовными помыслами. Итак, все утряслось ко всеобщему удовлетворению, и гвардейцы приходят на площадку, где их уже ждут мушкетеры. Жюссак, Каюсак и Бискара сразу же вступают в бой с тремя мушкетерами, оставив могучего Бернажу лицом к лицу с мальчишкой. Смерив противника взглядом и покрутив свои роскошные усы, тот со смехом поворачивается к Жюссаку: — Это что? Ты шутить надо мной вздумал? Ты меня зачем сюда привел — учить ребенка фехтованию? Или, может, ты хочешь, чтобы я уехал отсюда с репутацией людоеда, который развлекается пожиранием всяких чертовых сопляков? «Всякие чертовы сопляки» задевают д'Артаньяна до глубины души, и он поднимает рапиру с криком: — Сейчас я покажу, на что способны всякие чертовы сопляки из тех краев, откуда я родом, когда с ними так разговаривают! Бернажу приходится тоже обнажить рапиру для обороны, поскольку разъяренный юноша, которого отец явно не обделил в смысле обучения фехтованию, с яростью набрасывается на него. Могучий капитан, желая показать молодому человеку всю серьезность ситуации, наносит несколько сильных ударов, но тот все их удачно парирует, а ответным ударом протыкает противника справа. Отшатнувшись, тот падает. Опечалившись, что нанес столь серьезную рану человеку, которого впервые видит, д'Артаньян бросается к нему, чтобы помочь, но Бернажу, неверно истолковав его намерения, выставляет навстречу ему острие шпаги. Д'Артаньян останавливается и кричит, что не так глуп, чтобы напороться на выставленную шпагу лежащего человека, но вот если тот шпагу отбросит, то юноша сделает все, чтобы ему помочь, — что тот и делает, рассудив, что мальчик не лжет, а юный д'Артаньян, вынув из кармана ножницы, отрезает от одежды раненого кусок ткани и перевязывает этой тканью рану. Однако это проявление великодушия чуть было не стоило жизни Атосу, а может быть — и его братьям, поскольку Жюссак тем временем ранил мушкетера в правую руку, держащую шпагу, и усилил натиск, когда тому пришлось защищаться левой рукой. Увидев это, д'Артаньян подпрыгивает к ним, кричит Жюссаку: — Месье, обернитесь! Я не хочу убивать вас сзади! — и тут же бросается на него. Атос, чуть оправившись, бросается на выручку своему юному спасителю, не желая оставлять его один на один со столь опасным противником. Перед лицом численного перевеса противника Жюссак пытается встать бок о бок к Бискара, чтобы получилось хотя бы двое на трое; но, заметив это, д'Артаньян отсекает его, после чего тот вынужден сдаться, высвободив таким образом Атоса и д'Артаньяна на помощь Портосу и Арамису, чьи противники тоже быстро оказываются обезвреженными и отправляются домой весьма смущенными. Теперь все оставшиеся обращают свое внимание на Бернажу. Ослабев от кровопотери, тот уже не стоит на ногах; пока мушкетеры стараются поддержать в нем силы, д'Артаньян, как самый молодой, бросается за каретой месье де Жюссака, куда и кладут раненого. Его отвозят домой, и только шесть недель спустя он вновь способен подняться на ноги; доблесть и великодушие молодого беарнца произвели на него такое впечатление, что их драка оказалась началом дружбы, продлившейся всю жизнь. Как месье де Тревилль рассказал обо всем королюСледуя советам Ришелье, Людовик XIII издавал многочисленные указы о запрете дуэлей, но содержащиеся в них наказания были столь экстравагантно жестокими, что сложилось мнение — они никогда не сойдут с бумаги. К тому же по городу ходили слухи о том, что почти ежедневные кровавые столкновения между мушкетерами его величества и гвардейцами его преосвященства сходят им с рук, и участники их не получают ничего, кроме разве что эфемерного выговора за нарушение дисциплины, а для самих августейших хозяев двух враждующих сторон подвиги подчиненных — лишь повод более-менее дружеской похвальбы друг перед другом. Сразу же после боя Атос, Портос и Арамис, прихватив с собой юного друга, — неплохой способ для него представиться славному командиру! — явились к де Тревиллю и честно все ему рассказали. Тот ответил: — Дело опасное, если принять во внимание королевские эдикты, а уж кардинал будет крайне раздосадован поражением своих бойцов. Предоставьте дело мне, я обо всем позабочусь. Капитан мушкетеров сразу же, чтобы опередить кардинала, отправился к его величеству и рассказал о том, что произошло крайне неприятное событие: трое лучших его мушкетеров, Атос, Портос и Арамис, предавались вместе с молодым другом Портоса невинной прогулке по городу и забрели в Пре-о-Клер, где наткнулись, на свою беду, на компанию из трех или четырех отборных головорезов кардинала. Его величество конечно же осведомлен о некоторых трениях, существующих между теми и другими; теперь уже сложно установить, с чего все началось, но определенно, кто-то сказал что-то неприемлемое для кого-то другого, слово за слово, рапиры вылетели из ножен, и пошла обычная драка. Но кончилось все хорошо; правда, бедный Атос ранен в правую руку и был бы несомненно убит, если бы не своевременное вмешательство храброго деревенского мальчика, которого привел Портос. Де Тревилль сообщил его величеству, что этот мальчик представляет собой нечто определенно выдающееся; что ему пришлось биться один на один с неким Бернажу, могучим, сильным мужчиной и опытным фехтовальщиком, и он держался с ним на равных, парировал все его атаки и в конце концов проткнул ему плечо, после чего смог прийти на помощь к Атосу как раз вовремя. Не забыл капитан мушкетеров упомянуть и о том, что побежденные люди кардинала, оставшись без оружия, позорно бежали, бросив несчастного Бернажу истекать кровью на земле, а мушкетеры его пожалели, оказали ему, как могли, первую помощь, в то время как самый юный сбегал за каретой, в которой раненого отвезли домой, и передали его с рук на руки врачу. Что касается мальчика, добавил де Тревилль, то о нем капитану мушкетеров известно все, поскольку д'Артаньян-старший, отец юноши, — один из его старейших друзей. Так король остался в полной уверенности, что стычка была чистой случайностью, а никоим образом не запланированной дуэлью; он послал за молодым героем, похвалил его за благородное поведение, одарил и поручил его опеке де Тревилля. Франсуа де Монморенси, граф де Бутвилль: его деяния и его смертьКардиналом де Ришелье, как и за много лет до него — королем Людовиком XI, владела одна мысль. Правда, у короля были на то исключительно эгоистические мотивы, он хотел всевластия, а Ришелье же руководила только преданность своему царственному повелителю, желание сделать короля Франции, кем бы он ни был, абсолютным монархом. Суть его плана была та же, что и у старого Людовика, — он желал полностью сокрушить крупных представителей знати в своих владениях и уж в любом случае — всех тех, кто отказывался с готовностью подчиниться абсолютной власти монарха. Надо сказать, что сам кардинал многого не достиг, поскольку зачастую жестокое выполнение изложенной им программы обеспечило ему репутацию человека, которого больше, чем кого бы то ни было во Франции, ненавидели и боялись. Среди тех, кого он поверг, был и Франсуа де Монморенси, граф де Бутвилль, страстный дуэлянт и известный забияка, о котором рассказывали, что он, услышав мельком, как о ком-нибудь говорят, что он храбрый человек, тут же отправлялся на его поиски, находил и бросался к нему со словами: «Месье, говорят, что вы храбрец, — я хочу проверить это лично; какое оружие вы предпочитаете?» Бедняге приходилось драться и умирать лишь для удовлетворения прихоти человека, с которым он не ссорился и, возможно, никогда даже не был знаком. Благодаря своему безрассудному поведению Бутвилль попал в когти Ришелье, да так и не выкарабкался из них; однако направлен был этот удар не на дуэлянта, а на Монморенси. Бутвилль был в свое время королем мира фехтования. У него в доме имелся огромный зал, где стояло великое множество оружия, как тупого, так и острого, с которым можно было практиковаться; не было недостатка и в освежительных напитках для гостей — хозяин был гостеприимен. В этом зале каждое утро собиралась молодежь, raffinés d'honneur [42], как им нравилось себя называть, чтобы пофехтовать или предаться менее невинным занятиям. В эпоху рапиры учебные шпаги уже были, хотя, похоже, большинству театральных режиссеров об этом неизвестно, поскольку они неизменно заставляют бедных Гамлета и Лаэрта выходить на бой с современными фехтовальными шпагами, которые отражают как по внешнему виду, так и по манере боя оружие, появившееся через много лет после смерти Шекспира. Впрочем, раз публика их за это не освистывает, то будем считать, что это не важно. В общем, учебные шпаги, украшавшие стены фехтовального зала Бутвилля, соответствовали рапире, рисунок типичного образца которой мы уже приводили. Описанием подвигов месье де Бутвилля на поле чести можно было бы занять целую книгу, так что мы упомянем лишь один-два из произошедших ближе к концу его карьеры. В одном случае он поссорился с графом де Пон-Жибо; дело было в храме на Пасху, но Бутвилль не постеснялся прервать молитву графа и вытащить его на улицу драться. Пон-Жибо в результате остался жив, но только для того, чтобы два года спустя пасть от руки князя де Шале. В 1626 году Бутвиллю вновь сопутствовал успех в поединке, на этот раз с графом де Ториньи, которого он убил; эта победа немало поспособствовала в дальнейшем краху Бутвилля. Да, несчастьем обернулся для месье де Бутвилля столь полный успех в бою с Ториньи, поскольку этот успех нажил ему непримиримого врага в лице маркиза де Беврона, близкого родственника убитого, который поклялся отмстить. Договориться с Бутвиллем о дуэли было делом непростым, поскольку его похождения обеспечили ему такое количество врагов и изданных лично против него декретов парламента, что Франция стала для него страной, где объявляться стало небезопасно. Однако назначить дуэль все же удалось; для этого обоим пришлось выехать в Брюссель, где они и могли спокойно подраться. Правда, Ришелье все же удалось пронюхать об их договоренности, и Людовик XIII написал эрцгерцогине, суверену Нижних Земель, с просьбой воспрепятствовать двум его подданным перерезать друг другу глотки на территории ее доминиона, каковую просьбу принцесса, питая к кровопролитию свойственное женщинам отвращение, с охотой приняла и приказала маркизу де Спиноле урезонить обоих. Добрый маркиз тут же смекнул пригласить их к себе на обед, а когда хорошее вино приведет их в добродушное расположение, тут-то и уговорить их помириться. Роль хозяина маркиз выполнил великолепно и даже упросил их прийти к внешнему примирению; но во время объятий Беврон, улучив момент, шепнул Бутвиллю на ухо: — Не забывайте, я должен вам за бедного Ториньи; я не успокоюсь, пока мы не встретимся со шпагами в руках. В Брюсселе теперь Бутвилль драться не может, потому что дал слово эрцгерцогине. Он просит ее также замолвить за него словечко перед Людовиком, чтобы тот разрешил ему вернуться во Францию. Король скрепя сердце обещает не преследовать Бутвилля в своей стране, но предупреждает, чтобы тот не смел ни при каких обстоятельствах являться ко двору. Маркиз де Беврон, на которого опала не распространяется, немедленно возвращается в Париж, откуда пишет одно за другим письма Бутвиллю с требованием все же назначить где-нибудь место и время поединка. Последний в итоге приезжает в Париж и заявляется непосредственно к Беврону домой. Тот рад визиту, но, не желая втягивать в это дело никого из своих друзей, предлагает выяснить отношения один на один. Бутвилль отвечает на это: — Вы поступайте как хотите, но со мной двое друзей, и они ждут не дождутся, чтобы обнажить против кого-нибудь свои шпаги, так что, если вы явитесь один, вам придется драться против троих. Встреча назначена на следующий день, на три часа пополудни, поскольку Бутвилль настаивал на том, чтобы бой состоялся, по его словам, au grand soleil [43], и, более того, руководствуясь своей гордыней, он потребовал, чтобы дуэльной площадкой послужила сама площадь Плас-Рояль. Секундантами Бутвилля были граф де Росмаде де Шапель, приходившийся ему родственником и постоянным спутником во всех приключениях, и некий сир де ла Берт, а Беврон привел с собой своего эсквайра по имени Шоке и маркиза де Бюсси д'Амбуаза, знаменитого своим искусным обращением с оружием. Он вообще-то был в тот момент болен, но ради друга согласился подняться с больничного одра. Дуэлянты разделись и приготовились драться. Бутвилль и Беврон так яростно набрасываются друг на друга, что быстро сходятся в ближнем бою, где длинные рапиры уже бесполезны. Шпаги отброшены, и соперники, взяв друг друга в захват, пытаются пустить в ход кинжалы; будучи равными по уровню, они взаимно приводят друг друга в столь плачевное состояние, что оба просят о пощаде, и на этом их поединок приходит к концу. Тем временем Бюсси сошелся с Росмаде, но он слишком ослаблен болезнью и совершенно не в форме для серьезного боя, поэтому вскоре пропускает удар, который пробивает ему яремную вену. Его относят в дом графа де Можирона, где вскоре он испускает дух без единого слова. Ла Берт тоже ранен, и его уносят в гостиницу «Майен», а Беврон и Шоке сразу же садятся в карету и уносятся в сторону Англии, где в итоге и скрываются. Бутвилль с Росмаде ведут себя после боя спокойнее — они сначала отправляются к цирюльнику по имени Гильеман, где приводят себя в порядок, а заодно получают совет как можно быстрее уносить ноги, потому что король сейчас здесь, в Париже. Они отвечают, что прекрасно знали об этом еще до начала схватки, и, окончательно придя в чувство, следуют далее в гостиницу «Майен», чтобы узнать о самочувствии ла Берта, и только после этого садятся в седла и неторопливо отправляются в сторону Мё. До Витри они добираются без приключений, а затем происходит событие, которому суждено было перечеркнуть все их планы. Только-только успел несчастный Бюсси испустить дух, как его сестра, мадам де Месме, отправила двоих из числа своих доверенных людей, чтобы те приняли власть над замками и землями убитого маркиза, пока не подсуетилась его тетя, графиня де Виньори, и не потребовала свою долю наследства. Прибыв в Мё, эти двое услышали о том, что тут только что проехали еще два всадника, — и тут же припустили в погоню, решив, что то были эмиссары графини, а догнав преследуемых, узнали в них убийц. Тогда они обогнали эту пару и отправились к провосту известить его о том, что один из этих двоих убил маркиза де Бюсси, правителя этих земель. Провост приказал арестовать Бутвилля и Росмаде, которые к тому времени остановились в трактире, отужинали и спокойно легли спать. Их отвезли в Париж и заточили в Бастилию. Разъяренный столь явным презрением к своим указам, король потребовал немедленного суда, и после официального приговора оба покинули этот мир 22 июня 1627 года, не на поле боя от шпаги врага, а бесславно на эшафоте от лезвия палача. Глава 20Меч правосудия Как мы только что узнали, Бутвилль и Росмаде отправил на тот свет меч палача — более стремительное и верное оружие, чем то, о котором мы уже столько рассказали — меч-эсток рыцарей и рапира миньонов. Предназначением этого меча было исключительно обезглавливание, и сконструирован он был таким образом, чтобы свое предназначение выполнять быстро и четко. Это был тяжелый меч с лезвием примерно тридцать три дюйма в длину и два с половиной — в ширину, обоюдоострый и остро заточенный, но лишенный острия; гарда его представляла собой простую крестовину, а рукоять была достаточно велика, чтобы им можно было орудовать двумя руками, хотя и не такая большая, как у боевого двуручного меча; тяжелый хвостовик делал всю конструкцию сбалансированной. Вот таким был инструмент палача. А что же тот, кто орудовал им? Об образе жизни таких людей, как общественной, так и частной, мы много можем узнать из мемуаров семьи Сансон, которые на протяжении семи поколений были наследными французскими палачами. Первого из них — Шарля Сансона де Лонгваля, благородного человека по рождению, некие обстоятельства заставили жениться на Маргарите Жуане, единственной дочери руанского палача, а поскольку сыновей у мэтра Жуане не было, по закону унаследовать ремесло после его смерти пришлось зятю. Это была единственная королевская служба, с которой не было связано никакой чести. Да, на несение этой службы действительно выдавалась грамота, но эти документы никогда не вручались получателю из рук в руки — их бросали на стол и велели забирать. 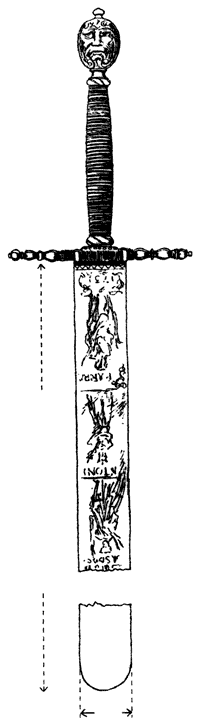 Меч палача Такие вот резкие перемены претерпела жизнь Шарля Сансона, хоть и не по его вине, а в довершение всех бед его возлюбленная Маргарита, ради которой он пожертвовал блестящим будущим, не прожила после свадьбы и года и покинула его, оставив сына, единственного будущего преемника зловещего наследства. Этот удар судьбы окончательно добил осиротевшего, и он стал мрачен и угрюм, что вполне сочеталось с тем занятием, которому он теперь должен был посвятить остаток дней. Шарль состарился прежде времени и выглядел так, что честные жители Руана узнавали его издалека и шарахались в стороны, когда он проходил мимо. По большей части они не были осведомлены о событиях его несчастной жизни, но сам образ человека, о котором известно, что «это палач», приводил всех в ужас. В это время случилось умереть парижскому палачу, и, к некоторому облегчению Сансона, городские власти предложили эту вакантную должность ему. Его официальная парижская резиденция получила в народе название Пилори-дез-Олл, и это было явно не то место, которое могло бы развеять тоску своего нового обитателя. Это было угрюмое восьмиугольное здание, над которым на шесте возвышалась вращающаяся деревянная решетка; к ней привязывали приговоренных к позорному столбу. Однако фактически никто не обязывал палача жить именно там, и Шарль Сансон предпочитал сдавать этот дом за весьма внушительную сумму, а сам поселился в почти пустынном в ту пору квартале, известном под названием «Новая Франция», где и проживали в дальнейшем все семь поколений Сансонов. Мадам ТикеМадемуазель Анжелика Карлье родилась в 1657 году. Отец ее был богатым буржуа из Метца, где сколотил состояние более чем в миллион, единственными наследниками которого были она сама и ее брат, старше на несколько лет. Отец умер, когда Анжелике было пятнадцать, и оставшийся единственным ее опекуном брат поместил ее в монастырскую школу. Таким образом, она вышла в свет молодой, богатой, образованной и исключительно красивой девушкой и мгновенно обросла кучей поклонников, среди которых было несколько в высшей степени подходящих молодых людей. Но то ли она была чересчур привередлива, то ли никому не удавалось тронуть ее сердце, но очень уж долго она колебалась, разрешив в конце концов свои сомнения в пользу некоего месье Пьера Тике, мужчины, который ей в отцы годился и по плебейскому имени которого было видно, что происхождения он какого угодно, только не благородного. Однако исключительно благодаря личным качествам он поднялся до уважаемой должности парламентского советника, что польстило тщеславию юной дамы, хотя и ни в коей мере не обеспечило ему ее страсти. Зрелый же кавалер был привлечен к ней не столько зовом сердца, поскольку романтический возраст был у него уже давно позади, сколько зовом ее банковского счета. Сей достойный господин умудрился привлечь на свою сторону двух весьма ценных союзников — брата Анжелики, выполнявшего функции ее опекуна, и тетку, которая имела на нее сильное влияние, так что в итоге девушка, движимая советами обоих родственников и перспективой стать женой такого важного человека, как советник парижского парламента, — о чем она и мечтать не могла бы, если бы не ее деньги, — преодолела свое тайное отвращение к мужчинам и решилась принять предложение советника. Кроме того, последний, хоть и был человеком по натуре своей скаредным, набрался духу и подарил предмету своих ухаживаний на день рождения великолепный букет цветов, усеянный драгоценными камнями. В общем, они поженились, медовый месяц их был весьма романтичен, длился около трех лет, и за это время у них родились сын и дочь. У мадам Тике появились экстравагантные вкусы. Хозяйство ее, со всеми каретами и многочисленными слугами, обходилось недешево, а кроме того, она открыла салон, где собиралось общество бесспорно блестящее, но, как и следовало ожидать, несколько неоднородное. Тике, у которого ничего никогда не было, кроме его жалованья, влезший в долги из-за того самого букета и прочих расходов, связанных с ухаживанием, сильно беспокоили все эти траты, и он принялся пенять жене, сначала нежно, а потом жестче и даже повелительно, в результате чего чувства дамы к нему сменились сперва с уважения на равнодушие, потом с равнодушия на раздражение и в конце концов обернулись полным отвращением. Среди завсегдатаев салона был некий капитан де Монжорж, армейский офицер. Он был молод, красив, по-солдатски подтянут и весьма любезен, представляя собой полную противоположность неприветливому, угрюмому, скаредному старику, так что неудивительно, что мадам воспылала к этому мужчине жгучей страстью. Она совершенно потеряла голову и настолько забылась, что вскоре их отношения стали предметом обсуждений всего Парижа. Слухи дошли, наконец, до самого месье Тике. Ошеломленный старик, который до того момента ничего не замечал, пришел в ярость и принялся за выдворение Монжоржа из дому и, более того, за прекращение приемов у своей жены вообще, что, понятно, не способствовало улучшению домашней обстановки, так что Анжелика решила во что бы то ни стало избавиться от этого ярма на своей шее. Это было, в принципе, реально, учитывая размер приданого, которое она принесла в семью. В лице брата и тети, подтолкнувших ее в свое время к этому браку, она обрела на этот раз помощников, и их совместными усилиями на несчастного обрушился сонм кредиторов, юристы которых возбуждали против него одно дело за другим, и ему ничего не оставалось, кроме как продать свой дом, а жена воспользовалась этим обстоятельством, чтобы подать на раздел имущества. Старый Тике тем временем тоже не сидел сложа руки. Он пожаловался на интриги жены всем своим друзьям и коллегам, завоевал их на свою сторону и в итоге получил против нее lettre de cachet [44]. Ощутив себя теперь хозяином положения, он стал обращаться с женою еще жестче, чем прежде, призывая ее быть в будущем более покорной, если она не хочет расстаться со своей свободой, и уж во всяком случае забыть о своем возлюбленном капитане. Дама устроила истерику, обвинив его, помимо прочего, в том, что он подкупил слуг, чтобы те шпионили за ней. Зажатый в угол Тике стал трясти у нее перед носом королевским указом и пообещал пустить его в ход, но Анжелика, как разъяренная кошка, прыгнула на него, выхватила документ из рук и бросила в огонь. Потрясенный и посрамленный старик в бешенстве сотрясал воздух ругательствами, а впоследствии обошел много влиятельных людей в попытках получить еще один указ, но везде наталкивался или на вежливый отказ, или на неприкрытое злорадство. Вскоре над ним смеялся уже весь Париж, и уж точно — весь двор, а в довершение всех бед жене удалось-таки добиться раздела имущества, хоть они и продолжали пока жить в одном доме. Ей бы на этом и успокоиться, но, к несчастью, победа только разожгла ее аппетит, и она решила избавиться также и от самого Тике, заменив его столь привлекательным капитаном, с которым продолжала все это время тайно встречаться. Дождавшись, когда однажды старик занемог и не выходил из комнаты, она собственными руками сварила ему супчик, добавив в него какие-то травки посильнее обычных приправ, и приказала слуге отнести этот суп хозяину. Лакей догадался, что дело тут нечисто, нарочно споткнулся о ковер и упал, разбив супницу и расплескав все содержимое. Он тут же поднялся, рассыпался в извинениях, собрал все осколки и покинул комнату, но хозяину так ничего о своих подозрениях и не сказал, так что старый Тике не узнал, что был на волосок от гибели. Тогда мадам Анжелика стала искать другие способы воплотить свой злой замысел. Ей удалось привлечь на свою сторону привратника и еще несколько десятков слуг, и однажды вечером с их участием она устроила засаду на узкой тропинке, по которой Тике возвращался домой, но в последний момент испугалась, все отменила и разослала несостоявшихся убийц по домам, не забыв приплатить им за молчание. Ничего обо всем этом не зная, старый Тике становился тем не менее все подозрительнее. Решив, и не без основания, что привратник ему неверен, старик отослал его и стал следить за воротами самостоятельно, в связи с чем друзьям жены во входе практически всегда отказывалось. Это довело даму до белого каления, и однажды вечером, когда Тике возвращался домой от друга, в него в упор всадили с полдюжины пуль. К счастью, ни одна из ран не оказалась смертельной; быстро подбежавшие люди подняли его и хотели отнести домой, но он резко воспротивился этому и заставил их нести его обратно к другу, от которого вышел. Вечер был темный, нападение — внезапным, и узнать никого из нападавших Тике не удалось, но его отказ переместиться домой, под нежную заботу жены и детей, был воспринят общественностью с недоумением и послужил поводом для оживленного обсуждения взаимоотношений между ним и женой. Подлило масла в огонь и известие о том, что мадам Тике примчалась в дом, где находился ее супруг, сразу же, как узнала о случившемся, но ее не впустили. После того как хирург перевязал жертве покушения раны, к подстреленному явился полицейский судья, взявшийся за расследование этого дела. Но на все вопросы о том, каковы могли бы быть причины нападения, старик неизменно отвечал, что во всем мире нет и не может быть у него врагов, кроме жены. Это звучало зловеще, и многие друзья советовали даме бежать, пока не поздно, но та была слишком уверена в том, что свидетелей нападения не было, а кроме того, будучи по характеру человеком легковерным, она побывала у хироманта или еще у какого-то чернокнижника, который нагадал ей, что совсем скоро она достигнет такого положения, когда ни один враг не сможет причинить ей вреда. В общем-то, конечно, так оно и вышло, но совсем не таким образом, каким она ожидала. Нападение на месье Тике в сочетании с его обвинениями закономерно привело к расследованию, мадам Тике была арестована и заключена в тюрьму Гран-Шателе. Начался суд, но никаких улик против нее не было, пока не появился один не в меру услужливый тип из числа нанятых для первого — отмененного, как мы помним, — покушения, который встал и добровольно заявил о том, что через привратника получал от этой дамы деньги как аванс за убийство ее мужа. Оба — и доносчик, и привратник — тут же были арестованы, последовало несколько очных ставок с дамой, но, хотя в процессе и всплыло с дюжину имен участников первого заговора, ни одного из убийц, действовавших во второй раз, выявить не удалось. Что ж, бедную женщину осудили за первое, несостоявшееся покушение и приговорили к обезглавливанию на Гревской площади, привратника — к повешению, а доносчика — к пожизненному заключению. В те времена принято было в промежутке между вынесением приговора и приведением его в исполнение предать приговоренного пыткам, чтобы он выдал имена сообщников, буде таковые имелись. Так и мадам Тике привели в пыточную, где потребовали от нее признаться в преступлении и назвать имена других участников заговора. После того как она отказалась это сделать, ее подвергли пытке водой. Пытка эта проводилась так: преступника клали на спину и пристегивали к деревянной кровати, около которой стояли восемь горшков с водой по пинте каждый. Затем в рот несчастного вставляли коровий рог, через который воду вливали ему в глотку. «Обыкновенный допрос» подразумевал использование четырех горшков, «чрезвычайный» — восьми, и порой допрашиваемый отходил в мир иной еще до конца допроса. Именно этой процедуре мадам Тике и подвергли, но не успела она проглотить и первый горшок, как готова была уже сознаться во всем. Когда ее спросили, знал ли о заговоре Монжорж, она воскликнула: — Нет, конечно! Если бы я только заикнулась об этом, я бы навсегда потеряла его любовь, а это для меня хуже смерти! После допроса ее препроводили, как принято, в телеге на место казни, где поджидал Сансон с помощниками. Шарль Сансон никогда не любил свое ремесло, а в данном случае он был особенно озабочен, и, когда на эшафоте появилась приговоренная, его охватило странное чувство. Ему показалось, что перед ним — его утерянная Маргарита, что полностью лишило его мужества. Заставив преступницу принять положение, необходимое для осуществления казни, он поднял свой могучий меч, тот со свистом рассек воздух и опустился на шею жертвы. Но голова не упала, на шее лишь зияла огромная рана, из которой вытекала кровь. Палач ударил еще раз — и снова с тем же успехом, кровь из множества перерубленных артерий хлестала во все стороны, а толпа принялась свистеть и улюлюкать. Сам не свой от криков и собственной беспомощности, Сансон изо всех сил рубанул в третий раз, и теперь голова несостоявшейся убийцы скатилась к его ногам. Мастерский удар палачаМесье Дюваль де Суакур был помощником полицмейстера города Аббевиль. Внешний облик этого господина был необычен — очень высокий, худощавый и угловатый, с длинным, острым, неправильной формы носом, тонкими поджатыми губами, на которых улыбка появлялась только как показатель злорадства, и хмурыми зеленоватыми глазками, проглядывавшими из-под густых бровей. Внутренний облик этого человека полностью соответствовал внешнему. Можете представить себе этого злого духа истории, которую мы сейчас расскажем. Как ни странно, нашлась женщина, решившая выйти замуж за этого крайне непривлекательного господина, поскольку на момент нашего с ним знакомства у него уже есть сын, который, кажется, из тех яблок, что падают недалеко от яблони. Случилось так, что наш обаятельный папаша стал опекуном маленькой девочки, весьма богатой наследницы, и отправил ее получать образование в монастырь в Вилланкур, настоятельницей которого была почтенная дама благородного происхождения, которую любили и уважали все, кто ее знал. Когда юной даме подошло время выходить замуж, месье де Суакур собрался было исключительно из корыстных соображений выдать ее за своего сына, но девушка питала столь неприкрытое отвращение к предназначенному ей выбору, что настоятельница, обладая достаточным влиянием, добилась того, чтобы Суакура вообще лишили опекунства. Тот был разъярен и поклялся отмстить, решив, что та приберегла столь лакомый кусочек для своего молодого кузена — шевалье де ла Барра. За несколько лет до того на мосту в Аббевиле установили распятие, и вот произошло событие, сыгравшее на руку месье де Суакуру. Кто-то совершил богохульное святотатство — под покровом ночи отломал статуе руку, украл терновый венец, а лик вымазал грязью. Как раз в то время религиозные отношения в обществе были очень напряженными, философы и мыслители низвергали святыни, а король только что издал указ против иезуитов. Необходимое повторное освящение, которое с большой помпой провел епископ, нисколько не успокоило общественность. Истинных виновников происшествия так и не нашли. По приказу епископа помощник полицмейстера начал тогда расследование и опросил множество свидетелей, но никто из них не видел того момента, когда все происходило, так что расследование оказалось бесплодным. Но вот несколько дней спустя после лишения опекунских прав произошло еще одно событие, крайне незначительное, но предоставившее Суакуру возможность осуществить свой зловещий план мести. Шевалье де ла Барр шел с другом по улице, и, когда навстречу им попалась монашеская процессия, оба молодых человека позволили себе не приветствовать святых отцов снятием шляп, что вполне могло быть объяснимо тем обстоятельством, что лил дождь. Суакур тут же увидел свой шанс. Он связал этот пустяк с давним делом о вандализме и выдвинул обвинение в богохульстве, святотатстве и еще бог знает в чем против нескольких молодых людей из самых влиятельных в округе семейств. Большинству из них удалось ускользнуть из его лап, но шевалье де ла Барр попал под арест и после скорого суда был приговорен к обезглавливанию и сожжению останков. Он подал апелляцию, но ее отклонили. Для исполнения приговора из Парижа в Аббевиль был выслан главный палач. Утром в день казни шевалье усадили в телегу между священником и палачом и подвезли сперва к церковному крыльцу, где, согласно обычаю, злодеям предлагалось произвести amende honorable (признаться в содеянном и согласиться со справедливостью приговора), где он наотрез отказался повторять полагающиеся слова, настаивая на том, что невиновен и не собирается перед смертью запятнать себя ложью. Оттуда телега подъехала к эшафоту. Все готово. Палач командует ла Барру встать на колени, как того требует обычай. Шевалье отвечает, что обычай не для подобных случаев, потому что это преступники должны вставать на колени, а он — не преступник. Озадаченный палач спрашивает: — Ну и что же мне делать? — Что положено. Я не буду мешать, — отвечает ла Барр. Собравшись с духом, палач наносит мощный горизонтальный удар, который, кажется, проходит шею жертвы прямо насквозь, не произведя никакого видимого воздействия; но секунду спустя колени казненного подламываются, тело падает, и голова катится по эшафоту. Примечания:3 Беспощадные бои (фр.). (Примеч. пер.) 4 Круг фехтовальщиков (фр.). (Примеч. пер.) 32 Цит. по пер. Б. Пастернака. (Примеч. пер.) 33 Пожиратель юношей (фр.). (Примеч. пер.) 34 Цит. по пер. Б. Пастернака. (Примеч. пер.) 35 Цит. по пер. С. Бондаренко. (Примеч. пер.) 36 Цит. по пер. Т. Щепкиной-Куперник. (Примеч. пер.) 37 Бой без пощады (фр.). (Примеч. пер.) 38 Изначальное значение слова «миньон» во французском языке — «милашка». Лишь впоследствии этот термин закрепился за королевскими фаворитами. (Примеч. пер.) 39 Живость сердечная (фр.). (Примеч. пер.) 40 Твой дом будет сожжен, твоя жена изнасилована, твои дети повешены. Твой смертельный враг ла Гард (фр.). (Примеч. пер.) 41 Нос долой (фр.). (Примеч. пер.) 42 Цвет дворянства (фр.). (Примеч. пер.) 43 При свете дня (фр.). (Примеч. пер.) 44 Королевский указ об изгнании или заточении без суда и следствия (фр., ист.). (Примеч. пер.) |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
