|
||||
|
|
Заря славянстваИсточникиРаботу исследователей славянских древностей затрудняет относительный недостаток источников и трудности в их истолковании. Тем не менее по сравнению с древнейшими этапами славянского этногенеза источниковая база истории славян V–VIII вв. уже достаточно широка. Наиболее достоверным (если говорить о письменных источниках) материалом для воссоздания раннесредневековой истории славян являются современные описываемым событиям иностранные источники. Для древнейшего периода количество письменных известий, относимых к праславянам, можно пересчитать по пальцам. Но с VI в., в связи с возросшей военно-политической активностью славян, наступает — по сравнению с предшествующими веками — настоящий «источниковый бум». Для V — первой половины VI в. наиболее велик объем византийского грекоязычного корпуса источников. Уже в V столетии мы находим исключительно важные для решения проблемы славянского этногенеза данные у восточно-римского историка Приска. В первых десятилетиях VI в. славяне — один из главных внешних противников Империи, и ромейские авторы уделяют им немалое внимание. Наиболее подробные сведения о славянах этого времени имеются у Прокопия Кесарийского. Выполненный в традициях античной историографии объемный труд этого автора об истории Империи времен правления Юстиниана — «Войны» — охватывает период с 527 по 553 г. Для славянской истории ценность представляют последние книги труда Прокопия — с пятой по восьмую, составляющие историю многолетней Готской войны за обладание Италией. Здесь содержатся как данные о конкретных фактах славяно-ромейских отношений, так и обширное отступление об обычаях славян и внутреннем устройстве их общества. Некоторые дополнительные сведения сообщаются Прокопием в трактате «О постройках» — панегирике, посвященном строительной деятельности Юстиниана и написанном спустя несколько лет после «Войн». Как грозные противники Империи фигурируют славяне в «Тайной истории» (или «Неизданном»). Этот острый и во многом несправедливый памфлет сочинен Прокопием в период работы над «Войнами», но направлен против императора и его мероприятий. Количество греко-византийских источников, дополняющих сведения Прокопия, сравнительно невелико. По сути, если говорить о фактической стороне славянской истории первой половины VI в., Прокопий — чаще всего единственный источник. Сведения Прокопия об антах и славянах на имперской службе дополняет его продолжатель Агафий Миринейский, чей труд «О царствовании Юстиниана» («История») охватывал период с 553 по 559 г. Достаточно ценные сведения о нравах славян того времени приводит в своем труде автор богословско-научного сочинения середины VI в. «Ответы на вопросы». Он известен в науке как Псевдо-Кесарий (труд сохранился под именем богослова IV столетия Кесария Назианзского). Данные, имеющие отношение к славянской истории первой воловины VI в., но без имени славян, находим в сборнике житий Иоанна Мосха «Луг духовный» (рубеж VI/VII вв.). Сведения о борьбе с «варварами» на дунайской границе имеются в указах (новеллах) императора Юстиниана. Среди титулов Юстиниана имелся титул «Антский», отражавший его успехи в противостоянии славяноязычным племенам антов. Наконец, упоминание о важном персонаже «славянского» экскурса Прокопия, Хильбуде, обнаружено среди константинопольских надгробных надписей. Латинские источники о славянах сперва менее многочисленны, чем греческие. В первой половине VI в. это, прежде всего, сочинения, созданные на территории Империи. Важнейшее из них — труд остготского историка Иордана «О происхождении и деяниях гетов» («Гетика»). Он в значительной степени касается предшествующей эпохи славянской истории, но содержит и ценные сведения о расселении славян в начале VI в. Данные эти, как и большую часть своих сведений, Иордан почерпнул из сочинения римлянина Кассиодора, служившего готским королям и написавшего их историю. Сокращением труда Кассиодора и является «Гетика» Иордана, написанная уже в обстановке краха готского королевства в Италии под ударами ромеев. Славян и антов Иордан упоминает в другом своем сочинении — «О сумме времен, или О происхождении и деяниях римского народа» («Романа»). Латинский хронист комит Марцеллин, описывавший события в Империи конца V — первой половины VI в., не упоминает имени славян. Но он говорит под 517 г. о неких «гетах», в которых (с учетом сведений позднейшего греко-византийского историка Феофилакта Симокатты) считают возможным видеть славян или антов.  Река Дунай. Современный вид Из позднейших латинских источников исключительное значение для изучения расселения славян и происхождения славянских племен имеет сочинение IX в., известное как «Баварский географ». Содержащийся в нем подробный перечень славян Центральной и Восточной Европы включает большое количество уникальных данных, в том числе предание о происхождении западнославянских племен. С византийскими событиями и византийской традицией связаны сведения о древних славянах в некоторых восточных источниках. Из Империи, несомненно, получена информация «Армянской географии» VIII в. о славянах во Фракии. В этом известии содержатся ценные сведения о происхождении славян, позволяющие уточнить данные средневековых славянских преданий. Антские набеги упоминаются в одной средневековой еврейской заметке. С появлением Арабского Халифата информацию о славянах получают арабы. Известнейший арабский историк и географ, «арабский Геродот» Х в. ал-Масуди передает восточнославянское предание о происхождении славянских племен, не имеющее прямых аналогов в русских летописях. Особую группу мусульманских источников составляют уникальные сообщения местных персидских хроник XIII–XV вв. Это «История Табаристана» Ибн Исфендийара и «История Табаристана, Руйана и Мазандерана» Захир-ад-дина Мараши. Их известия о контактах Сасанидского Ирана со славянами в V–VI вв. могут восходить через ранние, несохранившиеся переложения мусульманских авторов еще к Сасанидским местным хроникам. Вторая часть книги охватывает период с середины VI по начало VII столетия. Это время стало в известном смысле рубежным в истории расселения славянских народов по Центральной и Юго-Восточной Европе, а также в их длительном противостоянии с Восточно-Римской Империей. К концу его уже складывалась славянская этническая территория в ее средневековом виде. Расселение славян на северо-запад и переход ими Дуная по всему нижнему течению стали основой для разделения их позднее на три ветви — южных, западных и восточных. С начала 560-х гг. исторические судьбы славян оказались теснейшим образом связаны с пришедшим из глубин Азии кочевым народом авар. Авары явились фактором, подтолкнувшим дальнейшие движения славянских племен. Пути славян и авар с момента появления последних в Европе переплелись не менее чем на полвека. Авары стали, по удачному определению Л. Нидерле, «новым сильным противником и в то же время новым союзником славян». Борьба славян за свою независимость против Аварского каганата, с одной стороны, и часто совместные с аварами войны против Империи — с другой, составляют главное содержание истории Восточной Европы того времени. Все это дало основания дать второй части работы название — «Аварика». Объем письменных источников для второй половины VI — начала VII в. многократно увеличивается по отношению к предыдущему периоду. Возросшая активность славян, начало их переселения на Балканы приводят к многократному их упоминанию в письменных источниках Восточной Империи. В результате мы располагаем достаточно полной картиной, во всяком случае, «внешней» истории славянских племен между 552 и 602 гг. Из греческих историков, описывающих ситуацию 550-х гг., следует назвать Прокопия Кесарийского («Война с готами», «О постройках») и Агафия Миринейского («О царствовании Юстиниана»). Нашествие болгарского хана Забергана в 559 г., в котором приняли участие и славяне, отражено в целой группе синхронных памятников. Подробнее всего рассказывает о нашествии Агафий Миринейский, но при этом не упоминает о славянах. О них, однако, сообщает в своей «Хронике» другой грекоязычный историк, современник событий — сириец Иоанн Малала, а также писавший на родном языке его соотечественник — Иоанн Эфесский. Продолжатель Агафия, греческий историк Менандр Протектор описал в своей «Истории» события с 559 по 582 г. Этот труд, к несчастью, дошел до нас лишь во фрагментах, однако сохранил ценнейшие, чаще всего уникальные сведения о первых аваро-славянских столкновениях и «славянской» политике Константинополя. Менандра продолжал, в свою очередь, Феофилакт Симокатта, писавший уже около 628–630 гг. Его «История» охватывает события с 582 по 602 г. и повествует, в частности, о нескольких ромейско-славянских войнах этого двадцатилетия. Создавший уже в начале IX в. свою обобщающую «Хронографию» Феофан Исповедник использовал для описания событий второй половины VI в. Феофилакта и некоторых других известных авторов. Но, например, при описании нашествия 559 г. он наряду с Агафием и Малалой привлек и некоторые другие, неизвестные ныне источники. Не исключено, что Феофан использовал полную версию труда Менандра или иного автора, продолжавшего Агафия. На фоне частых и подробных упоминаний славян в общеисторических трудах Империи может показаться странным отсутствие сведений о них в единственном церковно-историческом сочинении эпохи — «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Однако Евагрий и об аварских нашествиях упоминает лишь в нескольких местах и вскользь. Зато весьма ценные сведения о действиях славян в южной части Балкан сообщаются обширным агиографическим памятником VII–VIII вв. — собранием «Чудес святого Димитрия Солунского». Ценность этих данных определяется тем, что большинство историков рассматривали лишь события во Фракии, в непосредственной близости от Константинополя. Известия фессалоникийских по происхождению «Чудес Дмитрия Солунского» поэтому уникальны. Автор «Первого Собрания» «Чудес» — Иоанн, архиепископ Фессалоники, являлся непосредственным современником и участником событий конца VI столетия. Писал свой труд он в начале VII в., около 610–615 гг. Как опасные враги Империи славяне становятся предметом изучения для ромейских военных теоретиков — автора «Анонимного военного трактата» («О военном искусстве») последней четверти VI в. и в написанном в то же время «Стратегиконе». Особенно ценен для нас «Стратегикон», авторство которого традиционно (и от этого не менее убедительно) связывается с именем императора Маврикия. «Стратегикон» сообщает многочисленные сведения о внутреннем устройстве славянского общества, обычаях, хозяйстве, материальной культуре. Для истории славян второй половины VI в. он имеет то же значение, что «этнографический» экскурс из «Войны с готами» Прокопия — для истории славян первой половины века. При этом автор «Стратегикона» гораздо подробнее и конкретнее в своем изложении, чем Прокопий. Известия близких по времени авторов в целом, как уже говорилось, ограничиваются северо-восточной частью Балкан. Для изучения обстановки на крайнем юге, в древней Элладе, в частности, на Пелопоннесе, и на северо-западе, в Далмации, следует обращаться к источникам более поздним. Это трактат «Об управлении Империей» Константина Багрянородного, схолия Арефы на «Летописец вкратце», анонимная «Монемвасийская хроника». Несомненно, что авторы Х в. использовали не дошедшие до нас более древние источники. Для сравнения с ними можно привлекать еще более позднюю информацию — из послания патриарха Николая III (XI в.), «Петиции Исидора» (XV в.), малых хроник XVI–XVII вв. Следует также назвать сохраненный славянским переводом памятник VIII в., первоначально грекоязычный — т. н. «Именник болгарских ханов (князей)». Среди первых имен в этом ханском списке выделяются славянские. Это может свидетельствовать о тесных связях болгар со славянами еще в период до создания Болгарского ханства на Балканах. Из сирийских авторов VI в. о славянах писал упоминавшийся выше Иоанн Эфесский, автор монофизитской «Церковной истории». В этом труде имеются сведения о болгаро-славянском нашествии 559 г., войнах Империи с аварами и славянами в начале 580-х гг. Часть «славянских» известий Иоанна Эфесского сохранилась в передаче позднейших сирийских хронистов — Михаила Сирийца (XII в.) и Бар-Эбрея (XIII в.). В арабском сочинении IX в. «Китаб ал-махасил ва’л-аддад» имеется уникальное известие о судьбе славянских пленников императора Маврикия. Латинские источники по истории славян в рассматриваемый период менее многочисленны, чем греческие, но их опять же больше, чем в предшествующий период. Мартин Бракарский в эпитафии святому Мартину Турскому (558 г.) сообщает уникальные сведения о начале христианизации славян в этот период. Африканец Виктор Тонненский в своей «Хронике» описывает болгарское нашествие 559 г. (правда, без упоминания славян). Его продолжатель, испанец Иоанн Бикларский дважды упоминает в своей «Хронике» славянские набеги на Империю. Фрагментарность труда Менандра Протектора увеличивает значение известий негреческих хронистов — Иоанна Бикларского и Иоанна Эфесского. Столь же интересны сведения, содержащиеся в письмах папы Григория I Великого о начале проникновения славян в Далмацию и Италию. Это единственное свидетельство современника об этих событиях. Лангобардский историк Павел Диакон (конец VIII в.) в «Истории лангобардов» рассказывает о первых столкновениях славян с баварами. Память о них сохранялась и позднее в местных немецких преданиях средневековья. «Баварский географ» IX в. ценен, прежде всего, как первое перечисление славянских племен. Вторая половина VI в. — период интенсивного расселения именно в западной части славянского мира и складывания существовавших и в IX в. племен и племенных объединений. Далматинский хронист XIII в. Фома Сплитский сообщает о первом появлении славян в Далмации. Его известия, основанные на городском предании, могут быть сопоставлены с более древней информацией Константина Багрянородного и далее — с письмами папы Григория. Таким образом, фонд источников по истории славян для рассматриваемого периода действительно расширяется по сравнению с предыдущим. Однако он еще не столь неохватен, чтобы затруднить полное обобщение сведений в рамках настоящей работы. Особое место среди иностранных источников занимают скандинавские. Это обусловлено тем, что Скандинавия в раннем средневековье не имела письменной историографии (несмотря на наличие рунического письма). Данные скандинавских источников о ранних контактах со славянами, следовательно, восходят исключительно к устной традиции. Часть этих сведений (в памятниках героического эпоса) заимствована из континентального германского предания эпохи Переселения Народов и не имеет непосредственного отношения к теме настоящей работы. «Деяния данов» Саксона Грамматика передают (в искаженной форме) русское сказание о «короле» Бое. Оно находит параллель в записях устных преданий с территории Белоруссии XIX в. и восходящее к племенной мифологии славян-кривичей. Появление этого сказания в датской хронике объясняется родовыми связями между датской династией Кнютлингов и правившими в Полоцке Всеславичами. Следует особо упомянуть норвежскую «Сагу о Тидреке» (XIII в.) — переложение немецкого эпоса, содержащую некоторые славянские по происхождению сюжеты. Основной корпус преданий о происхождении восточных славян и предыстории Руси содержался в русских летописях второй половины XI — начала XII в. — Начальной и «Повести временных лет». Некоторые ценные сведения имеются в позднейших памятниках — например, в Устюжском летописном своде XVI в., использующем более древнюю Смоленскую летопись. Другие русские и украинские авторы XVI–XVII вв. фиксировали устные предания своего времени о древнейшей поре восточнославянской истории. Эти записи не всегда точны и исторически далеко не безусловно достоверны, но сообщаемая ими информация также может быть привлечена к исследованию. Местное русское летописание непосредственно переросло в XVIII–XIX вв. в раннее краеведение. Непрерывность политической традиции в Чешском княжестве (королевстве) с VII в. обусловила неплохую сохранность здесь древнейших исторических преданий. Эти предания здесь более чем где-либо играли роль официальной истории. Потому они сразу же отразились у хронистов — Козьмы Пражского (1 четверть XII в.), Далимила (начало XIV в.), позже у Пржибика Пулкавы, Неплаха из Опатовиц (середина XIV в.). Из поздних исторических сочинений оригинальную информацию, почерпнутую из устного предания, содержали труды Кутена из Шпринсберка и Гаека из Либочан (XVI в.). Польская историография сперва не выходит в глубь веков за пределы IX столетия, когда началось правление династии Пястов. Только с рубежа XII/XIII вв. на страницах польских хроник появляются предания о более древней поре, что было связано со стремлением максимально удревнить существование Польского государства. За написанной в этой время хроникой Винцентия Кадлубка в конце XIII в. последовали в Великой Польше — Богухвал, в Кракове — Дежва. Применение древнейших по описываемым временам разделов польских хроник как исторических источников затрудняется упомянутым стремлением к «удревнению» истории. Оно выражалось, в частности, в разделении легендарных польских «королей» на нескольких одноименных персонажей — явление, известное, в частности, и в Скандинавии. Другая трудность связана с соперничеством Великой и Малой Польши. Оно вызывало переносы хронистами «королевских» резиденций древнейших времен из великопольских Гнезна и Крушвицы в малопольский Краков и обратно. Хронист XV в. Ян Длугош в своем монументальном труде обобщил данные предшествующих польских историков, пополнив их информацией из устных преданий. Кроме того, он включил в свою хронику пересказ несохранившейся до нашего времени древнерусской летописи (Киевской конца 1230-х гг.) с некоторыми оригинальными сведениями о предыстории Руси. Из позднейших польских историков XVI в., использовавших для расширения информации о древности фольклорный материал, следует назвать М. Меховского, М. Кромера, М. Бельского, М. Стрыйковского. Впрочем, в «польской» части они в основном повторяют с некоторой авторской обработкой труд Длугоша. Сведения поздних русских летописцев, польских и чешских хронистов, использовавших фольклорную традицию, напрямую смыкаются с устными историческими преданиями, записывавшимися в XVIII–XX вв. Нередко фольклористы нового времени записывали те же сюжеты, что и авторы позднего средневековья. Количество преданий, восходящих к славянской древности до IX в., сравнительно невелико. Но таковые все же имеются и могут использоваться исследователем в качестве вспомогательного материала. Ценным источником по истории славянского общества являются нормы обычного права. При их исследовании важно вычленить нормы, являющиеся общеславянскими, а также местные нормы, восходящие к догосударственному, дофеодальному и дохристианскому времени. Конечно, наибольшую ценность представляют самые ранние писаные правовые своды, в основе которых лежит в том числе обычное право. Это «Закон судный людем», созданный в Болгарии или Великой Моравии в IX в., и древнейшая «Правда Русская». Немецкое «Швабское зерцало» (XIII в.) содержит некоторую информацию об обычном праве предков словенцев — хорутан, остававшемся еще на уровне начала IX столетия — времени вхождения Каринтии в Западную Империю. К этим памятникам близки и первые попытки свести воедино обычное право в «чистом» виде. К средневековым трудам такого рода относятся «Рожмберкская книга» в Чехии, «Эльблонгская книга» в Польше, «Винодольский закон» в Хорватии, написанные на протяжении XIII–XIV вв. Некоторую ценность для сопоставления представляют и нормы обычного права, засвидетельствованные в XVIII–XIX вв. Это относится, прежде всего, к обычному праву черногорцев, которые сохранили родоплеменной уклад и традиционное право вкупе с политической самостоятельностью. Основным правовым сводом Черногории был «Закон общий черногорский и горский», созданный в конце XVIII в. В особый корпус можно выделить сведения письменных источников позднейшего времени о славянской «языческой» религии. Пантеон и мифология сложились в основном еще в общеславянскую эпоху, хотя основной объем данных о них относится к более позднему времени, чем V–VIII вв. Наибольшее количество данных мы имеем по восточнославянскому (древнерусскому) «язычеству». Это, прежде всего, упоминания языческих богов в договорах с Византией Х в. Сведения о дохристианском пантеоне, отдельных мифах и поверьях есть в летописях (Начальной и «Повести временных лет»), в житийных памятниках (жития святых равноапостольного князя Владимира и преподобного Авраамия Ростовского). Обширнейший материал предоставляет богатая древнерусская литература «Слов» и «Поучений» против язычества, наиболее значимые памятники которой относятся к XI–XIII вв. Ценнейшие сведения по восточнославянской древней религии, мифологии, идеологии дают метафорические обороты «Слова о полку Игореве», уникального памятника дружинного эпоса XII в. Как и в ряде других европейских поэтических традиций, такого рода обороты восходят в средневековой поэтике еще к дохристианской эпохе. Отдельные упоминания языческих богов вставляются в переводные памятники — хронику Иоанна Малалы, «Беседу трех святителей», «Хождение Богородицы по мукам». Сведения о древних языческих культах, почерпнутые из устных преданий, имеются также в ряде памятников летописания XVII–XVIII вв. Это «Сказание о зачале Новаграда», «Историчествующее описание» Т. Рвовского, «Сказание об основании Ярославля». Они смыкаются с фольклорными воспоминаниями о капищах древних богов, зафиксированными в новое время именно у восточных славян. Довольно многочисленны источники по западнославянскому «язычеству». Но наибольший объем сведений касается пантеонов балтийских славян и сохранен германскими хронистами XI–XIII вв. — Адамом Бременским, Герборгом, Эббоном и др. Некоторые дополнительные сведения содержатся в датских источниках (Саксон Грамматик, «Сага о Кнютлингах»). Местные немецкие историки XVI–XVIII вв. иногда пытаются пополнить информацию предшественников. Но их «открытия» чаще всего оказываются на поверку домыслами или прямыми фальсификациями на модную тогда тему. Данные о польском пантеоне появляются позже, чем о балтийско-славянском, и они неизбежно скуднее. Список польских богов содержится у Длугоша, его несколько дополняет Меховский. Этим письменные сведения о древних богах Польши и их культе исчерпываются. Чешский дохристианский пантеон раскрывает большее количество источников, но их информация еще беднее. Основной список чешских богов содержит сочинение «Mater verborum». Он может быть дополнен за счет сведений авторов XIV–XVI вв. (Неплах из Опатовиц, Ткадлечек, Гаек из Либочан), а также перевода библейской книги Иисуса Сираха со вставленным именем бога Велеса. Все сведения о польском и чешском пантеонах почерпнуты авторами позднего средневековья из устной традиции, практически умершей уже к XIX столетию. Единственное южнославянское упоминание языческого бога — вставка имени Поруна (Перуна) в болгарский перевод хроники Малалы. Некоторые сведения о языческих верованиях содержатся в болгарских христианских памятниках XI–XIII вв. — Индексе запрещенных книг, Синодике царя Борила и др. Ранняя христианизация и культурное влияние Византии обусловили отсутствие интереса к языческим культам в средневековой южнославянской литературе. В ряде древнерусских апокрифических сочинений на библейские темы, созданных в явно еретических или псевдоортодоксальных кругах, имеются оригинальные мотивы, сопоставимые с данными о дохристианских мифах. Это «Сказание о царе Волоте Волотовиче», «Рукописание Адама», «Об озере Тивериадском». Такое слияние христианских и дохристианских мотивов характерно в разной степени для народных легенд всех славян, а также отдельных русских народных духовных стихов. Ряд архаичных жанров славянского фольклора сохраняют ценную информацию о древней культуре, религии, общественной жизни. К ним относятся обрядовая поэзия, заговоры-заклинания, пословицы, поговорки, загадки, «мифологические рассказы», «мифологические» предания (о великанах и др.), волшебные сказки. Некоторые древние мотивы сохраняет и славянская животная сказка. К самым древним эпическим жанрам относятся т. н. «мифологические песни» южных славян, где действуют обожествленные силы природы и персонажи «низшей» народной мифологии. Имеются и отдельные образцы классического героического эпоса, восходящего к догосударственной и дохристианской эпохе. Они есть в числе русских былин, белорусских богатырских сказов, южнославянских юнацких песен. Древние мотивы — не редкость и в позднейших по происхождению памятниках этих жанров. Они встречаются и в тех жанрах фольклора, что появились многим позже общеславянской эпохи — лирических песнях, балладах и даже в социально-бытовых сказках. Тесно связан с обрядовым и иногда является результатом его «снижения» игровой фольклор. Неоценимую помощь исследователю оказывают данные археологии, языкознания, этнографических и разного рода сравнительных исследований. В условиях явного дефицита письменных известий археологические и лингвистические исследования оказываются базой, на которой и строится наше знание о славянах раннего Средневековья. Иначе обстоит дело с данными этнографии, отражающими позднейшую историческую реальность. Их следует привлекать лишь в сопоставлении с материалами археологии и языкознания. ПрологРим и варварыВ 476 г. пала Западная Римская Империя. Это событие, положившее конец античной эпохе и рассматриваемое в современной науке как начало средневековья, стало итогом более чем столетнего кризиса державы, управлявшей большей частью Европы. Острый кризис, связанный с упадком классического античного рабовладения, подорвал основы хозяйства Империи, вылился в многочисленные восстания и гражданские смуты. Социальные конфликты переплетались с этническими. Ярким выражением этого стало бушевавшее на протяжении двух столетий антиримское движение в Галлии (т. н. восстание багаудов). Попытки выйти из кризиса за счет «феодализации» рабовладельческого хозяйства (поселение на землю рабов и полусвободных колонов) не принесли вполне положительного результата. Социально-экономический кризис уже усугублялся политическим и тесно переплетался с ним. Рост сепаратизма имперских провинций имел своим следствием фактический распад государства на полунезависимые регионы во главе с представителями местной аристократии или даже имперскими полководцами-наместниками. В провинциях не раз провозглашались узурпаторы императорского престола. Некоторые из них и не пытались завладеть Римом, удовлетворяясь властью в своих землях. В результате подобных действий с первого десятилетия V в. фактически отпала от Рима Британия. Застарелые противоречия между латинским Западом и эллинским Востоком привели и к формальному разделению Империи на две половины. Причем старшинство изначально оказалось за более стабильным Востоком. В обеих столицах Империи — западной Равенне и восточном Константинополе (особенно в первой) шла ожесточенная борьба придворных группировок. Унаследованные от республиканского Рима традиции ненаследственного характера императорской власти стали питательной средой для переворотов и интриг. Любой сколько-нибудь выдающийся представитель военно-бюрократической знати Империи мог возомнить себя достойным монаршего престола. На внутриполитическую нестабильность влиял и религиозный фактор. Античная многобожная религия уже давно находилась в состоянии разложения. С начала IV в., благодаря мероприятиям Константина Великого, в Империи укрепились позиции христианства. К началу V в. оно, по сути, превратилось в государственную религию. Христианство с его идеями единства и равенства разноплеменных людей перед Богом, богопомазанной высшей власти могло бы стать консолидирующей силой для Империи. Но сопротивление сторонников греко-римского «язычества» («эллинства», как его называли на Востоке) утверждению новой веры оказалось слишком упорным, несмотря на поддержку новой религии императорами. Еще более осложнила ситуацию смута в среде самих христиан, вызванная с 325 г. арианским расколом. Ариане исповедовали своеобразное «упрощенное» богословие Троицы, отрицая единосущие Бога-Отца и Бога-Сына, полагая Сына творением Отца. Тем самым Бог-Сын фактически относился арианами к тварному миру, а исповедуемое христианами единство Троицы (по сути, и самое единобожие) ставилось под сомнение. После упорной борьбы, отражавшейся и на политической ситуации в Империи, ариане были разгромлены, но нашли немало приверженцев в «варварской» среде. Арианство приняли многие германские вожди, и к концу V в. его исповедовали готы, вандалы, бургунды и ряд других (в первую очередь, восточногерманских) племен. В «варварском» мире Европы предшествующее падению Западной Империи столетие было временем значительных этнических передвижений, захлестнувших со временем имперские земли и получивших название Великого Переселения Народов.[1] Эпоха Великого Переселения традиционно исчисляется с 375 г. В этом году созданная в Восточной Европе королем восточногерманского племени остроготов Германарихом из рода Амалов «держава» рухнула под ударами вторгшихся с востока кочевников — гуннов. Наиболее вероятна версия о тюркской этноязыковой принадлежности этих кочевников,[2] создавших на развалинах «державы» Германариха собственное раннегосударственное объединение, вобравшее в себя собственно гуннов и покоренные ими племена — восточногерманские, иранские (аланы, чья гегемония в Восточной Европе предшествовала готской) и другие. Часть готов (по большей части из племени везеготов под водительством рода Балтов), отказавшись признать власть гуннов, перешла на территорию Восточной Империи. Следующие десятилетия их истории заполнены краткосрочными примирениями и ожесточенными войнами с Римом, в ходе которых были опустошены часть Балканского полуострова, Италия, Галлия. Проломившись с боями через всю европейскую часть Империи, в 410 г. взяв и разграбив Рим, везеготы (вестготы) создали собственное государство на территории Южной Галлии и Испании. Формально они признали себя федератами («союзниками») Империи и получили эти земли от нее. Фактически же везеготы и другие германцы, обосновавшиеся на бывших землях Западной Империи, распоряжались ими по своему усмотрению. В начале V в. изгнанные с прежних мест гуннским нашествием германские племена вандалов и свевов (квадов) с примкнувшей к ним частью аланов прошли через Галлию и Испанию. Свевы создали свое государство на северо-западе Испании. Это королевство вскоре оказалось в зависимости от везеготов. Вандалы и аланы во главе с вандальским родом Асдингов обосновались в Северной Африке. Будучи сперва федератами Империи, они в 445 г. порвали с ней связи, а в 455 г. их король Гейзерих, вмешавшись в распрю за императорский престол, опустошил Рим. В Галлию вторгались и другие германцы — франки, бургунды, аламанны. На Британию нападали англы, саксы и юты. В Центральной и Восточной Европе между тем устанавливалось гуннское владычество. Во второй четверти V в. гунны были объединены под властью Аттилы. К этому времени западные гуннские племена, разместившиеся среди покоренных германцев в Паннонии и других придунайских областях, значительно германизировались. Однако восточные племена гуннского союза в большей степени подверглись аланскому влиянию, сохраняя при этом свой язык. Гуннам подчинилась значительная часть как восточногерманских (остроготы, гепиды, герулы, бургунды и др.), так и западногерманских (тюринги, аламанны) племен. Однако гуннам не удалось распространиться сколько-нибудь далеко на север. Франки, саксы, лангобарды и тем более германцы Ютландии и Скандинавии сохраняли независимость. Жившие близ границ Империи племена и поселившиеся на ее землях федераты искали союза с ней против восточных завоевателей.  Аттила. Фрагмент фрески Э. Делакруа Объединенными силами римлян и независимых германцев Аттила был разгромлен в 451 г. в Галлии, на Каталаунских полях. После этого он еще вторгался в Италию, но внезапная смерть вождя (453 г.) помешала гуннам взять реванш. После смерти Аттилы его держава распалась. Покоренные германцы восстали против завоевателей. Разгромленные сыновья Аттилы со своими подданными отступили из Паннонии на восток. Часть гуннов смешалась с германцами, часть перешла на службу Восточной Империи. На востоке былой их державы — в нижнедунайских долинах, Северном Причерноморье возникли племенные объединения тюркоязычных болгарских племен, возглавляемых потомками Аттилы. Эти племена (утигуры, кутригуры и др.), часто еще именуемые в целом «гуннами», начинают вновь играть значительную роль на востоке Европы с конца V в. К востоку и отчасти к северу от них, в степях Северного Кавказа и в Поволжье кочевали родственные тюркоязычные племена, ранее также подвластные гуннам — савиры, оногуры, альтциагиры, акациры.[3] В горах и предгорьях Кавказского хребта складывается Аланское царство, ставшее центром этнической консолидации былых властителей европейских степей на основе перехода к оседлости. В западных владениях гуннов на развалинах созданной ими племенной федерации быстро возрождаются самостоятельные германские королевства. В Дакии возникло королевство гепидов. Оно стало здесь сильнейшим государственным образованием в условиях относительной слабости болгар и отсутствия политической организации у местного (отчасти романизированного) населения.[4] В Паннонии и на прилегающих с запада областях возникли самостоятельные королевства герулов, остроготов, скиров, свавов (единственное западногерманское племя в регионе), ругиев. Королевства свавов и скиров оказались непрочны и были в 469–470 гг. уничтожены остроготами. В верховьях Дуная и Рейна, будущей Швабии, образовалось королевство аламаннов, родственных свавам. К югу от них, в Юго-Восточной Галлии, при поддержке везеготов восстановилось королевство бургундов. К северо-востоку от Аламаннии оформилось королевство тюрингов. В 476 г. сын короля скиров, командующий федератов в Италии Одоакр низложил императора Ромула Августула. Это стало концом Западной Римской Империи. Ситуация в Европе существенно изменилась. В Италии образовалось королевство Одоакра. Последние провинции, верные Империи на Западе (Галлия и Норик), отпали. Королевства федератов (везеготы, бургунды, франки, ругии, аламанны) обрели полную независимость. Последний западный «император» Непот держался до 480 г. на побережье Адриатики, в Далмации, а затем был убит Одоакром. В то же время формально Одоакр не уничтожил, а объединил Империю. Знаки императорского достоинства были отосланы в Константинополь, Одоакр сохранил официальную верность римской традиции. Титулуя себя «королем» (rex) Италии, он добивался официального признания своей наместнической власти над Западом от Константинополя и обошел здесь короля Галлии (Северной), римского военачальника Сиагрия. Но Одоакр пытался сделать свою гегемонию на Западе реальной — это Восток уже не устраивало. В 482 г., после смерти некоронованного короля провинции Норик на Среднем Дунае, христианского подвижника Северина, ругии захватили его «владения». Одоакр вступил с ними в борьбу. Это стало одним из побудительных толчков к созданию союза Восточной Империи с ругиями, остроготами и герулами против короля Италии. В 487–488 гг. ругии были разгромлены, их королевство уничтожено. Но в 489 г. в Италию, разгромив союзников Одоакра гепидов, вторгся король остроготов (остготов) Теодорих. После трехлетней осады Равенны Одоакр в 493 г. сдался на почетных условиях, но был коварно убит. Теодорих недолго был верным союзником Империи. На рубеже V–VI вв. он начал войну за обладание Северным Иллириком, вплотную примыкавшим к его владениям в Паннонии и Далмации. Теперь уже гепиды были союзниками Империи, а Теодорих опирался на поддержку скамаров. Эти разбойничьи отряды обездоленного люда, действовавшие в среднедунайских провинциях, в те годы сплотились под водительством «короля бродяг» Мунда. Мунд, гепидский королевич и потомок Аттилы (по женской линии), завладел частью земель Восточной Империи и заключил союз с Теодорихом. Отчасти сходно с Италией сложилась ситуация и в Галлии, где границы разрушившейся Империи пытался удержать Сиагрий. В 486 г. франкские короли разгромили Сиагрия и уничтожили его государство. За этим последовало объединение франков под властью Хлодвига из рода Меровингов, короля салических франков, создавшего мощное государство на севере Галлии. Еще до окончательного объединения франков, в 496 г., Хлодвиг уничтожил королевство аламаннов и в последующие годы овладел большей частью их земель. Но дальнейшему продвижению франков на восток препятствовали пока бургунды, остроготы и тюринги. Южная Галлия была захвачена у везеготов только в 507–508 гг. К северо-востоку от франкских границ сложилось фризо-ютское королевство, а верховья Везера и Эльбы занимали саксы и родственные им племена, разделенные на несколько рыхлых объединений. В придунайские области к северу от Паннонии ок. 490 г. выдвинулось западногерманское племя лангобардов. Здесь они вступили в войну за свою независимость с герулами, союзниками остроготов, и в 494 (?) г.[5] одержали победу. Прежнее королевство герулов пало. Часть их переселилась к гепидам, но, не встретив у них гостеприимства, в конечном счете обосновалась в качестве федератов на землях Восточной Империи. Таким образом, лангобарды завладели северной частью Паннонии и стали важным политическим фактором в придунайских землях. Германское завоевание Запада не могло не привести к хозяйственной катастрофе. Многие местности обезлюдели, население не в последнюю очередь вследствие бесконечных войн сильно сократилось. Особенно это касалось придунайских областей, где селились сравнительно немногочисленные германские племена. Здешнее романское население по большей части сгонялось со своих земель — как захватчиками, так и собственными властями, эвакуировавшими целые провинции. Так Одоакр в 488 г. поступил с Нориком. Рабовладельческое хозяйство вступило в фазу распада. Многие виллы были заброшены, рабы и колоны массами бежали. Частично они присоединялись к германцам, что сулило изменение общественного положения. В основном же беглые наряду с дезертирами, преступниками, разорившимися гражданами, изгоями-«варварами» пополняли отряды «разбойников» вроде багаудов в Галлии и скамаров на Дунае. Заметим, что традиционные кавычки здесь не очень справедливы. Когда «варварские» короли взялись, наконец, за упорядочение завоеванного, они признали права собственности уцелевших римских аристократов. Последние все чаще переходили на раннефеодальные методы управления хозяйством, используя колонат и труд посаженных на землю рабов (сервов; позже значение этого термина расширяется). Большая же часть земель сосредоточилась тогда в руках крестьянских общин, как «варварского», так и — преимущественно — романского происхождения. Стабилизация сельского хозяйства Запада началась с VI в. на основе свободного и полусвободного труда. Верховным собственником земли у германцев было племя, прерогативы которого в их военно-иерархическом обществе уже присвоила знать. За счет королевских пожалований постепенно начинает складываться землевладение германской дружинной аристократии. Расслоение и формирование новых основ собственности происходят, хотя и медленнее, и у тех германских племен, чьи владения так и не простерлись за прежние границы Рима с «варварами». Приходят в упадок города. Хозяйство Европы все больше становится натуральным. Войны и разбой, обрыв многих хозяйственных традиций приводят к сокращению торговых связей. В меньшей степени это сказалось на морской торговле, и порты, как правило, по-прежнему процветают. Но и этот расцвет не мог сравниться с прежними временами. Портовые города теперь больше военные базы, чем торговые центры. Города все более превращаются в «большие деревни», обрастающие сельскохозяйственными угодьями и живущие за счет них. В некоторых областях (опять-таки, прежде всего, на Дунае) они вовсе прекращают свое существование. Вместе с тем многие античные города в романских областях — Италии, Испании, Галлии, Далмации, на островах — продолжают оставаться центрами ремесла и торговли, хотя их значение падает. Культура все больше перемещается из городов в монастыри, превращающиеся со временем в главные хранилища античного и христианского наследия. Германское завоевание разрушило политическую структуру городов Запада. Понятие гражданства, сохранявшееся до последних лет Империи, во многом потеряло смысл, хотя в древних городах не исчезло вполне. В большинстве городов полисное самоуправление, восходившее к эпохе Республики и древних городов-государств Греции и Италии, негласно или открыто, упразднено «варварскими» королями. В захваченном остроготами Риме еще заседал сенат, сохранились городские советы и еще в нескольких крупных центрах, но это была лишь дань традиции. В этих условиях консолидирующей силой для местного населения становится Церковь. Практически повсеместно христианские епископы (и ортодоксы, и ариане) становятся главами самоуправления, в их руки переходит судебная и хозяйственная власть. С другой стороны, существовало и окружное управление, учрежденное «варварскими» королями, удержавшее налоговые и ряд административных функций. Для работы в этих структурах германцы должны были неизбежно привлекать выходцев из местного чиновничества и клира. Со временем роль этой прослойки при дворах «варварских» королей возрастает. Бурный V век прошел в острой политической борьбе при дворах западных императоров и «варварских» королей. Эта борьба с неизбежностью сплеталась в единое целое с религиозным и этническим противостоянием. Социальные мотивы наслаивались у чиновников, аристократов, клириков на религиозные воззрения и сознание родовой принадлежности. «Варварская» партия, стремившаяся к передаче власти над Западом германским вождям и слиянию лояльной римской знати с новым господствующим слоем, была в значительной степени партией и арианской. Несомненно, что, помимо германцев на службе Империи, опорой ее было теснимое арианское духовенство, позже нашедшее своих покровителей в арианах-королях из династий Балтов, Амалов и Асдингов. После падения Западной Империи эта партия стала основной опорой новой власти в государствах везеготов, остроготов, вандалов, свевов, бургундов. Ей традиционно противостояла «римская партия», ставившая целью сохранение римского социально-политического и культурного наследия. Однако внутри эта «партия» была значительно дифференцирована. Римские консерваторы, «последние римляне», стремились всячески сохранить античное наследие, дохристианскую религию и культуру, «сенатский» политический строй с делением Империи на две части. Для них было характерно резко отрицательное отношение к «варваризации» Империи и ее господствующего слоя. Позиция этой партии была обречена ходом исторического развития, и падение Западной Империи явилось для нее крахом всех упований. Намного более трезво оценивали обстановку представители ортодоксального (православного или вселенского, «католического») клира и близкой им части аристократии и чиновничества. «Варварское» нашествие они вслед за Аврелием Августином и Орозием рассматривали как Божью кару за грехи Рима. Путь спасения они видели в религиозно-нравственном очищении общества и максимально возможном приспособлении к сложившейся ситуации. Но приспособление должно происходить не через «варваризацию» Рима, а через христианизацию (ортодоксальную) и романизацию «варваров», сохранение античного наследия, насколько оно не противоречило христианству. Недаром последние из «последних римлян» начала VI в. оказываются в числе поборников ортодоксии против арианских гонений в Италии, Галлии, Испании, Африке. Разгоревшийся конфликт получает этническое и социальное содержание. Арианами были в основном завоеватели-«варвары», православными — большая часть романского населения в городах и немалая часть на селе. В политическом плане идеалом православных римлян становится единая Империя с центром теперь уже в Константинополе. Туда, к «Византийской Империи», обращаются теперь взоры большинства приверженцев вселенской веры на Западе, к союзу с Империей склоняют «варварских» королей их приближенные-католики. Из самих германцев лишь франки и — на время — лангобарды приняли в конце V в. кафолическую веру. Но позиции христианства в их среде были еще слишком слабы, а память о завоевании слишком свежа, чтобы Меровинги или тем более лангобардские Гугинги заместили законных императоров Востока. Надеялись не столько на самих католиков-германцев, сколько на их весьма вероятный, но заведомо зыбкий союз с Константинополем. Восточная Империя в V веке устояла.[6] Это было связано с суммой как внутренних, так и внешних факторов. Восточным императорам удалось, подавив сепаратистские проявления, сохранить сильную централизованную власть и относительно стабильное провинциальное деление Империи. Опорой императорской власти являлись многочисленный чиновничий аппарат и армия, состоявшая из постоянных и регулярных частей, укомплектованных на основе античных традиций свободными гражданами. Ветераны наделялись льготами, в частности, им выделялась земля. Государственная власть по мере выработки теории сотрудничества между Церковью и христианской Империей все в большей степени могла опираться на поддержку клира. Сенатское сословие на Востоке было традиционно крепче привязано к трону и более лояльно ему, чем на Западе, где не вполне забылись традиции республиканского Рима. С другой стороны, стабильность Империи в известной мере обеспечивалась сохранением ряда демократических античных традиций — полисного самоуправления, равенства граждан перед законом (при некоторых привилегиях сенаторов и клириков). При этом свободные граждане составляли большинство, хотя и не подавляющее, населения Восточной Империи. Равенство их было не формальным, а вполне реальным. Любой гражданин Империи при наличии известных способностей и удачливости мог войти в господствующую прослойку Империи и даже получить высшую власть — не наследственную, а переходящую к «достойнейшему». В конце V — начале VI в. на престоле побывали и вождь «варварского», с точки зрения римлян, племени исавров из Малой Азии Зинон (474–491), и простой в прошлом крестьянин из Фракии или Иллирика Юстин (518–527). Последний основал «династию», а точнее линию непрерывной легитимной преемственности, правившую Империей до 602 г. Справедливости ради стоит заметить, что появление при власти, а тем более на троне «новых людей» не вызывало восторга у сенатской аристократии. Ее недовольство было отчасти справедливо — притязания случайных деятелей (в том числе, впрочем, и из самой сенатской среды) на трон не могли всегда идти на пользу державе. «Варваров» Восток интересовал меньше, чем Запад с его политической нестабильностью и открытыми для нападений крупными городами. Константинополь оставался неприступным для внешних врагов до начала XIII в. Все-таки набеги варваров на Восточную Империю происходили. Имела место, хотя и в меньших масштабах, чем на Западе, и «варваризация» армии и аппарата управления. Однако «варвары» на имперской службе, как правило, довольно быстро теряли этническое лицо и осознавали себя ромеями («римлянами»). Такой путь прошли многие знатные готы, герулы, гепиды, аланы, гунны. Недолговечны оказывались и королевства федератов на восточно-римских землях. Это во многом было связано с исконной пестротой этнического состава населения Восточной Империи. В отличие от Запада, где происходила всеобщая романизация, на Востоке римское гражданство могло лишь сплачивать разнородные элементы в своеобразное разноязыкое содружество, становясь цементирующей силой общества. Подданный Империи был сперва «римлянином», а уже потом греком, сирийцем или исавром — притом, что собственно римлян (романцев) было на Востоке не так уж много. Такова была устоявшаяся традиция, и для натурализации в имперском обществе федераты должны были в большей или меньшей степени ей следовать. При относительной немногочисленности пришельцев они быстро растворялись в местной среде или покидали ее вовсе. Романский элемент в Империи преобладал лишь в областях романизации на севере Балканского полуострова — во Фракии и Северном Иллирике. Некоторая часть романизированного населения оставалась, насколько можно судить по скудным сведениям, за Дунаем, в Карпатах, но те области для Империи были уже потеряны. В горных областях Превалитании и Эпира на северо-западе Иллирика сохранилось не подвергшееся романизации местное иллирийское население. Южный Иллирик (Македония, включавшая и собственно Элладу) был населен почти исключительно греками. Греки преобладали также в Константинополе, на островах и в Малой Азии, где уже в эпоху единой Империи шла не романизация, а медленная эллинизация туземного населения. Волна эллинизации не затронула лишь отдельные области (Армению, Исаврию), сохранявшие полную этническую самобытность. Не распространилась она и на Сирию, Палестину и Египет. Здесь в древних центрах эллинистической цивилизации (таких, как Антиохия) греки составляли большую или немалую часть населения, но в основном преобладали местные народы. При всей этой пестроте граждане Империи (в первую очередь греки и романцы) в целом именовались ромеями, то есть римлянами. Латинский язык оставался языком армии. Но как официальный язык императорского двора он уже был потеснен греческим. Греческий был языком Церкви и светской культуры Балкан и Малой Азии, а также эллинской культуры Египта и Сирии. В условиях смещения торговых путей, эмиграции с Запада и ослабления западных соперников настоящий расцвет переживают с V в. восточные города. Они становятся общеевропейскими центрами ремесла и торговли, а их культурная значимость и прежде превосходила Запад. С другой стороны, некоторые города придунайских провинций под постоянной угрозой нападения «варваров» все же теряют значение, превращаясь в порубежные крепости. Число мелких городов постепенно уменьшается. Кризис рабовладельческого хозяйства меньше затронул Восточную Империю, что было связано с восходящими к эллинистической эпохе традициями свободного (хотя и зависимого от государства) труда на значительной части ее территории. На селе в азиатских провинциях безусловным преобладанием пользовалась крестьянская общинная собственность. В Сирии и Египте, правда, с ней сосуществовало крупное частное землевладение местной знати, основанное на труде колонов. За счет императорских пожалований начинает складываться церковное землевладение. Иной была ситуация на Балканском полуострове, на островах, а также в сплошь эллинизированных западных областях Малой Азии. На этих землях прочно укоренились традиции классического рабства античной эпохи. Зависимые только от государства общины свободных крестьян, ветеранов, федератов были особенно многочисленны в приграничных областях. Значительную часть земель занимали большие (хотя и не настолько, как на Западе) поместья знати. Обрабатывались они трудом рабов и колонов. Впрочем, в Восточной Империи рабы, как правило, помещались на землю и наделялись большими, чем на Западе, правами. Однако это, конечно, не делало социальную ситуацию безоблачной. Большая масса рабов, в основном иноплеменников, была резервом для любого внешнего вторжения. Обездоленные слои населения, преимущественно неграждане — рабы и колоны — восставали против угнетения. Ярким примером этого на Балканах явилось движение скамаров. Отряды скамаров, объединившись в Иллирике под главенством гепида Мунда, опираясь на союз с остроготами, создали там к началу VI в. собственное королевство. Восстановить здесь власть Империи оказалось трудно, а прежний социальный строй — вовсе невозможно. Восставали против налогового бремени и государственных повинностей и свободные. Наиболее грозной была нараставшая оппозиция масс свободного, в том числе зажиточного населения в крупных городах, где организующей силой выступали димы — структуры полисного самоуправления. Социальная и политическая борьба внутри свободного населения, как и на Западе, переплеталась с религиозной и этнической. Арианство на Востоке было фактически целиком разгромлено. «Варварская» арианская партия не проявляла себя после убийства временщика Аспара, алана-арианина, в 471 г. по приказу Зинона. Но на смену арианской шла другая церковная смута. На Эфесском соборе 431 г. было осуждено учение константинопольского патриарха Нестория, утверждавшего раздельное происхождение человеческой и божественной природ во Христе и именовавшего Деву Марию «человекородицей». На этом, однако, христологические споры не кончились. Константинопольская богословская школа полагала дискуссию завершенной, тогда как александрийцы настаивали на более радикальном осуждении «несторианствующих». В конце концов, сформировалось несколько оттенков учения, которое получило название монофизитства (одноестественничества). Оно утверждало не соединение, а полное слияние человеческого и божественного во Христе. Своих противников, толковавших эфесскую формулу более умеренно, «монофизиты» обвиняли в «четверении Троицы» и внесении «новшеств». Вопрос обрел крайнюю остроту и вылился в догматический спор. На втором Эфесском соборе 449 г. монофизиты взяли верх. Но в 451 г. в Халкидоне они потерпели полное поражение. Вопрос, однако, не был закрыт, перейдя в этнополитическую плоскость. В Александрии и Антиохии многие восприняли победу «диофизитов» как торжество греков над сирийцами и коптами. Произошел церковный раскол, за сирийские и египетские епископские кафедры развернулась ожесточенная борьба с участием властей. Диофизитская Церковь позже получила на востоке Империи прозвище «мелькитской» (царской). А монофизитство стало религиозным знаменем для армянского, сирийского и копто-египетского сепаратизма. В греческих городах с религиозной борьбой переплеталась социально-политическая. К началу VI в. димы объединяются в т. н. «цирковые партии», именовавшиеся по цветам лент своих колесниц на ипподроме. Самыми влиятельными становятся партии венетов («голубых») и прасинов («зеленых»). Обычно считается, что венетами верховодили представители сенатской знати, а прасинами — торговые круги. Многие прасины исповедовали монофизитство, тогда как венеты были ревностными поборниками православия. Обе стороны имели вооруженные отряды, регулярно дестабилизировавшие обстановку в городах и в Империи в целом. Императоры занимали различную позицию в религиозно-политических спорах. Зинон, сперва столкнувшись с вооруженной оппозицией в Сирии, затем в интересах политической стабильности поддержал монофизитов. Это поставило столичную церковь на грань полного раскола. Анастасий (491–518) еще последовательнее продолжал политику Зинона, что способствовало его популярности в Сирии и Египте. Это было особенно важно в условиях возобновившихся войн с персами. Однако долго копившееся недовольство на Балканах вылилось в 512 г. в мятеж под предводительством Виталиана. Со вступлением на престол Юстина происходит решительный поворот в сторону поддержки ортодоксии. Несмотря на кризисные явления, границы в основном устояли на протяжении V в. Успехам в Европе, где императорам преимущественно удавалось оружием и дипломатией отводить «варваров» от своих рубежей, способствовала тогда мирная передышка на востоке. Также находившаяся в состоянии кризиса Сасанидская Персидская (Иранская) держава с 422 г. поддерживала мир с Империей. Персам традиционно внушали опасения проромейские симпатии христианского населения подвластной им части Закавказья. Лишь в 502 г., подавив здесь несколько восстаний и укрепив свое владычество, Иран почувствовал себя в силах возобновить борьбу с ромеями. И вскоре за этим последовал кризис на дунайской границе Империи. Пришла в движение до тех пор стабильная часть «варварского» мира. Северная и Восточная Европа осталась сперва в стороне от Переселения Народов. Сведения оттуда в ту пору скудны и отрывочны, в значительной степени они восполняются из средневековой устной традиции. В Скандинавии и на прилегающих островах в это время складываются военно-иерархические «королевства» с наследственной властью. Это «королевства» датских Скъельдунгов на юге современной Швеции, на Зеландских островах и в северной Ютландии, свейских Скильвингов и Инглингов в Швеции с центром в Упсале, гаутских Хредлингов западнее, в Ёталанде, и другие. Северогерманские племена, в отличие от южных соседей, тогда не стремились к ограблению или тем более захвату богатых земель Западной Империи. Их больше привлекали плавания на восток, в прибалтийские земли. С V в. такого рода набеги становятся все интенсивнее. В конце V в. был совершен поход на восток датского конунга («короля») Фроди, кратковременного гегемона Скандинавии. Он, как и прочие деяния Фроди, оставил глубокий, хотя и совершенно легендарный, след в скандинавском эпосе.[7] В Восточной Европе противниками скандинавов становились прибалтийско-финские и балтские племена. К V–VI вв. относится формирование основных племенных союзов, известных в более позднее время. Балты (эстии, позже скандинавы перенесли это название на предков эстонцев) изредка упоминаются в письменных источниках.[8] Пределы расселения балтийских племен еще далеко не ограничивались Латвией, Литвой и Пруссией. В то время они занимали обширные области, до Среднего Днепра на юге и до верховий Оки на востоке, где позже упоминается балтское племя галиндов (голядь). Среди прибалтийско-финских племен, по поздним преданиям, как наиболее сильное можно выделить воинственное объединение «чудей» (шуддэ, чудь, сисси), занимавшее территорию от Северной Двины до Чудского озера. Самоназвание его сейчас отражается в имени небольшой этнографической группы сету в Псковской области. Балтийские и прибалтийско-финские племена находились на стадии позднего племенного строя. Уровень развития финских племен был немного архаичнее. У балтов уже начали складываться раннегосударственные или протогосударственные объединения. Они развивали даже некоторую дипломатическую активность (посольство эстиев к Теодориху). Области к югу и западу от расселения балтов оказываются в начале VI в. занятыми славянскими племенами. Это явилось итогом длительных этнообразующих процессов на этих землях в предшествующий период. Природные условия и методы хозяйствованияЗначительную часть территории, заселенной в VI–VIII вв. славянами, занимают две прилегающие друг к другу равнины — Восточноевропейская и Среднеевропейская. Наиболее обширна Восточноевропейская равнина, занимающая большую часть Восточной Европы. Она прорезана значительными водными артериями. Среди них Днестр, Южный Буг, Днепр с притоками Десной и Припятью, Дон с Северским Донцом, Волга с Окой, Неман, Западная Двина, Волхов — Ильменское озеро — Ловать. Около трети Восточноевропейской равнины — на юге ее и на юго-востоке в приволжских областях — занимают степи, к северу сменяющиеся лесостепью. Это низменная область, характеризующаяся более сухим климатом. В лесостепи земля несколько поднимается к Приднепровской и Подольской возвышенностям, возрастает влажность. На севере лесостепи и в лесной полосе, занимающей большую часть равнины, климат умеренный. Немалую часть равнины (высота на площади до 200 м над уровнем моря) занимают возвышенности. Это, прежде всего, уже упомянутые Подольская (высочайшая точка 471 м) и Приднепровская (322 м). К ним примыкает Волынская. Далее — Среднерусская между Десной, Доном и Окой (293 м), Смоленско-Московская к северо-западу от нее (319 м), Валдайская в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины (343 м). В раннем средневековье (да и позднее) они были в основном покрыты лесами. С другой стороны, имелись и низменные, заболоченные области. Прежде всего, это Полесье, охватывающее обширную территорию в бассейне Припяти, Верхнего и отчасти Среднего Днепра. На севере, в долине притока Днепра Березины и верховьях Западной Двины, Полесье смыкается с другим заболоченным пространством — по берегам водной системы Ловати — Ильменя — Волхова. За Ильменем болотистая низменность раздается вширь и охватывает уже весь лесной «озерный край», тянущийся от Чудского и Псковского озер на восток и на север. Здесь расположены крупнейшие озера равнины — Чудское, вливающееся в него Псковское, Ладожское, Онежское, Белое. К северу от Ладожского и Онежского простирается обширная зона карело-финских озер. Еще одна заболоченная низменность — Мещерская низина на Средней Оке. На северо-западе равнину прорезает Балтийская гряда, образуемая мореной ледникового происхождения. В районе Вильнюса и северо-западных областях Белоруссии, то есть между истоками Немана, его притока Вилии и Березины, гряда разрастается в довольно обширную холмистую возвышенность (до 345 м над уровнем моря). Эти возвышенные места также поросли лесом. Климат здесь влажнее, чем на основной территории равнины. Балтийская гряда тянется вдоль побережья Балтийского моря через древнюю Пруссию и Поморье на запад вплоть до Эльбы (Лабы). Здесь высочайшая точка расположена близ низовьев Вислы (329 м).  Река Ловать. Современный вид К югу и частично к западу от Балтийской гряды простирается Среднеевропейская равнина, на востоке смыкающаяся с Восточноевропейской в районе Полесья. На юго-востоке она ограничена возвышенностью, продолжающей Волыно-Подольскую и переходящей в предгорья Карпат. Климат Среднеевропейской равнины на рассматриваемой территории близок к лесной полосе Восточной Европы. Основные водные артерии здесь с запада на восток — Эльба (Лаба), Одра (Одер), Висла с притоком Западным Бугом. Крупных озер нет. Низменный участок с болотами и относительно большими озерами располагался на землях древней Пруссии, в долине Нарева, северного притока Западного Буга. К югу от Среднеевропейской равнины и юго-западу от Восточноевропейской простерлась единая горная система Европы, состоящая из нескольких связанных массивов. Ближайший к равнинам крупный горный массив — Карпатские горы, к которым непосредственно примыкают возвышенности (Волынская, Подольская и др.), образуя единое целое. Горы в верховьях Эльбы и Одры образуют ряд связанных между собой хребтов и возвышенностей (Судеты, Рудные горы и др.), занимающие территорию современной Чехии и значительную часть Германии. На юге, за Дунаем, прорезающим всю горную «полосу» Европы, эти возвышенности переходят в Альпийские горы. На востоке Судеты смыкаются с Карпатским хребтом. Альпы — высочайшие горы Европы. Но самых высокогорных областей славяне не заселяли. Зато им было суждено расселиться в прикарпатских областях. Высочайшая точка Карпат — гора Герлаховски-Штит (2655 м) недалеко от истоков Вислы, следующая по высоте — Молдовяну (2543 м) над Олтом, притоком Дуная, в современной Румынии. Отсюда можно видеть, что рельеф Карпат значительно отличался от знакомого жителям Центральной и Восточной Европы. С другой стороны, в долине Дуная, при слиянии с крупнейшими его притоками образуются две обширные низменности со степным климатом — Нижнедунайская и Среднедунайская. Первая занимает практически все нижнее течение Дуная, включая приморские области к югу от его дельты (Добруджа), низовья северных притоков — Олта, Сирета, Прута и др. На востоке она переходит в степи Восточной Европы. Среднедунайская низменность охватывает долину притока Дуная Тисы, междуречье Тисы и Дуная, Дуная и другого, южного притока — Савы, значительную часть долины Савы. Перед низменностью, стекая с относительно возвышенной местности, сам Дунай, тем не менее, течет по низменной пойме. В этом районе (древней Паннонии), под изгибом великой европейской реки, расположено озеро Балатон, откуда берет начало один из ее притоков, нынешний Шио. Обе названные низменности ограничены с юга Балканскими горами. Эта горная система, включающая несколько высоких кряжей и массивов, занимает большую часть Балканского полуострова к югу от Дуная, исключая некоторые приморские области. Через древнюю Фракию тянулся Гемский горный кряж (ныне Стара-Планина), горы которого достигали высоты в 2376 м над уровнем моря. Но высочайшей точкой Балкан является гора Мувала в Родопах, к югу от Гема — 2925 м. Ей несколько уступает Олимп в Фессалии, священная гора древних эллинов — 2917 м. Балканские горы в древности были покрыты многочисленными лесами, отчасти расчищенными за годы существования античной цивилизации, но все еще сохранившимися. На описанной территории к началу средневековья утвердилось несколько близких между собой, ориентированных на обе главные отрасли производящего хозяйства, типов производства. В лесостепной полосе Восточной Европы господствовало переложное земледелие. Большое значение имело также скотоводство, чуть меньшее — добывающие промыслы (охота и рыболовство). В прилегающих к лесостепи районах лесной полосы перелог соседствовал с подсекой. Дальше же на север подсечно-огневая форма земледелия, безусловно, доминировала. Здесь также было распространено скотоводство. Гораздо большее значение, чем на юге, имели охота и рыбная ловля. Постепенно широко распространилось бортничество. В горных областях, на прилегающих к ним низменностях и холмистых возвышенностях хозяйство имело несколько иной облик. За время существования античной цивилизации террасное и долинное земледелие, садоводство, виноградарство достигли значительной степени развития. Но далеко не все их достижения были восприняты соседними «варварами». Германцы, славяне, остатки дако-фракийцев предпочитали простейшие формы земледелия на речных террасах и горное отгонное скотоводство. Болгары в степях Нижнего Подунавья занимались в основном кочевым скотоводством. Только к югу от Дуная к началу средневековья господствовала античная агрикультура, хотя и понесшая ущерб в результате смут того времени. V–VII вв. для Европы — время усреднения климата, когда климатические условия во влажных и засушливых зонах сближаются. С VIII в. началось (впрочем, с северо-запада материка) общее потепление.[9] Положительный его эффект для Восточной и Центральной Европы был еще впереди. Но умеренные климатические условия способствовали развитию здесь земледельческого хозяйства уже в VI–VIII вв. Проблемы славянского этногенезаРаспад древнеевропейской языковой общности и выделение из нее балто-славянского (или протославянского) языка относится еще к первой половине II тысячелетия до нашей эры. Однако вычленение собственно праславянского языка большинство лингвистов относит только к VII–VI вв. до н. э.[10] Обособление праславян как этнографического (археологического) целого связывают чаще всего с возникшими в V в. до н. э. на территории современной Польши подклешевой и поморской культурами.[11] Это не исключает отстаиваемой рядом археологов концепции автономного развития праславянских элементов на востоке, в рамках зарубинецкой балто-славянской культуры. Вообще, со II в. до н. э. праславяне внедряются в несколько разноплеменных культур, не составляя бесспорного этнографического целого. Это пшеворская культура на западе, зарубинецкая, позже черняховская (вобравшая и пшеворский элемент) культуры на востоке. Это затрудняет изучение их ранней истории.[12] В письменных источниках с начала христианской эры появляются отдельные упоминания праславян. В основном это сведения из географических описаний («Естественная история» Плиния Старшего, «Германия» Тацита, «География» Птолемея, «певтингерова таблица»). Римский император Волусиан (251–253) за поход в Дакию получил титул «Венедский». Праславяне фигурируют в этих упоминаниях как «венеды». Это этноним итало-иллирийского происхождения; древние венеты (венеды) были близким иллирийцам племенем на северо-востоке Италии, в районе нынешней Венеции. Появление этого этнонима в Центральной Европе можно увязать с отмечаемой лингвистами[13] италийской миграцией, повлиявшей на оформление праславянского языка. В пользу тождества венедов и праславян свидетельствует, во-первых, прямое указание Иордана на происхождение славян и антов от венедов. Во-вторых, славяне именуются вендами или виндами в германских, вэнэ (vana) — в прибалтийско-финских языках (ср. еще имя или эпитет готского короля Винитарий).[14] Венеды, покоренные, по Иордану, в IV в. Германарихом, могут быть соотнесены с какой-то частью пшеворского населения. У Птолемея среди соседей венедов появляются уже и собственно славяне (словене — древнейший праславянский этноним со значением ‘говорящие’) — ставаны. Они локализуются вместе с балтами (галиндами и судинами) к юго-востоку от венедов и к северу от аланов,[15] на территориях, занятых тогда пшеворскими и позднезарубинецкими памятниками. Другой впоследствии славянский этноним, упоминаемый Птолемеем, — вельты (велеты) к востоку от венетов в Поморье.[16] При описании событий IV в., приведших к падению готского «королевства» Германариха, Иордан приводит сказание о войне готов с племенем антов, которое выше относит наряду со славянами к потомкам венедов.[17] О родстве и одноязычии антов и славян в VI в. говорит и Прокопий Кесарийский.[18] Анты активно действуют на европейской сцене в VI — начале VII в., о чем пойдет речь далее. Для периода же их борьбы с готами прямых известий нет, кроме указанного свидетельства Иордана. Следы тех же сказаний обнаруживаются в германских языках (древневерхненемецком, англосаксонском), где имя антов стало обозначать мифических великанов.[19] Позднейшие анты соотносятся с пеньковской культурой на юге Восточноевропейской равнины, генетически связанной с черняховской. Черняховскую культуру, по меньшей мере, в какой-то ее части, нужно связывать с антами готских преданий. Были ли анты преданий, использовавшихся Иорданом, праславянами? Этноним «анты» неславянский. Он связан с древнесарматской языковой средой и переводится «окраинные» или даже «внешние», «чужие».[20] Так вполне могли именоваться и осевшие в иноязычной среде аланские племена черняховской культуры, и сами племена, составлявшие эту среду. С рассказом Иордана о падении остроготского королевства можно сопоставить свидетельства современника событий Аммиана Марцеллина. Согласно Иордану, гунны после смерти Германариха уничтожили его королевство. Остроготы были покорены гуннами, везеготы же отделились от них. Правителем остроготов стал Амал Винитарий, внучатый племянник Германариха. Освобождаясь от власти гуннов, он сперва выступил против антов, после переменчивой войны разгромил их, распяв короля Боза с сыновьями и 70 знатными людьми. Баламбер, король гуннов, заключил союз с частью готов, выступил против Винитария и после двух неудачных битв на реке Эрак разбил его. Винитарий погиб, остроготы подчинились гуннам. Власть над остроготами перешла к сыну Германариха Гунимунду. Судьба Вандалария, сына Винитария, не проясняется; много позже (в начале V в.) подчиненных гуннам остроготов возглавлял его сын Валамер.[21] По Аммиану Марцеллину, королевство гревтунгов (остроготов Иордана), управляемое Эрменрихом, было уничтожено гуннами при содействии покоренных ими силой аланов-танаитов (то есть донских), соседних с гревтунгами. Королем гревтунгов был избран Витимир, который, подкупив часть гуннов, вступил в войну, прежде всего, с аланами, и эта война сперва была для него довольно успешна. Однако, в конце концов, потерпев ряд поражений от гуннов и аланов, он пал в бою. Власть получил его малолетний сын Витерих при регентстве Алафея и Сафрака. Последние увели гревтунгов в пределы Империи, вслед за тервингами короля Атанариха.[22] 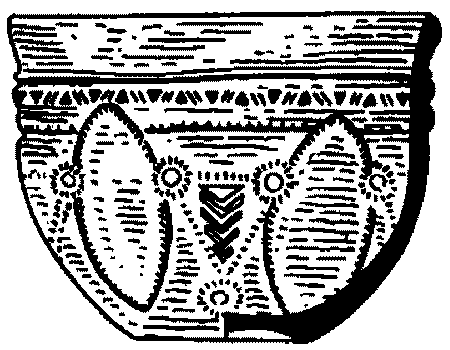 Кубок. Черняховская культура Очевиден ряд общих моментов, причем мы должны учитывать естественное преувеличение готских успехов в готском эпосе. После гибели Германариха готов возглавил новый правитель Витимир (или Винитарий), вступивший в борьбу с гуннами (короля Баламбера) и их союзниками, но погибший в бою. При этом произошло разделение остроготов (гревтунгов) на сторонников его и Гунимунда, союзника гуннов, отмеченное Иорданом. Сторонники Витимира или какая-то их часть под предводительством Алафея и Сафрака ушли вслед за везеготами (тервингами) Атанариха в Империю. Король этой части гревтунгов — Витерих, сын Витимира, тождествен Вандаларию Иордана. Королем подчинившихся гуннам готов (остроготов) стал Гунимунд, не упомянутый у Аммиана Марцеллина. Здесь очевидным становится тождество «аланов» (танаитов?), с которыми воевал Витимир, с антами, против которых в первую очередь обратился желающий свергнуть готское иго Винитарий. Само по себе это не свидетельствует об этнической принадлежности. Сам Аммиан Марцеллин отмечает, что в период своей гегемонии аланы распространили свое имя на множество союзных племен разного происхождения. Это возвращает нас к вопросу о характере черняховской культуры. Она сочетает алано-сарматский, германский, дакийский, «балто-славянский» и праславянский (в контактной зоне с пшеворской культурой на Волыни и в Полесье) этнические элементы.[23] Исключая германцев-готов, именно это смешанное население от левых, северских притоков Днепра до Олта, верховий Днестра и Западного Буга и есть анты Иордана. Судя по известию Аммиана о соседстве танаитов с готами, в политическом смысле эта обширная территория должна была делиться между теми и другими. С другой стороны, часть аланов-танаитов и могла составить основу черняховской культуры. Антов IV в. надо тогда рассматривать как западную «внешнюю» часть танаитского объединения, включавшую разноплеменные компоненты. Стоит добавить еще, что имя короля антов (Боз) неславянское.[24]  Железный топор. Черняховская культура Окончательное превращение антов в славянский этнос, как и складывание этноса собственно славян (словен), происходит в течение V в. Однако история праславян началась, как мы видели, с гораздо более раннего времени. Если и можно полагать V столетие началом собственно славянской истории, то лишь условно. Прошлое славян насчитывало к тому времени не одно тысячелетие. Общественный стройО социальном устройстве праславянского общества к началу V в. судить трудно. Единственным реальным источником для нас являются данные языка, позволяющие выделить древние общеславянские термины, обозначающие социальные реалии, и ранние заимствования социальной терминологии из других языков. Данные этнографии отражают, естественно, реальность гораздо более позднего периода. К древности они могут применяться лишь в сопоставлении с археологическим материалом. Последний же из-за полиэтничного характера культур IV в. имеет для изучения социального строя праславян вспомогательное значение. Тем не менее, сопоставляя данные археологии и языка, можно сделать некоторые общие выводы о характере славянского общества. Славяне жили в условиях племенного строя. Основной ячейкой общества была община, в основе устройства которой лежало представление о кровном родстве. Однако уже существовала община, основанная на взаимном соглашении (а не на родстве) — мир.[25] Она могла включать как одно поселение, так и несколько. В последнем случае община сближалась по характеру с племенем. Господствующим в славянском словоупотреблении применительно и к племени, и к общине было слово «род». Сосуществование терминов «род» и «мир» находит параллели в двух основных способах именования славянских племен — по территории (например, «поляне») и по происхождению (например, «кривичи»). Племя делилось на несколько формально кровнородственных объединений типа большесемейной или патронимической общины. Патронимическое объединение, образовавшееся на базе разросшейся большой семьи и связанное хозяйственной взаимопомощью, именовалось «дворищем».[26] Праславяне жили на неукрепленных поселениях деревенского типа (веси, села). Строили они и укрепленные «грады», становившиеся убежищем на случай опасности. В обществе существовало социальное неравенство. С древнейших времен было известно патриархальное рабство (термин «раб» индоевропейского происхождения); рабами становились пленники. С другой стороны, выделилась родоплеменная знать (господа, паны). Основным богатством ее был скот (с чем связано значение заимствованного в древности у скифов термина *gъpanъ ‘пан, господин’[27]). Значительную роль в обществе играло жречество. Своеобразную племенную «администрацию» представляли собой биричи. Это были лица, ведавшие сбором на сакральные нужды, биром, и жившие за его счет. Постепенно их функции расширяются, они теснее смыкаются с властью сакрального вождя. Судопроизводство осуществлялось самими общинниками на основе обычного права. Самыми суровыми наказаниями были выдача на расправу потерпевшей стороне и изгнание из рода. Высшая власть в общине и племени на том этапе, несомненно, в значительной степени находилась в руках веча — народного собрания. Если проводить аналогию с позднейшими сельскими сходами, можно предположить, что древнее славянское вече включало глав семей (почти исключительно старших мужчин). Молодежь была лишена права голоса (скорее всего, и совещательного) — отсюда слово «отрок» ‘тот, кому запрещено говорить (в совете)’. Во главе племени стоял вождь. Термин «вождь» древний исконно-славянский, но в рассматриваемый период уже не употреблялся непосредственно как титул. На смену ему пришли другие. Это титулы, обозначающие жреческую сакральную («владыка») и военную («воевода») власть и, наконец, заимствованный у западных германцев (в пшеворскую эпоху?) термин «князь».[28] Его германский прототип обозначал сперва выборного военного предводителя, славяне же восприняли его как титул правителя, наделенного сакральной властью, отчасти синоним для «владыки». Не исключены давние традиции соправительства сакрального «царя мира» и «царя войны» в славянском обществе. 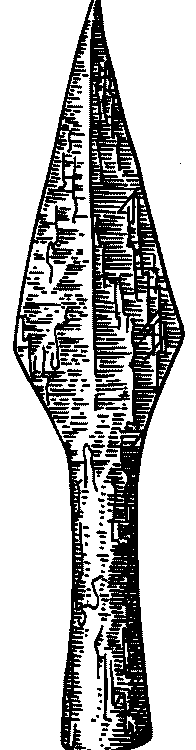 Наконечник копья. Черняховская культура На основе фольклорных данных можно заключить, что у славян значительную роль в ранней политической организации играли воинские братства. У индоевропейцев они были связаны с тотемным «волчьим» культом. С представлениями о сакральном могуществе членов подобных союзов связаны общеиндоевропейские поверья о волках-оборотнях. В славянском фольклоре колдовские и оборотнические способности вкупе с отправлением тайных, опасных для непосвященных жестоких обрядов приписываются лесным воинским братствам бойников (позднейших збойников, разбойников). Насколько можно судить, в племенную эпоху такие воинские союзы сохраняли известную автономию от племенных структур, иногда даже противостоя им.[29] Известный южным и восточным славянам миф о князе-волкодлаке (оборотне) отражает приспособление воинских братств к власти вождей, к «официальным» племенным институтам. Подобные ситуации зафиксированы в этнографии применительно к другим народам на сходной стадии развития.[30] Власть вождя над племенем или племенным объединением осуществлялась посредством гощенья — объезда вождем и его дружиной подвластных общин. С гощением связаны некоторые термины, касающиеся общинного устройства. Господин ‘гостеприимец’ — обозначение представителя местной знати, принимавшего у себя гощение. Погост — место приема гощенья, сакральный и административный центр общины или племени. Отдельные племена постепенно объединялись в племенные союзы. Славянское название для таких объединений, промежуточных между «словенским языком» в целом и отдельными «родами», неизвестно. И это при том, что именно они, в первую очередь, и фигурируют в письменных источниках. Древнерусская летопись по политическому устройству именует их «княжениями»; возможно, что иного названия никогда и не было. Такого рода союзом к концу праславянского периода являлось разноплеменное антское «королевство» Боза, занимавшее обширную территорию в готско-аланском пограничье. Как было отмечено выше, оно могло, в свою очередь, входить в объединение аланов-танаитов. Венеды (скорее всего, в пшеворском Повисленье), с которыми воевал Германарих, не были объединены в «королевство», хотя и осознаются как некое целое. Культура и верованияО культуре праславян IV в. известно мало, хотя данных по материальной и духовной культуре пшеворского и черняховского населения достаточно много. Невозможно сказать с уверенностью, какие элементы соответствующих археологических культур нужно связывать именно с праславянами. Славянская культура V–VII вв. сложилась в обстановке различных внешних воздействий. На нее оказали несомненное влияние культуры соседних племен — балтских, скифо-сарматских, дакийских, германских, отчасти гунно-болгарских. Имело место и некоторое воздействие античной цивилизации. Следы всех этих влияний в той или иной степени ощущаются и в археологическом материале «пражской» эпохи, и в общеславянском языке.  Амулет-топорик. Черняховская культура Некоторые элементы общеславянской культуры позднейшего периода, несомненно, восходят к праславянской эпохе. Это касается, в частности, изобразительного искусства (например, формы орнамента). Отдельные такие элементы не могут быть прослежены археологически (деревянные изображения божеств «столбового» типа, устойчивые общеславянские сюжеты художественной вышивки). Ясно, что, как у большинства «варварских» племен, искусство несло сакральную, отчасти игровую функцию. К древнейшей эпохе, без сомнения, относится первоначальная жанровая дифференциация фольклора. К числу древнейших фольклорных жанров относятся обрядовая поэзия, заклинания, образный фольклор (пословицы, поговорки, загадки). С мифом, преданием и быличкой был тесно связан древнейший песенно-прозаический «былевой» эпос. Очевидно, что существовал и рассказ менее «достоверный», прообраз позднейшей сказки. К раннему периоду современная фольклористика обычно относит выделение животной сказки. Письменности в собственном смысле слова у древнейших славян не было; согласно Храбру Черноризцу, до знакомства с иноземными алфавитами они пользовались «чертами и резами».[31] Эти знаки использовались и для передачи информации, и для гадания. Аналог «чертам» — линейные знаки на позднейших деревенских счетных бирках. «Резы» могут быть сопоставлены с условными значками резных календарей, доживших в сельской среде до нового времени. Те же условные значки могли использоваться и как подписи.[32] Они представляли собой тип «рисуночного письма», пиктографии. Ближайшим аналогом позднему этнографическому материалу оказываются нанесенные на ритуальные сосуды календари черняховской эпохи.[33] Таким образом, этот способ сохранения информации сложился уже в праславянскую эпоху. Достаточно хорошо можно представить религиозно-мифологические представления праславян. В значительной степени они восходили к балто-славянской и далее — индоевропейской эпохе.[34] Возглавлял пантеон Небесный Отец, олицетворение неба и небесного света (балтский Диевас, славянский Див). Позднее у праславян происходит деградация этого образа. Ее можно связать с иранским влиянием.[35] Древнеиранские дэвы, или дайвы, аланские дауаги считались младшим поколением богов. Славянское имя «Див» переносится, соответственно, на персонажей низших мифологических уровней. Функции верховного божества на какое-то время унаследовал Род, воплощавший идею родовой организации общества. Древнерусское «Слово о том, как поганые поклонялись идолам» говорит о почитании Рода и рожаниц «прежде» верховного бога Перуна.[36] Супругой небесного бога, прародительницей богов и людей, считалась Земля-Мать (славянская Мать Сыра Земля, балтская Жемина). Она занимала подчас центральное место в пантеоне, будучи тесно связана с земледельческими обрядами. Со временем, еще у балтославян, ее супругом начинает считаться не Див-Диевас, а постепенно вытеснявший его в качестве верховного бога громовержец. Балтскому Перкунасу или Дундулису соответствует славянский Перун или Додол, Дундер. Это бог-воитель, покровитель воинов и племенных вождей, постепенно усиливавших свою власть. Перун находился в центре нескольких восстанавливаемых современными исследователями[37] мифов. Это миф о наказанной неверной жене громовержца (балтская Маря, славянская Мара), миф о «небесной свадьбе», где громовержец карал Месяц за супружескую измену Солнцу. Мотивы запирания вод, похищения скота, позже — жены громовержца являлись завязкой «основного мифа» о битве громовержца со змееобразным врагом (славянский Велес, Волос, балтский Велс, Велняс). Последний пользовался религиозным почитанием как владыка подземного мира, покровитель колдовского знания и даритель богатств. 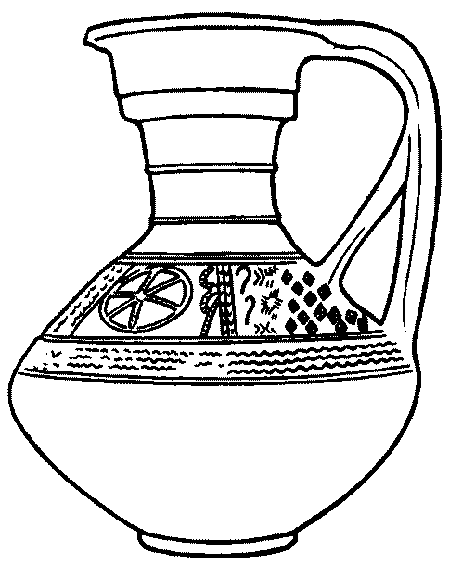 Черняховский календарь на сосуде Культ Велеса у большинства праславян вначале преобладал над культом Перуна. Повсюду на северной славянской периферии «велесическая» традиция удерживалась долго. У балтов как будто преобладает культ Перконса, но и почитание Велса сильно развито. Германская же, например, религия однозначно «одиническая». Один (Валль) — близкое соответствие Велеса-Велса. Почитание могущественного владыки загробного мира и создателя потаенного «ведения» в качестве «Всеотца» известно не только германцам, но и кельтам. Это, таким образом, древнеевропейское представление. При общей амбивалентности богов оно не противоречило культу громовержца, а у славян и позднее сохранялось лучше, чем у балтов. К древнейшим небесным божествам относятся воплощения атмосферных явлений, Солнца (сперва в женском, затем у славян в мужском облике), Месяца. Воплощение утренней зари (балтский Усиньш, славянский Усень?) затем преобразилось в близнечный образ «детей Солнца». К древнейшему кругу мифических персонажей принадлежит также воплощенный Огонь. «Дочь Солнца» сменяет древнюю солнечную богиню в качестве невесты Месяца из мифа о «небесной свадьбе». Почиталась также масса духов природы, человеческого жилья и т. д. Существовали поверья об «огненных змеях» — колдовских существах, приносящих в дом богатство, но угрожающих жизни и здоровью человека. Сильно распространен был издревле культ животных (как диких, так и некоторых домашних). Существовало поклонение деревьям (береза, дуб) и природным объектам (источники, камни). Уже в балто-славянский период оформилось в особый социальный слой жречество. Общее наименование его представителей производилось от глагола ved ‘знать’ — отсюда прусское waidelotte, славянские «ведун», «ведуница», «ведьма». В праславянском обществе выделялись собственно жрецы (значение слова связано с жертвоприношениями и ритуальной трапезой) и волхвы. Последним приписывались магическая премудрость и обладание особым, неясным для непосвященных «поэтическим» языком. Так и у кельтов имелось деление на друидов (отправителей культа и хранителей священного знания) и филидов (хранителей традиции поэтической речи, колдовских умений и эпических сказаний). Помимо собственно жречества в каждой общине имелись собственные заклинатели, знатоки обрядовых и иных традиций. Часть 1Глава первая. Словене и антыСлавяне и гуннская державаГуннское нашествие и последующий уход кочевой волны на запад имели опустошительные последствия для Восточной и значительной части Центральной Европы. Это особенно проявляется с первых десятилетий V в. Остатки черняховского населения сохраняются в V в. только в верховьях Днестра и Южного Буга, отчасти в Прутско-Днестровском междуречье и в Среднем Поднепровье. Здесь отмечено сближение черняховцев с балтской (или балто-славянской?) киевской культурой.[38] Остроготы, значительная часть антов и степных аланов уходят вместе с гуннами или под их натиском в Центральную Европу. Власть гуннской «державы» на востоке была непрочна. После ее распада, с середины V в., здесь прослеживается движение «киевских» племен на юг и юго-запад. Оно повлияло на формирование на месте черняховской культуры новой общности — пеньковской, связанной уже со славяноязычными антами VI–VII вв.[39] Что касается пшеворской культуры, то она в начале V в. прекращает свое существование. На значительной части ее территории долго отсутствовало постоянное население, за вычетом небольших групп потомков пшеворцев, доживших до славянского расселения конца V — начала VI в. Крупнейшая, добродзеньская на юге Польши — скорее германская по происхождению. Часть населения ушла под натиском гуннов на север, где начала складываться особая культура славянского облика. Какая-то часть пшеворцев и черняховцев переместилась вместе с гуннами в центральные области новосозданной державы Аттилы в Паннонии и Западной Дакии. Здесь известиями греческого историка V в. Приска, побывавшего у Аттилы с посольством из Империи, отмечено присутствие среди гуннов оседлого славяноязычного населения.[40] Судя по этим сведениям, можно говорить о довольно далеко зашедшем своеобразном симбиозе. Это явление отразилось и в германо-скандинавском эпосе, где гунно-славянский союз против германцев становится одним из общих мест. Может, однако, рисоваться и обратная картина. В любом случае, славяноязычное земледельческое население явно занимало в государстве Аттилы подчиненное положение по сравнению с кочевниками — гуннами и аланами. Отличалось оно по своему статусу и от сохранявших в основном собственную политическую организацию германцев. Как и остатки романцев в Паннонии и Дакии, славяне в гуннской державе представляли собой особую социально-этническую группу кастового типа. Именно в этих условиях происходит формирование собственно славян как особого этноса. Складывание нового славянского языка лингвисты относят к V столетию.[41] Носители этого языка, в число которых первоначально не входили ни оставшиеся в Восточной Европе анты, ни жители северных польских земель, называли себя старым этнонимом «словене» — ‘говорящие’. Применявшееся в зоне распространения пшеворской культуры для различения праславян от германцев (немцев ‘немых’), это название и теперь несло ту же функцию, отделяя славян и от тех же «немцев», и от иноязычных кочевников, и от местного романского населения. В подтверждение гипотезы о формировании славянского в узком смысле («словенского») этноса VI в. в пределах центральных областей державы Аттилы можно указать на предание о дунайской прародине славян. Оно приводится в средневековых славянских памятниках — древнерусской «Повести временных лет» (начало XII в.), хрониках Богухвала (Польша, XIII в.) и Далимила (Чехия, XIV в.). Наибольшей цельностью и содержательностью отличается самая ранняя, древнерусская версия.[42] Приведя ученое отождествление славян с придунайскими нориками, летописец Нестор повествует так: «По прошествии же многого времени [после библейского разделения языков] сели словене по Дунаю, где ныне Угорская земля и Болгарская. От тех словен разошлись по земле и прозвались именами своими… [далее перечисление племен, располагавшихся на территории Великой Моравии IX в.] Волохи ведь напали на словен на дунайских, и сели среди них, и чинили им насилие [далее описывается расселение славян на территории Польши и Руси]».[43] Западнославянские предания конкретизируют прародину на Среднем Дунае, в пределах тогдашнего Венгерского королевства (отождествлявшегося, заметим, в Средние века с древней державой Аттилы). Богухвал при этом говорит о «Паннонии», Далимил — о «Хорватии».  Пир Аттилы. Художник М. Тан Здесь отразились исторические события первой половины — середины V в. Упоминание «волохов» — позднейшее наслоение, связанное с преданиями дунайских словен. Более раннюю (VIII в.) форму легенды дает «Армянская география», приписывающая захват исконных славянских земель «готам».[44] Сформировавшись как этнос в составе гуннской державы, славяне после смерти Аттилы отчасти разделили судьбу ее создателей. Заметим, что основные места поселения могли быть на севере, в нынешней Словакии (прешовская культура, в которой к V в. появляется праславянский элемент). Известно о войне восставших германских королей против сыновей Аттилы. В битве при Недао в 454 г. германцы нанесли поражение кочевникам и вытеснили их на восток. Часть гуннов осела близ низовьев Дуная, часть перешла на земли Империи. Под давлением победителей славяне были принуждены уйти вслед за гуннами на Нижнедунайскую низменность, с востока которой и начинается тогда распространение славянской археологической культуры «пражского» типа. Происходит это с середины V в., в годы крушения гуннской державы. Гунно-славянский симбиоз в том или ином виде еще сохраняется. Но среди подданных сына Аттилы Динтцика, в 467 г. попытавшегося восстановить влияние гуннов в Среднем Подунавье, славяне или венеды, в отличие от германского племени ангискиров, не упомянуты. Наиболее тесно связанная с гуннами часть славян тогда же последовала за теми из них, кто перешел на земли Империи. Здесь славяне оставили о себе память в виде названий нескольких крепостей близ Наисса (ныне Ниш) и Пирота — опорных пунктов Империи на севере Иллирика.[45] Можно заключить, что эти крепости были изначально заняты славяно-гуннскими гарнизонами с преобладанием или под началом славян. Есть и археологические следы пребывания славян в этих областях до начала VI в.[46] С середины V в. начинается расселение славян на север от Нижнего Подунавья вдоль линии Карпатских гор. Здесь жили племена культуры карпатских курганов, представлявшие собой подвергшееся лишь слабой романизации туземное дакийское население. Судя по материалам поселений на Буковине, славяне во второй половине V в. местами жили вместе с ними, отчасти взаимно ассимилируясь.[47] В этих восточнокарпатских областях и складывается пражская или пражско-корчакская культура, связанная со славянами (словенами) VI–VII вв. С верховий Прута славяне, носители керамики «пражского» типа, расселяются в прилегающих областях бассейна Верхнего Днестра. Здесь еще жили черняховские племена. Некоторое время черняховцы, судя по археологическим данным, сосуществуют с пришельцами, даже в пределах одних поселений.[48] Другим местным субстратом являлись расселявшиеся на черняховских землях «киевские» племена.[49] В результате смешения этих трех элементов в течение середины — второй половины V в. формируется пеньковская (пражско-пеньковская) культура. Она надежно связывается со славяноязычными антами VI–VII вв. Третья группа славяноязычного населения оформляется в результате ассимиляции праславянами германцев и балтов на севере — в Великой Польше между Вислой и Одером. Эта группа сохраняла еще этноним «венеды», прилагаемый к ее потомкам германцами и прибалтийскими финнами. Во всяком случае, Иордан, перелагающий Кассиодора, сообщает о трех этносах, произошедших от древних венедов — собственно венедах, словенах и антах.[50] Из этих этнических групп только словене были носителями собственно общеславянского языка, сформировавшегося в V в. Анты и венеды, судя по имеющимся у нас отрывочным сведениям, говорили еще на диалектах праславянского. Однако из известий Прокопия и Иордана можно заключить, что все три племенных общности осознавали свое родство и единство языка. В целом с VI в. можно с уверенностью говорить о славянстве как этнической реальности. После гуннского завоевания неизбежным было разрушение начатков политической организации. В пределах центральных областей гуннской державы статус праславянских политических институтов, если они вообще сохранились, существенно снизился. Как равноправные союзники гуннов с собственными «королями» во главе славяне выступают только в памятниках позднейшего германского эпоса. Однако на периферии — в антских областях и тем более у независимых северных венедов — политическая организация должна была пострадать меньше. В Дакии и Паннонии в условиях симбиоза с гуннами, несомненно, сохранилась какая-то часть славяноязычной знати, быстро восстановившая свои позиции после падения державы Аттилы. То же самое произошло и со знатью ряда уничтоженных гуннами германских королевств (например, бургундов). С другой стороны, очевидно, что именно представители славянской воинской знати в первую очередь последовали за недавними союзниками на службу Империи и осели в Иллирике. Оформление известных в последующий период славянских племен и племенных объединений происходит начиная с конца V в. в условиях расселения славян в Восточной и Центральной Европе. Первоначальное расселение словенПервые письменные сведения о словенах восходят к концу V — началу VI в. В совокупности с археологическими материалами они позволяют очертить границы расселения славянских племен. Особенно ценно свидетельство Иордана, опирающегося на полученную в начале VI в. информацию Кассиодора.[51] Согласно Иордану, венеты (в широком смысле) живут вдоль северного — восточного («левого») склона Карпат на восток от Верхней Вислы. В том числе словенам отводится территория «от города Новиетуна и озера, которое называется Мурсианским, вплоть до Данастра и на севере до Висклы».[52] Днестр и Висла опознаются легко. Город Новиетун, по мнению большинства ученых, — римский Новиодун на Нижнем Дунае, в провинции Малая Скифия.[53] Это соответствует археологической карте, на которой пражско-корчакская территория длинным языком протягивается вдоль «левого» (восточного) склона Карпат до низовий Дуная.[54] Логика расселения словен — вдоль гор в северном и затем западном направлении. Загадкой в этой связи остается «Мурсианское озеро» (у впадения Дравы в Дунай[55]). В этом районе нет столь давних следов пребывания славян. Невозможно и предполагать какую-либо путаницу с нижнедунайскими областями. Наиболее вероятна следующая версия. Упоминание «Мурсианского озера» — исторический реликт, связанный с переходом в этом районе имперской границы группой славян, осевших во второй половине V в. в Иллирике, в округе Наисса. Возможно, кстати, у Кассиодора и шла речь об этом, а сокращавший предшественника Иордан неверно понял свой источник. Более или менее надежно датируется V в. группа словенских памятников к востоку от Карпат — в Молдове (Костиш, Ботошаны), Буковине (Кодын, Гореча, Рашков и др.).[56] На большинстве этих памятников отмечено сосуществование славян с местным, отчасти романизированным, дакийским населением (прежде всего, культуры карпатских курганов).[57] В начале VI в. в связи или с ростом численности словенского населения, или уже с расселением антов из-за Днестра, этот процесс прервался.[58] Из Буковины между верховьями Прута и Сирета расселение словен шло в последней четверти V в. двумя путями. Одна группа продолжила движение вдоль линии Карпатских гор, вскоре поворачивавших на запад, и достигла верховьев Вислы. Другая двигалась по изрезанной реками Подольской возвышенности на север, где словене вошли в первый контакт с антами. Миновав уже заселенные последними области Верхнего Поднестровья, словене по левым притокам Днестра вышли к Западному Бугу и осели по обоим его берегам. Иордан говорит о проживании словен в «лесах и болотах»[59] — следовательно, они уже достигли болотистых областей юго-западного Полесья и довольно прочно там обосновались. В верхнем течении Буга болота вплотную подступают к реке и отчасти переходят на левый, западный берег. Есть ряд указаний на то, что эти земли рано стали центром для дальнейших словенских миграций, так что упоминание Иорданом «болот» становится понятным. В описываемое время словене, судя по очерченным готским историком рубежам, уже заселяли междуречье Западного Буга и Вислы до впадения Сана и поворота Вислы на север — юго-западную часть Волыно-Подольских возвышенностей. На западе словенское расселение достигло истока Вислы у оконечности Карпатских гор. 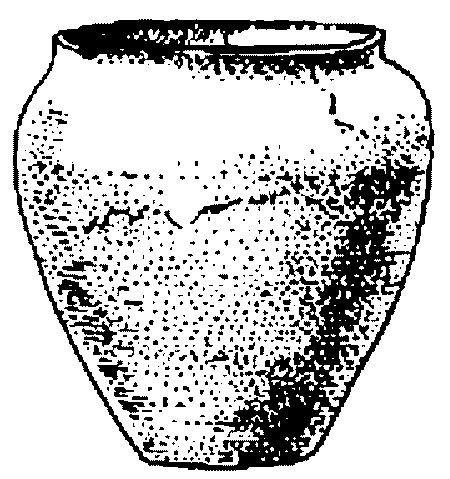 Пражско-корчакский сосуд О словенах к западу от верховий Вислы Иордан (Кассиодор?) ничего не знает, что, впрочем, само по себе ни о чем не говорит.[60] В политическом смысле эти земли действительно принадлежали еще германцам, а не словенам, хотя заселены были (особенно в северной части[61]) крайне редко. Пражско-корчакские находки, которые можно относить к V в., есть на поселениях (Иголомя, Хоруля, Страдув и др.) как в верховьях Вислы, так и на юге междуречья Вислы и Одры. В этих областях расселявшимся словенам встретилось родственное пшеворское население, немногочисленное и быстро ассимилированное.[62] Стоит отметить, что пшеворцы, встреченные словенами, не обязательно сами относились к праславянскому этносу. В наиболее значительной позднепшеворской группе Южной Польши — добродзеньской — скорее всего, преобладали германцы. При этом праславянский элемент также имел место. На смешанных поселениях V в. пшеворцы жили в германских домах столбовой конструкции. Помимо германцев, словене ассимилировали или вытеснили также гуннов, проникших на север в середине V в.[63] Продолжая движение по возвышенности вдоль Карпат, словене неизбежно должны были свернуть к югу и оказаться в долине Моравы. Здесь, в моравском Подолье, также есть славянские памятники конца V в. (древнейший славянский могильник Пржитлуки и др.).[64] В этой области словене встретили немногочисленное германское и романское население, быстро смешавшееся с пришельцами или ушедшее за Дунай. Этот процесс иллюстрируется, в частности, находками в поздних слоях древнего поселения Злехов.[65] Война герулов с лангобардами и уход за Дунай большей части германцев Богемии (бойо-варов, будущих баваров) создавали благоприятные условия для движения словен на запад. Как уже говорилось, в сочинении Иордана об этих передовых группах расселяющихся словен на рубежах Паннонии нет ни намека. Зато о них знал основывавшийся на герульском предании Прокопий Кесарийский. Согласно ему, после поражения 494 г. герулы разделились на две части. Одни ушли к гепидам, а затем (в 512 г., по другому источнику) за Дунай, в римский Иллирик. Другая часть отправилась на свою северную прародину. Не совсем ясно, когда именно между 494 и 512 гг. и где (скорее всего, уже в землях гепидов) произошло это разделение. Зато четко сказано, что по пути на север из Паннонии или Западной Дакии герулам в первую очередь довелось миновать области, населенные словенами.[66] Между землями словен и варнами (в Тюрингии или скорее в Саксонии), то есть к востоку от Эльбы и по средней Одре, Прокопий в полном соответствии с исторической истиной помещает «обширную пустынную землю».[67] В ходе расселения происходило разделение словен на отдельные племена и племенные союзы. Кассиодор, перелагаемый Иорданом, говоря о славянах, оправдывался перед читателем: «Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами (Sclaueni) и антами».[68] Таким образом, латинский автор неплохо был осведомлен о славянских самоназваниях. Он знал об обеих моделях образования славянских этнонимов — по происхождению (на — ичи) и по месту жительства (на — ане, — яне и т. п.). Соответственно, обе эти модели уже существовали на рубеже V–VI вв. и использовались для обозначения отдельных славянских (и антских) племен. В то же время словене осознавали общность своего происхождения и использовали термин «словене» как общее самоназвание. Это подчеркивают и позднейшие славянские хронисты.[69] Русская летопись выделяет в отдельное племенное объединение, прежде всего, дунайских словен (дунайцев) на будущей территории Болгарского царства, включавшей и Мунтению.[70] На раннем этапе «дунайцами» именовали себя словене, осевшие по нижнему Дунаю, в Мунтении, и к востоку от Карпат, в Молдове и Буковине. Западный Буг стал естественной границей между двумя другими группами словенских племен. Одна осела на правобережье (будущая Волынь) и двигалась вдоль реки на север в направлении полесских болот. Другая осела на западном, левом берегу реки (будущая «Червонная Русь») и быстро сомкнулась с соплеменниками, расселявшимися вдоль Карпат по направлению к верхней Висле. С этим разделением следует связывать появление двух преданий о происхождении славян. Одно предание, более ясное, сообщает арабский автор Х в. ал-Масуди, располагавший сведениями восточнославянского происхождения. Согласно Масуди, «корнем из славянских корней» является племя волынян («валинана»), которому подчинялись все остальные славяне.[71] «Волыняне» — позднейшее (с первой половины Х в.) название племенного союза бужан. Это же последнее происходит от реки Буг. В древности на земле волынян, по «Повести временных лет», жили дулебы.[72] Данные топонимики в сопоставлении с археологическими позволяют сделать вывод, что дулебами именовалось первоначально все словенское население восточнее Западного Буга.[73] Это нетрудно сопоставить с рассказом Масуди. Дулебы — этноним западногерманского происхождения со значением ‘наследство умершего’.[74] Слово могло быть заимствовано праславянами в пшеворскую эпоху. На каком-то этапе оно было осознано применительно к людям (‘потомки, наследники одного предка’). Его восприняли затем как кальку древнейшего славянского слова *cedь ‘чадь, домочадцы, потомки одного рода’. Это понятие иногда употреблялось как самоназвание народа.[75] Таким образом, «дулебы» стало самоназванием славянских племен, осевших на правобережье Западного Буга. Бужане изначально являлись старшим племенем дулебской племенной общности. Позже они стали одним из входивших в нее племенных союзов. Славяне-дулебы, расселившиеся на восток от Волыни, связывали свое происхождение с бужанами (волынянами). Баварский географ IX в. приводит другое предание о происхождении славян. Согласно его данным (несомненно, западнославянского происхождения), все славяне произошли из «королевства» (regnum) Zerivani.[76] Оно завершает перечень племен Восточной Польши и прилегающих областей и всю первую часть сочинения. Убедительным является толкование этого названия как *cьrvjane и отождествление червян с жителями «Червонной Руси».[77] Позже, в IX–X вв. на этих примыкающих к Волыни с запада землях жили лендичи (лядичи) или лендзяне (лядзяне). От последней формы происходит венгерское название поляка — lenguel. Усеченный вариант этого же слова — «ляхи». Так издревле обозначали славян Польского королевства другие соседи — восточные славяне. Этноним восходит к практике подсечного земледелия и обозначает жителей местности, впервые расчищенной под пашню.[78] Можно заключить, что второй центр словенского расселения образовался на противоположной бужано-дулебской стороне Западного Буга. Помещаемые здесь источниками племенные названия — червяне и лядичи / лядзяне. Они соотносятся так же, как названия бужан и дулебов. Разница в том, что местное имя бужан пережило на востоке общее имя дулебов. На западе же общим было как раз сохранявшееся дольше имя лядзян / лендзян (ляхов). На это указывает распространение слова «ляхи» как обозначения поляков в восточнославянских языках и венгерское lenguel. Кроме того, чешские значения lech ‘начальник, землевладелец, старейшина’ можно объяснить ляшским происхождением обитателей Чехо-Моравии. Объяснимы они и древними политическими связями (чешское lech ‘поляк’ заимствовано из древнерусского, как и в самом польском). Племя червян на левобережье Западного Буга лидировало в племенной общности лендзян (ляхов). Позже имя «червяне» забылось, оставшись лишь в названиях города Червень и Червонной Руси. Западнославянские племена этой области именовались лендзянами или лендичами. В то же время в языках соседей сохранялся и расширительный смысл понятия «лендзяне» («ляхи»). Славяне-ляхи, расселившиеся на запад от Буга, считали своей прародиной древнюю землю червян. Процесс расселения дулебов на восток от Буга относится в основном уже к VI в. Лендзяне же, двигаясь от Буга и вдоль Карпат, достигли, как мы видели, уже на рубеже V–VI вв. верховьев Вислы и местами перешли через нее, направляясь к Одре. Выделение из ляшской общности отдельных племен или племенных групп трудно проследить. Отчасти это связано с тем, что польские хронисты обратились к древнейшей истории страны только в XIII в., когда древние племенные названия забылись. Русская летопись называет только те ляшские племена, которые сохраняли значительную автономию в XI в. Тем не менее можно предположить, что в первом десятилетии VI в. уже обособилось племя вислян на Верхней Висле. Название этого племенного объединения IX в. доказывает, что ляшские словене впервые достигли Вислы именно в этом районе. Так же ясно, что имя этой племенной группы возникло прежде, чем славяне продвинулись дальше на север. В сложении племени, а затем племенной группы вислян приняли участие как славяне (включая «пшеворцев»), так и германцы, а возможно, и гунны. Археологически отмечено сравнительно плотное заселение района уже на рубеже веков. Тогда же выделилась группа славян, осевшая на Мораве. Этноним «морава, мораване» связан с названием реки. Первоначально так называлась вся травянистая низменность моравского Подолья.[79] Мораване развивались отчасти автономно от племенного союза лендзян. Известие Кассиодора не позволяет считать территорией словен земли западнее Вислы — по крайней мере, в политическом смысле. Итак, на рубеже V–VI вв. словене занимали уже обширную территорию. На юге, в Нижнем Подунавье, они вплотную подступали к рубежам Империи. Впрочем, перед ними еще были обширные незаселенные или редконаселенные пространства. Пустовали Полесье, южные области древней Дакии, территории современной Польши, Чехии (древней Богемии), Словакии, восточной Германии. В Паннонии и Западной Дакии располагались сильные королевства лангобардов и гепидов. Норик занимали подчинявшиеся остготам ругии и бавары. Восточными соседями словен были гунно-болгарские племена в Нижнем Подунавье и, прежде всего, — анты. Первоначальное расселение антовАнтам рубежа V–VI вв. Кассиодор отводит территорию к востоку от словен, от Днестра до Днепра. При этом кажется, что южной границей их он полагает Черное море («там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра вплоть до Данапра»).[80] Это в целом соответствует распространению археологических памятников пеньковского (пражско-пеньковского) типа. В сочинении Кассиодора — Иордана говорится также, что анты «самые могущественные из них» (венедов),[81] то есть сильнее или многочисленнее словен. В конце V — начале VI в. так оно и было, насколько можно судить по данным археологии и письменных источников. Древнейшая и самая большая группа пеньковских памятников V в. располагалась в бассейне верхнего Днестра. Существовавшие здесь поселения (Рипнев близ истоков Западного Буга, Бовшев, Демьянов на Днестре и др.) характеризуются постепенной сменой черняховских элементов пеньковскими. С другой стороны, для поселений Рипнев, Бовшев и некоторых других в этом регионе (вплоть до притока Днестра Серета) характерно длительное сосуществование пеньковских и пражско-корчакских элементов.[82] Это объяснялось географическим положением верхнеднестровских земель как связующего звена между районами расселения словен в Буковине и на Западном Буге. Вторая, меньшая группа «промежуточных» черняховско-пеньковских памятников V в. расположена ниже по Днестру, за впадением Збруча (Сокол, Бакота). Здесь также наблюдается взаимодействие поздних черняховцев со словенами. Эти среднеднестровские памятники, соседящие с несомненными пеньковскими, иногда даже считают корчакскими.[83] В полном согласии со свидетельством Кассиодора, антские поселения этого времени обнаруживаются только на левом, восточном берегу Днестра. Антов к западу от Днестра Кассиодор еще не знал. Их проникновение за реку в его время еще было незначительным. Зато готский историк ясно отмечает движение антов к морю, вниз по Днестру. Надо, однако, отметить, что даже при наибольшем распространении пеньковской культуры анты, в отличие от древних черняховцев, не селились непосредственно вблизи моря.[84] Для данного же времени речь может идти о проникновении небольших, не закрепившихся еще на новых землях групп антов в не имевшее оседлого населения Нижнее Поднестровье. В конце V в. уже произошло значительное продвижение антов на восток, в глубь лесостепных возвышенностей Восточной Европы. Возникли антские поселения в среднем течении Южного Буга (Куня и др.).[85] Продвинувшись еще дальше на восток, анты достигли Днепра и, по меньшей мере, в одном месте перешли реку. На левом берегу, за впадением Сулы возникло пеньковское поселение Жовнин.[86] Выше по Днепру анты обосновались на правобережье среднего Днепра, в районе будущего Киева. О первоначально антском заселении Киевской земли свидетельствует антропологический тип населения, восходящий к черняховской эпохе, и длительное отсутствие здесь курганных погребений.[87] В конце V — начале VI в. возникает первое поселение (быть может, уже укрепленное) на Старокиевской горе.[88] Оно стало передовым форпостом антского расселения в Поднепровье, хотя уверенно начинать отсюда историю города Киева проблематично. В Среднем Поднепровье антское расселение захватило южную область древней киевской культуры. Существуют разные точки зрения на степень участия «киевских» племен в сложении пеньковской культуры, но само это участие сомнений не вызывает. Особенно это касается пеньковских памятников VI в. на левобережье Днепра.[89] Их основные культурные черты складываются в Поднепровье в конце V в., в процессе синтеза «киевских» и пришедших с запада элементов. На основной территории киевской культуры в Подесенье и Верхнем Поднепровье к концу V в. на основе предшествующей сложилась новая колочинская культура.[90] Высказывалось мнение о ее славянской принадлежности, связанное с гипотезой о славянской принадлежности и самих киевских памятников.[91] Однако колочинская культура гораздо теснее связана с балтской культурой Тушемли-Банцеровщины в Верхнем Поднепровье и в прилегающих областях, чем с пражско-пеньковской. Влияние последней вполне объяснимо межкультурными контактами. В целом колочинская культура входит в восточно-балтскую культурную область.[92] Кассиодор в полном соответствии с имеющимися у нас археологическими данными отводит балтам (эстиям) обширную территорию на северо-востоке Европы. Их южными (с учетом размещения венедов, юго-восточными) соседями он полагает акацир,[93] известных как гуннское кочевое племя. Очевидно, что колочинская культура и соответствует южному пределу эстиев по Кассиодору. Границей между эстиями-колочинцами и акацирами была река Сейм, хотя колочинские памятники VI–VII вв. встречаются и между Сеймом и Сулой, и в верховьях Псела.[94] Восточными соседями антов были гуннские (тюркоязычные) кочевые и полукочевые племена. В верховьях Северского Донца и левых притоков нижнего Днепра обитали акациры. К югу от них, в Тавриде и Приазовье, кочевали болгары, достигавшие в западных походах границ Империи в Нижнем Подунавье. Дальше к востоку располагались кочевья савир и других гуннских племен. Кочевников бассейна Днепра — акацир и болгар — сближала с антами общая аланская (и шире — черняховская) основа их культуры. В лесостепной полосе аланы растворялись в праславянской среде, что и привело к сложению славяноязычной антской общности. В степи же аланские племена, иногда сохраняя автономию, вливались в гунно-болгарские кочевые объединения, постепенно перенимали обычаи и язык пришедших с востока кочевников. Это привело к сложению степной «болгаро-аланской» культуры во многом на аланской основе. Земли по Суле и Пселу еще с черняховской поры занимало племя или племенное объединение аланских кочевников с названием от основы seu ‘черный’. Они были потомками древних саваров.[95] Это название отразилось в позднейших названиях славянского племенного союза северов и этнографической группы севруков (славянизированных потомков кочевников).[96] Эти аланы входили в состав гуннского племенного союза акацир. Перейдя Днепр близ впадения Сулы, анты сразу же вступили в контакт с гунно-аланскими кочевниками. Присутствие довольно значительного числа «алано-болгар» отмечено на поселении Жовнин.[97] Именно в Нижнем Посулье в результате смешения антов с местными аланами в начале VI в. сложилось антское племя северов. Это было именно небольшое племя, еще не продвинувшееся в глубь будущей Северской земли. Основная ее территория была пока занята аланскими предками севруков и акацирами. Но возникновение племени северов следует все же относить ко времени, предшествующему миграции антов в придунайские области в первой половине VI в. Имя северов в VII–VIII вв. отмечено среди дунайских славян. В контактной зоне между антами и акацирами возник и славянский этноним «хозирцы», упоминаемый Баварским географом.[98] Произойти это могло так же еще в начале VI в. Можно еще сопоставить упоминаемых тем же автором славян Zabrozi с названием другого гуннского племени — савир. К раннему периоду сложения пеньковской культуры следует относить и другие славянские этнонимы в древнем антском ареале, в которых прослеживаются иранские корни. Прежде всего, это племенное название «хорваты» (*хъrvate), первоначально относившееся к жителям Верхнего Поднестровья. Это название было, по мнению ряда лингвистов, народной иранской формой этнонима «сарматы» (по происхождению индоарийского) — отсюда собственное имя «Хорват» в сарматской среде II–III вв.[99] Первоначально алано-сарматы бассейна Верхнего Днестра называли себя так в отличие от славяноязычных переселенцев. Затем название стало обозначать уже племя или племенную общность славяноязычных антов, причем в контактной антско-словенской зоне. Последнее обстоятельство могло служить сохранению названия — анты как потомки сарматов противополагали себя словенам. В именовании прикарпатских хорватов «белыми», то есть западными, можно увидеть некую параллель со смыслом самого слова «анты». Белые хорваты — ‘западные, «внешние» («антские») сарматы’. Еще один славянский этноним с иранским корнем — «тиверцы». В раннем средневековье так именовались восточные славяне, жившие в Поднестровье. Название толкуется как «днестровцы» (от иранского названия Днестра) и, несомненно, возникло уже на славянской языковой почве.[100] Но собственно славянское название реки — *Dъnestrъ — дако-фракийского происхождения, хотя в конечном счете также восходит к иранским языкам.[101] Племенное имя тиверцев появилось в период, непосредственно следующий за славяно-иранскими контактами времен формирования пеньковской культуры. В ходе этих контактов одна из групп славяноязычных антов заимствовала иранское название реки. Племя тиверцев, ставшее основой племенного союза, сложилось на южной периферии поднестровского антского ареала конца V в. — в районе поселений Сокол и Бакота. Оттуда анты двигались дальше вниз по Днестру, в районы позднейшего обитания тиверцев. Это название, соответственно, получило антское население Среднего и Нижнего Поднестровья. К тому же периоду и к антам же восходит и ряд других славянских этнонимов неславянского происхождения. ?????????? греческих авторов — название, скорее всего, тюркское, хотя и с иранской основой. Этимология Willerozi Баварского географа неясна, но почти наверняка неславянская, как и во всех названиях на — rozi/-рци. Изначально в числе антских племен должны были находиться и сербы. Название этого славянского народа берет свое начало в скифо-сарматских степях, где и упоминается античными авторами.[102] Славяне-сербы, подобно хорватам, также издревле именовались «белыми». Первоначальная локализация всех этих антских племен нам неизвестна. На рубеже V–VI вв. анты освоили практически всю территорию, еще занимавшуюся к середине V в. черняховскими племенами. Отношения их с соседями в этот период первоначального расселения, судя по всему, были в основном мирными. Однако характеристика антов Кассиодором как «самых могущественных» все же наводит на мысль, что им доводилось меряться силами с соседями. Если поселение на Старокиевской горе конца V — начала VI в. действительно было укреплено, это может свидетельствовать о сложных отношениях с колочинскими племенами. С другой стороны, археологический материал свидетельствует о взаимопроникновении колочинского и пеньковского населения, затрагивавшем отнюдь не только приграничную полосу.[103] Главную роль для антов этого периода, несомненно, играли контакты с кочевниками. Эти контакты были продолжением самого процесса формирования пеньковской культуры из симбиоза элементов славянских (пражских) и балто-славянских (киевских), с одной стороны, и полуиранских (черняховских) — с другой. Соответственно, они носили на том этапе мирный характер. Материалы поселения Жовнин (как и ряда более поздних) свидетельствуют о мирном проживании алано-болгарских выходцев на антских поселениях; кочевая культура оказывала существенное воздействие на пеньковцев.[104] Тесные этнические контакты подразумевали и некие формы политических связей. После гибели державы Аттилы новая консолидация сил Степи начинается только с конца V в. Центром ее стали области между Доном и Волгой, где разместилось мощное племенное объединение савир.[105] Савиры были опасными противниками персидской державы Сасанидов, не раз беспокоившими ее кавказские границы. В савирское объединение входили хазары (акациры?), аланы, болгары (или какая-то часть тех и других). В одном из набегов на владения Сасанидов в конце V в., если верить азербайджанскому автору XV в. Захир-ад-дину Мараши, участвовали и какие-то «славяне». Напав вместе с «хазарами» на Дербент, они были разгромлены сасанидским военачальником Джамаспом.[106] Появление здесь «славян» вместо ожидаемых антов вполне объяснимо. На целое (славяноязычные племена) переносится более известное и единственно понятное позднему автору название части. Подобно этому и сами савиры у большинства мусульманских историков почти всегда, как и в данном случае, подменяются хазарами. Имя славян могло появиться у персидских авторов позже, с VI в. Итак, если данное известие достоверно, оно свидетельствует о военно-политическом союзе антов с савирским союзом гуннских и аланских племен конца V в. (ср. Zabrozi Баварского географа). Мысль о вхождении антов непосредственно в этот союз опровергается и изолированностью факта, и ясным свидетельством сочинения Иордана об антах как могущественном и самостоятельном народе. Военно-политические контакты антов (и словен) с гуннским кочевым миром нашли свое продолжение в первой половине VI в., в ходе продвижения славянских племен на Балканы и войн с Империей. Движение к ДунаюВ первых десятилетиях VI в., позднее времени, отражаемого известиями Кассиодора, происходит расселение племен пеньковской культуры на запад от Днестра.[107] Причины этого движения не вполне ясны. С одной стороны, оно могло быть следствием естественного расселения антов вдоль водных артерий — Днестра и Прута. Но в передвижение оказались втянуты и крайне удаленные от тех мест антские племена, в том числе одно из самых восточных — северы. Колочинская керамика найдена на поселении Рашков в Буковине.[108] На движение антов повлияла активизация в Подунавье болгар. Их набеги на дунайскую границу Империи становятся чаще с рубежа V–VI вв.[109] Прежде всего, анты заняли значительную часть Прутско-Днестровского междуречья. Районом наиболее плотного антского расселения и тогда остались земли в бассейне верхнего и среднего Днестра с прилегающей частью междуречья. Антское население (в основном хорваты) здесь абсолютно преобладало над словенским.[110] На юге Среднего и в Нижнем Поднестровье возник в VI в. второй очаг расселения антов в регионе. Анты (тиверцы) осели на правом, западном берегу реки и по ее притокам (Реуш, Бык и др.). Реже встречаются антские поселения вниз по Пруту. Здесь обосновались отдельные разрозненные группы антов. У моря и дельты Дуная анты не селились.[111] Основной поток западной миграции двинулся в уже занятые словенами земли Буковины, к югу от верховий Прута. Довольно плотно заселив эту область, анты тронулись вниз по Сирету, местами переходя реку. В итоге древнейшие словенские поселения Буковины и Молдовы (Рашков, Кодын, Гореча, Ботошаны) оказались смешанными по составу населения, антско-словенскими. Отдельные чисто антские поселения возникли в междуречье Прута и Сирета.[112] В итоге своего продвижения по долине Сирета и вдоль Карпат на юг анты заняли довольно обширные пространства в древней Дакии — позднейшую Буковину, Молдову, северо-восток Мунтении (Валахии восточнее Олта). Они вышли к Дунаю немногим выше его дельты.[113] Значительная часть этой территории (по крайней мере, на севере) была уже освоена словенами. Отношения между двумя группами славяноязычного населения в то время были мирными. Анты были более многочисленны и лучше организованы. Они без каких-либо конфликтов селились на словенских поселениях или чересполосно с ними. Мирное совместное проживание словен и антов отмечено, прежде всего, на поселениях Буковины и Северной Молдовы (Кодын, Гореча, Каменка и др.). Некоторые из них, как уже говорилось, возникли как словенские еще до прихода антов. Словене расселялись вместе с антами и дальше на юг, в Подунавье, что отмечено в археологическом материале Мунтении. Корчакская и пеньковская керамика сочетаются в чуть более позднем могильнике Сэрата-Монтеору (северо-восток Мунтении).[114] В политическом плане более сильные анты, конечно, лидировали в этом симбиозе. Родственные словене не оказали сопротивления антской миграции. Зато она натолкнулась на естественную враждебность местного романизированного дакийского населения, сосредоточенного в горных областях. С немногочисленными словенами дакийцы сосуществовали в основном мирно, но приход многолюдного, хорошо организованного потока переселенцев не мог не вызвать осложнений. Отголоски преданий о враждебности «волохов» сохранились в «Повести временных лет».[115] Косвенным их подтверждением может служить восприятие славянами (именно в Дакии) мифологизированного образа римского императора Траяна. У румын Троян — эпический герой. Сербы же и восточные славяне восприняли его как враждебное божество подземного мира. К 540-м гг. анты лучше других придунайских соседей Империи были обучены навыкам войны в горной местности.[116] Выработаться эти навыки могли только в Карпатах и в длительной борьбе с местными жителями. Вместе с тем сопротивление дакийцев, хотя бы упорное и продолжительное, не могло быть организованным и действенным. Славянское (анто-словенское) расселение беспрепятственно продолжалось. Аборигенам, лишенным политической организации и давно брошенным Империей на произвол судьбы, в итоге оставалось только отступить в недоступные и ненужные завоевателям горы или смириться. В последнем случае они могли оставаться на своих землях. Серьезной угрозы для антов подчинившиеся местные жители не представляли. Славяне воспринимали их в первую очередь как пастухов. Потому славянское название восточных романцев «волохи» перекликается с именем «скотьего бога» славян Волоса. Острее всего конфликт проявился при первом приходе антов на Буковину. Недаром с начала VI в. совместное проживание аборигенов и словен на тамошних поселениях прерывается.[117] Неассимилированные потомки создателей культуры карпатских курганов были вытеснены на юг или в горы. По мере продвижения антов дальше на юг, однако, напряженность между пришельцами и местными жителями спадала. На ряде поселений Молдовы и Мунтении (Ботошаны, Тырпешти и др.) совместное проживание словен и антов с волохами отмечено и в VI в.[118] Волохи, селившиеся со славянами, неизбежно включались в славянское общество и в политическом плане подчинялись антам и словенам. Скорее всего, именно это имел в виду ученый грек середины VI в., когда не без презрения говорил о «данувиях», что они «подчиняются и повинуются всякому».[119] Тот же автор (Псевдо-Кесарий) приписывает им воздержание «от обжорства» и даже вегетарианство.[120] Это может быть отголосок каких-то повинностей данубиев, связанных с поставками скота антским и словенским племенам. 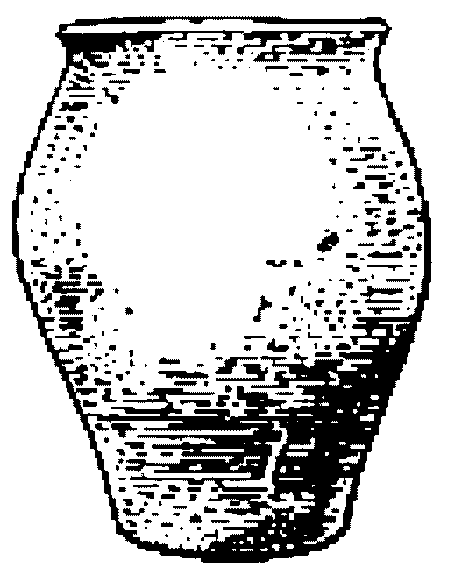 Ипотештинский сосуд Особенно ярко симбиоз славянского и восточно-романского населения проявился в рамках культурной группы Ипотешти — Кындешти — Чурел (иногда выделяется в особую археологическую культуру). Ее основными создателями были словене, носители пражско-корчакской культуры. Увлеченные миграцией антов и отчасти смешавшиеся с ними, эти словене заселили земли немногим южнее и западнее основных земель сородичей — в центральной и северной Мунтении, местами приближаясь к Дунаю. Отдельные группы позднее продвинулись и дальше на запад, даже за Олт, в Олтению. Именно эта культура VI–VII вв. с преобладанием и возрастанием корчакского элемента, соответствует придунайским словенам, о которых говорят греческие авторы и русская летопись.[121] Первоначально дунайские словене должны были входить в антскую племенную общность как некая автономная единица. Судя по некоторым типично «пеньковским» находкам (отдельные типы керамики, бронзовые пальчатые фибулы[122]), анты жили на поселениях типа Ипотешти вместе со словенами, постепенно растворяясь в их среде. Третьим этническим элементом культуры Ипотешти — Кындешти — Чурел было местное романизированное население. Рядом со словенами и смешивавшимися с ними антами в Мунтении проживало несколько более развитое в культурном и экономическом плане население, находившееся под воздействием имперской культуры Задунавья. Оно оставило большое количество керамики провинциально-римского типа, изготовленной на гончарном круге. С тем же элементом связаны некоторые находки византийского происхождения на памятниках этой группы. Часть находок можно объяснить пребыванием в среде славян VI–VII вв. пленников из Задунавья. Но количество и качество материала убеждают многих археологов в наличии на поселениях типа Ипотешти постоянного романо-дакийского населения. Оно мирно сосуществовало со славянами и оказывало на них разноплановое воздействие.[123] Это явление было наследием традиций мирного сожительства словен и дакийцев в восточных карпатских областях. Тесные контакты славянского и романского населения, длительное их совместное проживание подтверждают и языковые материалы. В общеславянском языке появился довольно мощный пласт заимствований из латинского, в том числе и более или менее явные восточнороманские диалектизмы. Выделяется группа терминов, связанных со скотоводством,[124] но, в общем, заимствования касаются разных областей хозяйства, быта, обрядности, социального устройства.[125] В свою очередь, восточные романцы заимствовали у славян термины, связанные с земледелием и ремеслом (особенно деревообработкой),[126] мифологические понятия (например, «вырколак» — оборотень, дух затмения). Отдельные группы словен и антов уже в первой половине VI в. проникают в южные горные области позднейшей Трансильвании, входившие тогда в королевство гепидов. Это было мирное проникновение небольших групп земледельцев. Пребывание славян отмечено здесь на гепидо-романском поселении V–VI вв. Братей.[127] Славяне продвигались к Среднедунайской низменности и по другим направлениям. Две группы словен с верховий Сана и Днестра в VI в. пересекли Карпаты и обосновались в верховьях Тисы (будущая Подкарпатская Русь — Закарпатская Украина). Возникли, соответственно, две группы поселений — в районе Ужгорода и на самой Тисе (Чепа, Дяково). Здешние словене по материальной культуре были близки к северным сородичам, но имели и яркие особенности.[128] Они явно смешались с местными жителями. Имеются некоторые, хотя и не прямые, параллели с погребальным обрядом культуры карпатских курганов.[129] Еще одна группа словен около того же времени продвинулась от Моравы в равнинные приречные области юго-западной Словакии.[130] Отсюда словене вытеснили немногочисленное оседлое или полуоседлое гуннское население — потомков подданных Аттилы.[131] Другим направлением миграции из Поморавья в первой половине VI в. стал путь на нагорья, лежавшие к северо-западу. Словен, конечно, привлекали не горы, а пригодные для земледелия долины Влтавы и Огрже — левых притоков верхней Эльбы. Двигались они сперва вверх по Йиглаве, притоку Моравы, а от ее истоков — по Лужнице и Влтаве. Всех жителей этой страны, издавна именовавшейся Богемией по древнему кельтскому племени бойев, праславяне столь же издавна называли чехами (своеобразная калька племенного имени бойев со значением «ударяющие»[132]). Подобно тому, как германские племена маркоманнов в Богемии приняли имя прежних ее обитателей (бойо-вары, бавары), первые словене, осевшие в стране, взяли себе имя чехов. Согласно чешскому хронисту Козьме Пражскому (первая четверть XII в.), первые чехи осели между впадениями Огрже и Влтавы, близ горы Ржип. В хронике Козьмы впервые приводится и предание о мифическом предводителе Чехе, якобы приведшем первых жителей в эту «обетованную страну», в честь чего они и дали ей имя вождя.[133] Далимил (XIV в.) несколько дополняет легенду о Чехе, утверждая, что он был знатный изгой из «Хорватии» и имел шестерых братьев.[134] Последний мотив отражает древнейшее деление чехов на «роды», затем разросшиеся в отдельные племена. Точное количество этих «родов», однако, определять на основе известия Далимила о семи братьях-родоначальниках невозможно. Семь — типичное «фольклорное» число.  Хозяйственные постройки славян в Бржезно Одно из древнейших словенских поселений чешских земель — Бржезно на Огрже. Оно возникло как германское. Словене пришли позднее и стали жить вместе с германцами. Германцы тесно контактировали со словенами, постепенно растворяясь в их среде.[135] Столь же мирно шло расселение словен и в других районах древней страны бойев. Древние чехи расселились по Огрже и Влтаве, включая район будущей Праги. На территории города найден могильник, относящийся к первой фазе славянского расселения. Одно поселение уже в начале VI в. возникло далеко на север по Эльбе, в ее междуречье с Заале.[136] Германское население Богемии все сильнее редело — лангобарды переселялись в Паннонию, а бавары — в Норик. К середине VI в. славянскими считались не только области, примыкавшие с севера к лангобардской Паннонии и гепидской Западной Дакии, но и земли, граничившие с остготскими владениями в Норике.[137] Хозяйство и бытОсновой хозяйства славянских племен в рассматриваемый период являлось земледелие. Конкретные его формы плохо прослеживаются по археологическому материалу. Однако можно предполагать, что в северной части расселения словен (Полесье, южная Польша) преобладало подсечно-огневое земледелие.[138] На более открытых и старопахотных местностях восточноевропейской лесостепи и дунайских низменностей анты и словене освоили переложное земледелие. С быстрым истощением земель в результате обеих этих форм ее эксплуатации (особенно подсеки) связаны частые перемещения словен и антов с места на место, о которых упоминает Прокопий.[139] Истощение участка, эксплуатируемого по подсечно-огневой системе, происходило, по современным оценкам, спустя три-четыре года.[140] В областях, прилегающих к Дунаю, анты и словене могли отчасти воспринять римскую агрикультуру и перейти к двуполью. Из возделывавшихся зерновых культур следует назвать просо, мягкую пшеницу, овес, ячмень.[141] На пахотных землях была возможность выращивать волокнистые культуры. Судя по языковым материалам, к таковым относились лен и конопля.[142] Славяне выращивали также хмель, виноград, занимались огородничеством и плодоводством. Основным орудием пахоты было рало. У словен, судя по отсутствию материальных остатков,[143] использовалось примитивное деревянное рало (орало). Древнейшее рало представляло собой цельное тонкое дерево с корнем, который превращался в ральник. Ствол дерева становился дышлом пахотного орудия; рукояткой могла служить вколоченная палка.[144] Рало использовалось в основном на старопахотных землях. Издревле применялась также деревянная мотыга (праслав. *motyka, *kopacь[145]). Двузубую мотыгу иногда считают прототипом сохи.[146] Это орудие могло использоваться и при подсечном земледелии. Более развитой была конструкция антского рала. Анты вслед за древними черняховцами использовали рало с железным широколопастным наральником с плечиками. По оценкам археологов, это было орудие типа позднейшего рала с полозом.[147] На этом орудии (именно оно первоначально называлось «плуг») рукоятка была дополнена полозом, сделанным из цельного дерева. В антской среде зародились и некоторые другие переходные к плугу формы рала. Наряду с безотвальным, только разрезающим землю ралом с полозом к таковым можно отнести рало (орало, плужницу, иногда именовалось «плуг») с отвалом и расширенным ральником.[148] Оно еще ближе к плугу и появилось позже, в условиях совместных анто-словенских миграций. К орудиям иного типа, но возникшим в тех же условиях, относится рало с копыстью (деревянным брусом, вставлявшимся в дышло под углом 45°), на которую насаживался треугольный наральник без плечиков (позднейший сошник). Находки наральников без плечиков в антском ареале единичны.[149] Для рала уже широко использовалась животная (конская или воловья) тяга. Борона, применявшаяся для рыхления пашни, известна всем славянским народам. При подсеке и лесном перелоге борона служила для запашки сева «под соху». Ее архаичными формами являются срубленное дерево с ветками или его верхушка с подрубленными сучьями — суковатка. Общеславянский характер носит и более совершенное боронительное орудие — деревянная борона из четырехугольной рамы, трех продольных брусков и 25 деревянных же зубьев (продольно-брусковая борона).[150] Изучение эволюции древних боронительных орудий затруднено отсутствием их материальных следов. 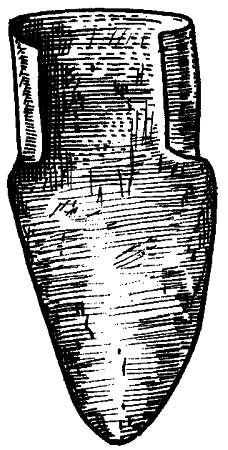 Наральник. Пеньковская культура Урожай и анты, и словене убирали железными серпами на короткой деревянной рукоятке, с округлым клинком и слегка загнутым внутрь носом.[151] Наряду с ними использовались косы-горбуши с короткой деревянной рукоятью, которыми можно было косить на обе стороны. Такие косы найдены также и на антских, и на словенских поселениях. Использовались они, как полагают, в основном для сенокоса.[152] Наиболее архаичные способы молотьбы — прогон скота, топтание ногами, околачивание снопов и т. п., на что указывает и этимология слова «гумно» (‘место, где скот [топчет снопы] ’). В описываемый период применялось и хлестанье с помощью жердей-обивалок, и обивание молотильными палками (прототипами цепа). Появляется еще в общеславянскую эпоху и собственно цеп, в котором рукоять (в рост молотильщика до подбородка) соединялась с билом сыромятным ремнем.[153] На гумне происходило также веяние. Наиболее распространенный позднее и, несомненно, древний способ — веяние на ветру с помощью лопаты (первоначально деревянной, у антов отмечено наличие железных лопат[154] на деревянной ручке). На антских и словенских поселениях обнаружено большое количество хозяйственных сооружений. Прежде всего, это хозяйственные и зерновые ямы (у словен хозяйственные ямы иногда непосредственно в жилищах).[155] У антов отмечены также хозяйственные наземные постройки с углубленным полом, изредка с очагами.[156] Несомненно, среди этих сооружений есть предназначенные для сушения зерна (праслав. *jevinъ ‘овин’). Особое внимание в этой связи привлекают антские постройки с очагами (далекий прототип ямного овина, где снопы для просушки ставили в надземной части). Чаще всего зерно сушили прямо на гумне, за пределами поселения. Хранили же обмолоченное и просушенное зерно в зерновых ямах. У антов для той же цели могли служить и некоторые из наземных сооружений, хотя и у них преобладал способ хранения в ямах. Для помола зерна применялись исключительно ручные жернова из камня (праслав. *melьnica, *melьnikъ).[157] Они представляли собой два соединенных диска с изогнутой кверху рабочей поверхностью, приводимых в движение деревянным рычагом, укрепленным с верхней стороны в отверстии.[158] Наряду с земледелием значительную роль в хозяйстве славянских племен играло скотоводство. Основное место в стаде занимали крупный рогатый скот и свиньи.[159] Разводили также коз и овец (последних в основном в прилегающих к степи антских областях и на Дунае). В стаде их процент был значительно меньше.[160] Сложнее определить удельный вес лошадей. Малое количество конских костных остатков на поселениях связано с тем, что их разводили не на мясо. Представляется несомненным, что конь имел огромное значение для антов (находки культовых изображений коня, конского седла, удил).[161] У словен роль лошади была значительно меньше. Скот держали в открытых загонах или специальных сооружениях — хлевах. Праславянское слово *xlevъ (заимствование из германских языков) первоначально обозначало углубленное, ямного типа сооружение с сеновалом. Такие обнаружены, например, на территории Польши в Ленчице.[162] Несомненно, распространено было птицеводство, хотя указывают на это почти исключительно языковые материалы. Основной домашней птицей у славян издревле была курица. Для добывания известного праславянам с древнейших времен меда требовалось определенное развитие бортничества. Археологически проследить его практически невозможно. Охота играла в хозяйстве меньшую роль сравнительно с производящими отраслями. На долю костей диких животных приходится на пеньковских и корчакских поселениях порядка 10–16 % костных остатков. Меньше роль охоты была в лесостепных антских областях, больше — в лесной зоне.[163] Основным объектом охоты был кабан (на поселении Рипнев — более 91 % от костей диких животных; в Бржезно — единственное дикое животное).[164] Охотились на волков, медведей и других животных. Псевдо-Кесарий упоминает о «лисах и лесных кошках».[165] Не существовало четкого разграничения между животными, добываемыми на мех и в пищу, хотя в основном из дичи в пищу шел кабан. Из птиц охотились, в первую очередь, на тетерева.[166] Занимались славяне и рыбной ловлей, чему благоприятствовало проживание у водных артерий. Поселения словен и антов практически всегда располагались на берегах рек и ручьев.[167] Кассиодор писал о словенах, что «леса и болота заменяют им города»[168] — служа защитой от врагов. Та же тенденция использования естественных укреплений прослеживается и у антов.[169] Собственно же укрепленные грады в описываемый период встречаются очень редко (Зимно у словен, Пастырское городище у антов) и несли особую социальную функцию. Возникали поселения по двум основным схемам. Одну можно наблюдать на примере таких поселений, как Кодын, Гореча, Бржезно, а также смешанных антско-словенских. Здесь пришлое население подселялось к прежним обитателям, строя собственные дома. Вторая схема представляет собой земледельческую колонизацию неосвоенных земель, хорошо известную из этнографического материала. Первоначально присматривался участок под земледельческие работы — займище, на нем образовывался жилой двор — починок. Затем починок разрастался в собственно сельское поселение, именовавшееся «весь».[170] Термин же «село» изначально обозначал ‘все заселенное [общиной] пространство’ и прилагался как к крупным поселениям, так и группам («гнездам») поселений. Первоначальное, часто кратковременное поселение, жители которого занимались подсечным земледелием, могло состоять всего из одного-двух домов. При них размещалось ямное хранилище. Такую картину мы наблюдаем, например, в Хоруле.[171] Размеры поселений увеличивались со временем. Поселения словен занимали первоначальную площадь в среднем около 5,5 тыс. м2, затем их размеры увеличиваются до в среднем 8,5 тыс. м2.[172] В антских землях поселения были крупнее. Некоторые не превышают размером ранних словенских (Пеньковка-Молочарня в Поднепровье — 3500 м2). Другие соответствуют по размерам поздним (поселения Прутско-Днестровского междуречья). Но площадь антских поселений Подолии — в среднем около 1,5 га,[173] что намного превышает не только средние, но и максимальные словенские примеры. Количество одновременно существовавших домов на всех поселениях — от 5 до 25.[174] У словен преобладает кучная, часто бессистемная застройка селищ. Широко засвидетельствована она и у антов. Отдельные жилища при такой планировке располагались на значительных расстояниях друг от друга. Но часто выделяются группы жилищ (расстояния между жилищами в группе от 1 до 10–15 м), далеко отстоящие от других групп (расстояния между группами от 10 до 100 м). [175] Именно кучную застройку описывает Прокопий Кесарийский. Он объясняет обширность территории, занимаемой словенами и антами, разбросанностью их поселений и жилищ. [176] Наряду с кучной была распространена рядовая застройка, при которой жилища располагались двумя рядами вдоль берега реки. Расстояние между домами при этом могло даже превышать расстояние между рядами жилищ. Рядовая планировка чаще встречается у антов, но отмечена она и у словен. [177]  Словенское жилище в Бржезно Поселения часто огораживались плетнем или подобной ветхой оградой. Неровный плетень на вбитых через 1–0,1 м столба ограждал Ленчицу V–VI вв.[178] На площади поселений, кроме домов, располагались хозяйственные сооружения, иногда огороды, насаждения кустарников и лозы.  Печь и мельница в Бржезно Преобладающий на антских и словенских поселениях конца V — первой половины VI в. тип жилища — правильная четырехугольная полуземлянка.[179] Именно их имеет в виду Прокопий, говоря, что словене и анты «живут в жалких хижинах».[180] На праславянском языке эти жилые строения и обозначались терминами *domъ (‘дом’ вообще), *xyzъ, *xysъ (последние два заимствованы из германского). Площадь полуземлянок невелика — у словен в среднем около 10 м2 (хотя есть и большие, достигающие 25–32 м2). У антов средняя площадь больше — от 12 до 20 м2 (но в Шипоте в Молдове отмечены полуземлянки площадью около 7,5 м2, а в Пастырском — около 9 м2). Поздние антские жилища отличаются и большими размерами. Антские полуземлянки также чуть более углублены (0,3–1,2 м против 0,2–1 м у словен). Впрочем, и у словен изредка встречается глубина более 1 м, а на периферии отмечены даже землянки до 3,2 м в глубину.[181] Стены жилищ были деревянными. У словен преобладали бревенчатые срубы, наряду с ними иногда встречались срубы из плах. Иногда плахи прижимались к стенам котлована столбами.[182] У антов первоначально преобладала столбовая конструкция стен, сложенных из стояков и жердей, переплетенных лозой. Ее можно считать местной. Со временем начинает распространяться срубная техника. Так же, как у словен, отмечены единичные случаи использования для стен прижатых к стенкам котлована плах.[183] И корчакцы, и пеньковцы иногда обмазывали стены домов глиной (на Пастырском все дома).[184] Это можно связать с воздействием жилых кочевнических глинобитных построек (такие найдены на антском поселении Жовнин[185]). Во всяком случае, праславянское слово *xata, обозначавшее позже глинобитные или обмазанные глиной дома «украинского» типа, — заимствование из иранских (сарматских) языков.[186] Кровли полуземляночных строений были двускатными, у антов изредка — четырехскатными (также кочевническое или колочинское[187] воздействие). Кровли опирались на столбы по углам и в середине стен, изредка (что соответствует четырехскатной кровле) — в центре жилища. Делались они из плах (словенские поселения), жердей (антское поселение Перебыковцы). Конек двускатной крыши делался из бревна. У антов крыша также иногда обмазывалась глиной. Наземные части более углубленных полуземлянок присыпались землей для утепления.[188] Наряду с полуземлянками в процессе расселения словен в прикарпатских областях начинают строиться наземные дома. Обозначающий отапливаемый наземный срубный дом термин — *jьstъba ‘изба’ — заимствован из романского, причем ближе к восточно-романским диалектам.[189] Это указывает на вероятное место появления таких домов — Закарпатье, где смешение словенских и романизированных туземных элементов зашло достаточно далеко. Здесь строили наземные срубы площадью 15–20 м2 с котлованом для печи в центре. Площадь котлована (собственно «избы») при этом совпадала с традиционной площадью полуземлянки — от 8 до 10 м2. Другое местонахождение наземных домов словен первой половины VI в. — городище Зимно.[190] Основным элементом внутреннего интерьера славянского жилища была печь-каменка (реже глиняная). В полуземлянках печи располагались в углу, противоположном входу. Положение печи, как и позднее, имело сакральный смысл (по диагонали от нее был «красный угол» с домашними святынями) и потому четко выдержано. Так, на всех поселениях «гнезда» Корчак печи расположены в северо-восточных углах, на поселении Бржезно — в северо-западных. Сходная ситуация на ранних антских поселениях. Глиняные печи встречаются гораздо реже каменок.[191] В Карпато-Дунайских землях местное воздействие определило особенности интерьера. У антов к западу от Днестра (Шипот и др.) над печами-каменками сначала преобладали простые очаги, обложенные камнями. Очаги, а также печи, вырытые в стенке полуземлянок, отмечены на поселениях типа Ипотешти.[192] В Закарпатье глиняные печи располагались в центре изб.[193] Печи-каменки обычно были прямоугольными, реже подковообразными в основании, под имел округлые формы. Такая печь занимала порядка 2400–3500 см2, а в высоту — до 65 см (чаще меньше). При строительстве нижней части печи использовались камни больших размеров, чем для верхней. Под, расположенный всегда на уровне пола, мог выкладываться каменными плитами. Иногда (чаще у пеньковцев) для укрепления свода печи наряду с галькой и черепками использовались глиняные вальки; глиной мог мазаться и под.[194] Глиняные печи больше каменок (0,8–1,7 м2 в основании при практическом совпадении площади топочной части и высоты). Они делались на материковой основе, вырезанной в полу жилища.[195]  Постель в славянском жилище в Бржезно Другие элементы интерьера прослеживаются гораздо хуже. Ясно, что вход в жилище располагался обычно с южной стороны. В жилище вела земляная, реже деревянная лестница.[196] У стен располагались деревянные лавки с вкопанными столбиками-опорами или земляные выступы с настилом, служившие сиденьями и лежанками. В ряде случаев в жилищах обнаруживаются небольшие ямы-хранилища, иногда рядом с печью.[197] Утварь изготавливалась в основном из дерева и иных растительных материалов. Это относится и к средствам переноски тяжестей, которые и позже были в основном деревянными (ведра) или плетеными (корзины). Археологически устанавливается наличие глиняной посуды. Это почти исключительно горшки, изредка встречаются глиняные миски и сковородки.[198] Гончарная керамика (горшки, кувшины, миски ипотештинского и пастырского типов) имела локальное распространение.[199] Из других предметов обихода чаще всего встречаются железные ножи длиной 5–10 см, во множестве найденные на поселениях и в могильниках.[200] Существенную роль в хозяйстве играли домашние промыслы. Это, прежде всего, обработка дерева, орудия которой (топоры, тесла, долота, токарные резцы и др.) найдены на словенских и антских поселениях.[201] Наконечники стрел, гребни вырезали из кости.[202] Лепная керамика изготавливалась в каждой семье вручную, с последующим обжигом в домашней печи.[203] Посуда не отличалась разнообразием. Корчакский тип представлен горшками, расширяющимися в верхней трети и слегка сужающимися в горлышке. Пеньковские типы — вытянутые, подобно корчакским, горшки с расширением в средней части и близкие к ним округлой или биконической формы. Орнамент отсутствует или очень беден. Использовалось глиняное тесто с примесью дресвы, песка и шамота.[204] К числу важнейших домашних промыслов относились прядение и ткачество. Для прядения использовались деревянное веретено с глиняными пряслицами, для ткачества — вертикальный (в антских областях уже и горизонтальный) ткацкий стан. Ткань представляла собой, по оценкам современных исследователей, тонкое полотно с прямым переплетением.[205] Итак, изготовление утвари и одежды являлось почти исключительно домашним промыслом, специализированным разве что внутри большесемейного коллектива. Гончарная керамика изготавливалась мастерами иноплеменного происхождения. Ясно, что они ревниво оберегали секреты своего ремесла, обеспечивавшего определенный социальный статус.[206] Работа с металлом требовала наличия и длительного сохранения определенных навыков и уже издавна носила характер специализированного ремесла. Особое место в этой связи занимало кузнечное дело. В славянском мифологизированном сознании образ кузнеца окружен легендами и поверьями. Кузнечное дело народные верования связывали с обладанием тайным знанием и сверхъестественной чародейской силой. Ключевой «кузнечный» миф — о происхождении самого кузнечного ремесла от мифического героя и правителя Сварога (или Божьего Коваля — змееборца из позднейших преданий).[207] Судя по этому мифу, кузнечное дело у славян считалось ремеслом знати. На словенских и антских поселениях найдены углубленные железоплавильные горны, кузница (на Пастырском городище). Сырьем для железоделов служили болотные руды. Освоение их месторождений происходит в течение V–VI вв., даже на северо-западной периферии. Кузница представляла собой крупное прямоугольное строение (28 м2) из дерева, обмазанное глиной, с каменной печью и с наковальней в северо-восточном углу. Рядом с наковальней хранились инструменты кузнеца — кувалда, молоток, большие и малые клещи, зубило, ножницы для разрезания металла.[208] Из железа делались и орудия труда, и оружие (наконечники стрел и копий), и предметы обихода. Несколько более узкой была сфера применения цветных металлов (серебра, бронзы, меди). Это было связано с почти полным отсутствием местного сырья. Зачастую шли в переплавку привозные предметы. Довольно значительны следы бронзолитейного производства.[209] Мастерская антского бронзолитейщика (поселение Хуча) представляла собой небольшую (чуть более 6 м2) прямоугольную полуземлянку. В ней хранились орудия труда (тигли, глиняная льячка; на других поселениях обнаружены также формочки, чаще из камня). Глинобитная печь для плавки металла располагалась на площади поселения.[210] Из серебра и бронзы изготавливались преимущественно украшения. Литейное и ювелирное дело также были специализированы, хотя и менее распространены, чем кузнечное. На поселениях и могильниках найдены также разноцветные стеклянные бусины. Преимущественно они обнаружены в придунайских областях.[211] Неясно, можно ли говорить о местном стеклоделии. Отчасти к специализированным ремеслам, отчасти к домашним промыслам относилось камнерезное дело (изготовление каменных жерновов, литейных форм и др.). Обычной одеждой словен и антов, насколько можно судить из известия Прокопия, были «хитон», «плащ», «штаны, прикрывающие срамные части».[212] О славянском (по крайней мере, антском) «хитоне» мы можем судить по литым статуэткам мужчин из Мартыновского клада. Их одежда напоминает славянскую позднейшего времени, известную из этнографического материала. Рубахи туникообразного покроя имеют широкую вставку с вышивкой (рисунок которой, опять же, близок к общеславянскому), прямые рукава стянуты тесемкой на запястьях. Воротника нет, как и в позднейшей рубахе-голошейке. Длина рубахи ниже пояса сравнительно невелика.[213] Важнейший, имевший сакральное значение элемент одежды издавна представлял у славян пояс. Имеется немало находок металлических частей поясов (пряжки, бляшки из бронзы, серебра и железа, нередко фигурные). На ногах мартыновских фигурок облегающие штаны, доходящие до щиколоток, и остроносые башмаки или сапоги.[214] Упоминаемый Прокопием плащ (точнее, тривоний — грубый, «варварский» плащ, аналог позднейшего корзна) изредка застегивали металлическими фибулами и пуговками, а чаще стягивали обычной тесьмой.[215] Это был плащ без рукавов, широко распространенный в средние века. Другим видом мужской верхней одежды, судя по металлической статуэтке из Требужан, был короткий кафтан с глубоким вырезом на груди — нечто типа кожуха.[216] Для изготовления верхней одежды (в том числе неизвестной нам для того времени с достоверностью зимней) использовались меха и шкуры диких животных, но в первую очередь овчина.[217] Неизвестны нам и головные уборы славян того времени. Мартыновские статуэтки показывают, что анты, как позднейшие словаки и украинцы Карпат, отращивали длинные волосы. Карпатские горцы в историческое время заплетали отросшие волосы в несколько кос.[218] Отращивались и волосы на лице — усы и борода издревле считались признаком мужественности. Славяне пользовались теплыми головными уборами из меха и кожи лишь зимой. О женской одежде в письменных источниках данных нет. Женщины носили более длинный (до колен и ниже) «хитон», а также пояс и остроносые сапожки. Антские женщины застегивали накидку на плечах (оплечье?) пальчатыми фибулами. Словенки чаще пользовались для этого тесьмой. Женский головной убор был близок позднейшему кокошнику, включал в себя серебряные налобные венчики и наушники. К головным уборам крепились височные кольца разных типов, подвески. Из украшений известны также серьги, части ожерелья-монисто (бусы, швейные обручи), браслеты.[219] Издревле славянские женщины носили длинные волосы, заплетавшиеся в косу. За своей внешностью славяне, естественно, следили меньше, чем цивилизованные граждане Империи. Но вопреки Прокопию,[220] славяне издавна придавали большое, в том числе сакральное, значение ритуальным омовениям.[221] Как раз около описываемого периода было заимствовано из народной латыни слово *ban’a ‘баня’.[222] О пищевом рационе этого периода можно только догадываться на основе языковых и сопоставляемых с ними этнографических данных. В пищу употреблялись хлеб из кислого (*xlebъ) и пресного (*kruхъ) теста, разного рода ритуальные и праздничные мучные изделия, крупяные каши. Для употребления в пищу возделывались овощи, выращивались или собирались ягоды, фрукты. Из напитков к числу древнейших относятся квас, мед («вместо вина», по словам Приска[223]), пиво. Разнообразна была животная пища — молочные продукты, яйца, мясо и рыба. О потреблении мяса можно судить также и по археологическому материалу, и по письменным источникам. В пищу шло мясо как домашних (говядина, свинина, козлятина, редко конина), так и диких животных (в основном кабана), птицы. Употребление в пищу волчатины и медвежатины происходило редко, будучи связано с древним ритуалом поедания тотема ради восприятия его силы. Передвигались славяне в основном пешком. Среди антов была, как уже говорилось, больше распространена верховая езда. Использовались и четырехколесные возы на воловьей или лошадиной тяге. Реки славяне могли пересекать вброд, по льду или на плотах. Для плавания по крупным рекам применялись лодки-однодеревки (праслав. *cьlnъ; у греков именовались моноксилами). По морю славяне в первой половине VI в. еще не плавали. Военное дело словен и антов характеризует Прокопий. Согласно ему, словене и анты нападают преимущественно пешими.[224] Отдельные упоминания о конных отрядах в первой половине VI в. могут быть связаны с антами.[225] Вооружение их составляли небольшие деревянные щиты, копья и луки со стрелами. Доспехов не было.[226] Наконечники копий и небольших дротиков, судя по археологическим находкам, делались из железа, стрел — из железа и кости.[227] Меч (праслав. *mecь) был известен, но как чужеземное оружие.[228] Прокопий отмечает особое умение антов вести войну в горной местности.[229] С другой стороны, и словене, по его словам, неохотно спускались на равнину.[230] Тот же автор не раз отмечает умение словен нападать из засады и заставать врага врасплох.[231] Говорит он и о доблести, проявляемой антскими воинами в бою и содействующей их победам.[232] Дальнейшее развитие военной тактики славян происходит в течение первой половины VI в. (особенно в 540-х гг.), в ходе нападений на Восточную Империю. Семья и общинаОсновной ячейкой славянского общества была большая семья. С большими семьями следует связывать группы домов (по два и более) на поселениях, отстоящие друг от друга на значительное расстояние. На поселениях таких групп чаще всего две-три, но иногда больше. Наряду с делокализованными (живущими в нескольких домах) большими семьями имелись и семьи, живущие в отдельных домах. Так, на поселении Корчак IX выявлена группа из пяти домов и отстоящие от нее два отдельных дома. На других словенских поселениях иногда встречается разбросанное положение жилищ, не образующих групп.[233] С большими семьями связываются также коллективные курганные усыпальницы и группы захоронений в грунтовых могильниках (таких, как Сэрата-Монтеору).[234] Строение большой неразделенной семьи хорошо изучено по славянскому этнографическому материалу. Большая семья включала несколько брачных пар и объединяла родственников до третьего от родоначальника поколения. Проживавшая, как правило, в одном доме «отцовская» большая семья могла превратиться в «братскую». Последняя проживала в нескольких домах и включала семьи женатых братьев до второго от них поколения. Она уже представляла переходную форму от большой семьи к патронимии. В отличие от «отцовской» семьи, где функции главы переходили от отца к сыну, в «братской» главой считался старший из здравствующих братьев, и власть его была меньше. И «отцовская», и «братская» семья коллективно владела имуществом, занималась производством и потреблением продукта.[235] Древним славянам были известны как «отцовские», более консолидированные, так и «братские» семьи. По мере разрастания «братской» семьи от нее могли отделяться новые «отцовские». Так и произошло на поселении Корчак IX. В собственности семей находились орудия труда и его конечный продукт. Глава семьи — старший мужчина — обладал широкой властью над членами семьи, вплоть до судебной, был хранителем традиционного семейного уклада. Он же руководил хозяйственной деятельностью мужской части семьи и отчасти работой женщин вне дома, представительствовал от имени семьи в общине. Велика была роль и старшей женщины (не всегда супруги главы семьи). В ее ведении находилось домашнее хозяйство; она могла быть советчицей старшего мужчины. В коллективном ведении семьи в той или иной степени находились вопросы вступления в брак младших членов, распоряжения имуществом. Иерархия внутри семьи зависела от возраста и семейного положения. В наиболее зависимом положении находились сироты, младшие вдовы, а также снохи. Имущественные права женщин и сирот, как правило, были в той или иной степени ущемлены. Так, в «братских» семьях в случае выделения сирот отцовская доля имущества делилась ими с его братьями. Дочь могла иметь имущественное право только на приданое своей матери. В то же время старшая женщина, овдовев, сохраняла свое положение.[236] Следующей ступенью в славянской общественной организации была патронимия («род» в самом узком смысле), образовывавшаяся в результате разрастания первоначальной большой семьи. Значительная часть славянских поселений описываемого времени соответствует именно патронимическим общинам. Этнографическими преемниками древнеславянской патронимии являлись южнославянский род и белорусское дворище (древний термин для патронимии или отдельно проживающей большой семьи). Судя по этим поздним формам, патронимия изначально располагала правом коллективной собственности на землю и вела общую хозяйственную деятельность. Главы у патронимии не было, хозяйственные и правовые проблемы (распределение продукта между семьями, разбор конфликтов между членами патронимии и в исключительных случаях семейных разладов) решались сообща.[237] О совместном ведении хозяйства в пределах патронимии свидетельствует и археологический материал.[238] На словенских и особенно антских поселениях отмечено проживание отдельных семей явно иноплеменного происхождения. У древних славян существовал обычай приема в патронимический коллектив фактически не принадлежащих к нему людей. В то же время некоторые селения занимались как минимум двумя патронимиями, часто разноплеменными и даже разноязыкими, связанными свойством или ритуально-правовыми узами. Как показывает история славянского заселения Карпато-Дунайских земель, такие коллективы могли и в дальнейшем мигрировать совместно. С совместным оседанием двух патронимий связано и появление правильной двухрядной застройки на многих пеньковских и некоторых корчакских поселениях. Стихийно формирующаяся кучевая застройка больше соответствует разрастанию селения из первоначального семейного двора. Из большесемейно-патронимической структуры наверняка выбивались «грады» вроде Пастырского и Зимно с их разноплеменным населением. В плотно заселенных славянами областях небольшие поселения, занятые одной-двумя патронимиями, объединяются в «гнезда». У словен гнездо поселений тянулось на 2–5 км и включало обычно 3–4 веси, отстоящие друг от друга на 300–500 м. У антов на их старопахотных землях больше и количество селений в «гнезде» — от 5 до 10, и расстояние между ними — до 2 км, и протяженность «гнезд» — до 7 км. Не вызывает сомнений вывод, что каждое «гнездо» представляло собой территориальную общину.[239] Такая община могла образовываться и в результате разрастания и почкования изначальной патронимии,[240] и путем сближения соседних патронимий. Эти два пути отражаются и в терминах, прилагавшихся древними славянами к общинам — «род» и «мир». Последний термин как раз и обозначал общину, основанную на дружественном соседском согласии и связанную, как правило, свойством между вошедшими родами-патронимиями. Те же два пути отражены и в двух способах образования древнейших славянских местных (и этнических) названий. Названия на «-ичи» отражают идею происхождения от общего предка, то есть разрастания общины или племени из патронимии. Названия, оканчивающиеся на «-ане», «-яне», «-цы» (по месту проживания) отражают территориальный принцип формирования общины или племени. Он преобладал на территориях со смешанным этническим составом населения — например, в прикарпатских областях и в целом у антов. Община считалась верховным собственником и распределителем земли, могла организовывать коллективные работы. Общинный характер носили и основные религиозные обряды. Высшим органом общинной власти было вече, производившее подушное распределение земли.[241] Оно же разбирало конфликты между патронимиями, а при необходимости и внутри них. В этом общинном сходе участвовали главы семей, а с правом совещательного голоса — все женатые мужчины (мужи). При среднем количестве 6–7 весей в «гнезде» и 2–5 семей в веси ясно, что количество участников общинного веча с правом решающего голоса едва превышало 20–30 человек. В основе решений веча лежали нормы обычного права. Наиболее распространенной уголовно-правовой категорией была у древних славян кровная месть (праслав. *mьstь). Ею еще в историческое время карались убийство, изнасилование и серьезное членовредительство.[242] Смертью исстари карался и привод в общину преступника в качестве гостя.[243] Вместе с тем немало указаний и на то, что община могла заменить смерть изгнанием, если речь шла о преступлении внутри самой общины и тем паче внутри патронимии. Изгой, впрочем, лишался всех прав и объявлялся вне закона. По сути, изгнание было лишь отсрочкой смертного приговора и слабым шансом выжить. Община, приютившая преступника, отвечала за его преступление.[244] Смертью или тяжким увечьем грозило обычное право и клятвопреступнику (на что есть прямые указания в фольклоре и самих клятвенных формулах). «Обиды» (в том числе преступления против собственности) карались тяжкими, иногда до смерти, побоями, но уже тогда могли быть прощены за откуп.[245] Факт совершаемого в дневное время преступления против собственности (а часто и иного) удостоверялся «криком» потерпевших.[246] Самосуд над преступником на месте преступления, увечье и даже убийство, совершенные в целях самообороны, преступлениями не считались вовсе, во всяком случае, к числу тяжких не относились.[247] В случае неочевидности какой-либо вины применялась судебная процедура, включавшая клятвы, испытания тяжущихся, иногда колдовские обряды. Клятва, как правило, требовала поручительства.[248] Среди испытаний упоминаются поединок, испытания каленым железом и водой (утоплением), в зависимости от преступления или юридической ситуации.[249] Высоко ставилось свидетельство очевидцев, причем они должны были свидетельствовать не «со слуха».[250] Общины объединялись в племена. Они могли возникать вследствие разрастания первоначальной общины (в том числе патронимической) и потому именовались также «родами» (и «мирами»?), но чаще «коленами». Последний термин употреблялся в славянской книжности для связанной общим происхождением части этнического целого (например, «12 колен Израиля») и соответствует понятию «племя» в его современном смысле. Названия племен также образовывались по двум названным выше моделям. Но здесь уже наблюдается чередование (например, лендзяне / лендичи). Оно отражает естественное размывание идеи общего происхождения и в целом патронимических представлений на уровне племени и тем более группы племен. Даже если они реально происходили от общего предка, что бывало нечасто. Так, запрет на внутриродовые браки мог еще «работать» на уровне территориальной общины. Но для разросшегося из патронимии племени он был вреден и подлежал безусловному ограничению.[251] Небольшое племя, сформировавшееся на основе территориальной общины, представляла собой группа поселений в районе Корчака. В нее входило 14 поселений (весей), объединенных в несколько «гнезд», расстояние между которыми — от 3 до 5 км.[252] Расстояния между ближайшими «гнездами» весей у антов — от 10 км.[253] Территория, охваченная властью племенных институтов (прежде всего, общего веча), издревле именовалась «волостью». О делении словен и антов на множество племен сообщает Прокопий Кесарийский.[254] Племя являлось верховным собственником и распределителем угодий — в основном неземледельческих (луга, леса).[255] В результате «почкования» или сближения племен внутри антской и словенской этнических общностей возникли устойчивые племенные группы. Такой группе из двух-трех широко расселившихся племен соответствует состоящая из четырех десятков поселений культурная группа Ипотешти. Более обширными локальными группами внутри единой словенской общности стали племенные объединения на правом (дулебы) и левом (ляхи) берегу Западного Буга. Анты были несколько более монолитны в географическом, культурном и политическом отношении. РелигияКаждое славянское поселение имело свой сакральный центр, который мог считаться местом обитания сверхъестественного покровителя — духа-предка или божества. Подобные объекты могли помещаться в священных рощах.[256] В такой роще мог располагаться и примитивный «храм» (праслав. *xormъ), об облике которого мы можем судить только по этимологии слова[257] и отдельным мотивам славянского прикладного искусства. Это было небольшое, устремленное вверх сооружение шатрового типа из древесных материалов или даже простой материи с естественным столбом — деревом — в центре. Священное дерево (береза, дуб или иное) в таком «храме» служило главным объектом поклонения. Оно считалось вместилищем божества и одновременно символом мирового древа — сакрального центра мира. Более развитое, открытое святилище VI–VII вв. изучено близ пеньковского поселения Городок. Основную часть святилища составляла ровная каменная прямоугольная площадка площадью 3,45 м2. На ней в древности устанавливался деревянный идол. Перед площадкой, с востока, в углублении возжигался священный огонь.[258] Верховным богом славян Прокопий называет «создателя молний». Его анты и словене якобы считают «единым владыкой всего».[259] Несомненно, что здесь имеется в виду Перун (Додол) — высший бог, повелитель грома, известный в древности всем славянам. В пантеон входили и другие боги, греческому автору оставшиеся неизвестными. В их числе была, прежде всего, Земля (Мать Сыра Земля), сопоставимая с супругой громовержца — Додолой, Перуной.[260] Почитались Огонь, Ветер, Солнце, Месяц. «Светлым» земным и небесным богам противопоставлялись божества подземного мира. Велес (Волос) — противник громовержца в «основном» змееборческом мифе и покровитель скотоводства. Мора (Мара[261]) — мифологическая неверная жена громовержца, олицетворявшая болезни и смерть. К этому ряду древних потусторонних персонажей иногда относят и Бадняка, «старого бога», воплощение косности и хаоса.[262] К древним божествам или духам относится также известный всем славянам олицетворенный Мороз. Довольно сложен вопрос о почитании у славян судьбы. С одной стороны, образ божества Рода (Суда) и связанных с ним рожаниц (рожениц, наречниц, судениц), предрекающих судьбу новорожденного, — общеславянский.[263] С другой стороны, по Прокопию, славяне не признавали «предопределения» («по крайней мере, в отношении людей» — любопытное дополнение, указывающее на рок богов, известный и в германских мифах). Они считали, что злую судьбу может отвратить Перун.[264] Как представляется, это является ключом к пониманию отношения славян к судьбе — сама по себе судьба существует, но человек может «исправить» дурной рок молитвой к высшему божеству. Род и рожаницы не только воплощали судьбу, но и считались покровителями родового коллектива. Этнические процессы IV–VI вв. привнесли некоторые изменения в славянский пантеон. Прежде всего, речь идет об алано-сарматском влиянии. В зоне тесных контактов со степными народами сформировался образ Сварога (имя заимствовано из арийских языков и связано с образом солнечного неба[265]). Позднее он известен большей части славянских племен вплоть до Балтийского моря. Сварог выступает как первый кузнец, выковавший первое орудие пахоты из железа, герой-змееборец, сближаемый до полного тождества с Перуном.[266] Он становится также связующим генеалогическим звеном для целого ряда божеств. Его сыновьями считались Солнце (позже велетский Радгост Сварожич, древнерусский Дажьбог Сварожич) и Огонь (Огонь Сварожич в Древней Руси; ср. Огнян, брат Солнца в южнославянском фольклоре). В этом же ряду оказываются и Дети Солнца — мифологические близнецы (Усени?), и «Солнцева Дева» — обманутая невеста Месяца из мифа о небесной свадьбе и жена сказочно-эпического героя. Дальнейшее продолжение родословного ряда составляли уже земные носители высшей власти и сакрального знания, вожди славянских племен. Отсюда мифы, в которых Сварог или «Божий Коваль» становится первым правителем и отождествляется с основателями конкретных «княжений» (такими, как волынский Радар и полянский Кий[267]). Миф о Свароге и божественная родословная формировались параллельно с развитием институтов власти. Новые религиозные представления влияли на социальные процессы и, в свою очередь, отражали их. Любопытно, что антагонистом Сварога в его змееборческом мифе становится Троян[268] — персонаж, заимствованный около того же времени. У славян герой романского эпоса в результате переосмысления имени слился с трехглавым божеством подземного мира и в этом качестве вошел в пантеон. Само это трехголовое божество тождественно Велесу. Поморский Триглав — изначально только эпитет Велеса, балтийским славянам под своим именем неизвестного. Подобно всем остальным подземным божествам, Троян теперь представлялся и в обличье змееобразного чудовища. Из кочевнической религиозной традиции пришли в славянский пантеон еще два божества. Они, однако, почитались лишь в пределах древних антских земель. Это Хорс (отождествляемый с Солнцем[269]) и Семаргл (или Симаргл; бог войны, представляемый в облике птицы[270]). Скорее всего, оба божества были восприняты в ходе контактов антов с алано-болгарскими кочевниками в VI или уже в VII в. Помимо богов, славяне почитали различных персонажей низшей мифологии. Прокопий говорит о почитании «рек и нимф».[271] Здесь отражена древнейшая форма почитания водоемов, при которой они персонифицировались. Не вполне ясно, имеются ли в виду здесь именно водяные «нимфы» типа греческих наяд. В любом случае представляется, что греческим нимфам ближе всего соответствуют славянские вилы или дивы — духи источников, лесов и гор в женском (дивы иногда в мужском) облике.[272] Они были известны позднее всем славянам. О «некоторых иных демонах» славян, упоминаемых далее Прокопием, мы можем судить по языковым материалам и отчасти русским поучениям против язычества. Прежде всего, почитались враждебные злые демоны (упыри, бесы) и противопоставляемые им духи-хранители берегини. Существовали поверья об огненных змеях, способных сожительствовать с человеком. Ураган воплощали духи-оборотни юды.[273] Верили славяне и в призраков (мар). Страх перед духами мертвых (именовались маннами, а также навями[274]) отразился в обрядах их задабривания. Болезнетворный дух (сперва отвечавший за болезни дыхательных путей?) звался «нежитью».[275] Сюда же примыкали существа вроде «духов-двойников» (праслав. *namestьnikъ ‘заместитель’[276]).  Ритуальный нож. Пеньковская культура Наряду с представлениями о загробном мире бытовали и поверья о переселении душ предков в животных. Сохранялись и другие пережиточные формы тотемных верований. Мифы и обычаи, связанные с почитанием животных, были довольно распространены у славян. Выше уже говорилось о возможных следах обряда поедания тотема (волка и медведя) у словен с целью восприятия магической силы членами воинских братств. С ними же нужно связывать общеславянские представления об оборотнях (волкодлаках). С религиозными представлениями была тесно связана мифологизированная картина мира. За пределами известной славянам земли (в основном ограниченной на первых порах Доном и Дунаем) их сознание помещало «иной», потусторонний мир, воспринимаемый иногда как прародина людей. Представления о «верхнем» (небесном) и «нижнем» (подземном) мире еще были развиты довольно слабо — позднейшие их вариации у славян почти не содержат исконных общих черт. Однако само трехчастное деление вселенной, несомненно, уже существовало. Сакральным центром и связующей осью мира мыслилось древо (иногда дуб), растущее на острове посреди моря. Море воспринималось как часть потустороннего мира. Довольно долго оно внушало страх стремившимся селиться на всхолмьях у рек земледельцам. В мифологической картине мироздания находилось место и другим народностям тогдашней Европы. В соответствии с общей для первобытных мифологий тенденцией они воспринимались как существа, отчасти принадлежащие «иному» миру, не «настоящие» люди. К таковым словене и анты с полной уверенностью относили, пожалуй, лишь друг друга, балтов, а также в какой-то степени германцев. Последние в славянских преданиях воспринимаются как «братья»,[277] но, с другой стороны, всегда — как немцы ‘немые’ в противовес словенам ‘говорящим’. Со «светлыми» силами ассоциировались (по крайней мере, у родственных им антов) аланские кочевники — об этом можно судить хотя бы по заимствованиям имен богов. Романцы (волохи), напротив, связывались с богом загробного мира, антагонистом Перуна и покровителем скотоводства Волосом-Велесом. Отождествляемый с ним Троян мог мыслиться и покровителем «греков». Несмотря на отношения симбиоза, славяне восприняли от восточных германцев представление о гуннских кочевниках как потомках демонических сил, «бесовых детях».[278] Впрочем, у антов, для которых болгары были ближайшими родичами на общей аланской основе, это представление едва ли было принято. Основным способом отправления культа было жертвоприношение. Обряд этот совершался как по установленным празднествам, так и по особым случаям. Прокопий сообщает, что существовал обычай обещать Перуну («богу») жертву в искупление жизни в случае болезни или выступления на войну.[279] Жертвы приносились всем почитаемым славянами божествам и духам. Жертвоприношения низшим духам («рекам и нимфам» и т. д.) сопровождались гаданиями,[280] что находит параллели в позднейших обычаях славян. Обряд жертвоприношения включал принесение жертвы с молитвой (обряд обозначался праслав. *modlitva[281]) и жертвенной трапезой с участием жреца (собственно «жертва»). В жертву приносились животные, а также продукты земледелия или растительные яства в глиняной посуде. Часть приносимого сжигалась на костре перед святыней, а часть составляла жертвенную трапезу. Перуну приносили в жертву преимущественно быков, но и других животных.[282] У славян долго сохранялся древний индоевропейский обычай сезонных человеческих жертв Земле. Жертва воспринималась как заместитель сакрального правителя.[283] В описываемый период обряд как бы искупал бесчинства княжеской дружины в период зимнего гощения. После убийства ритуального «князя» — заместителя из числа дружинников — появлялся настоящий князь, символизировавший в данный праздничный момент воскресшее божество плодородия (Перуна-Сварога?). На вражеской территории члены воинских союзов производили кровавые «посвящения» пленников и захваченного скота своим богам или духам.[284] В славянском фольклоре отразился обряд «строительной» жертвы — животной или человеческой. У славян существовали представления о сверхъестественной магической силе отдельных людей. Первоначально способность к магии (чарам) связывалась с определенной социальной функцией. «Вещестью» в разной степени наделялись служители культа, племенные вожди, члены воинских братств, ремесленники (во всяком случае, кузнецы и гончары[285]), сказители. С магией сближалось в народных представлениях занятие медициной. Славянское зелейничество, восходящее к широким познаниям в области лекарственных растений и иных целебных средств, существовало издавна. В описываемый период уже были люди, специализировавшиеся на целительстве.[286] Понятие «вещести» включало в себя способность к магии, оборотничеству, предсказанию судьбы, общению с «иным» миром. Колдовские действия осуществлялись путем разного рода обрядов и заклинаний (заговоров). Некоторые же магические обряды проходили с участием обычных общинников, хотя и под руководством вождя или служителя культа. К таким обрядам относились, например, опахивание села во время мора, вызывание дождя, календарные ритуальные действа. В каких-то ритуалах использовались сохранившиеся в археологическом материале небольшие глиняные «хлебцы».[287] Традиционная духовная культураО календарной обрядности древних славян V–VI вв. судить трудно. Одна часть названий календарных праздников не является общеславянской, другая — воспринята в ходе балканской миграции, то есть в основном в течение VI столетия. Элементы ритуалов, отдельные обрядовые тексты имеют явные черты сходства, но в целом варьируются у разных славянских народов. Все же на основе этих сходных черт,[288] а также пиктографических календарей с черняховских сосудов,[289] можно охарактеризовать календарную обрядность славян, сложившуюся у их предков еще в IV в. Календарь обычного года состоял из 12 месяцев по 30 дней каждый. Следовательно, уже произошел переход от древнейшего лунного календаря (с которым связан смысл славянского слова «месяц») к лунно-солнечному с какой-то формой високоса. Месяцы издревле, хотя и не вполне четко, объединялись в четыре или два времени года. Год начинался с начала весны или с условно определяемого дня зимнего солнцестояния. К новогоднему циклу праздников, соответственно, принадлежали дни зимнего солнцестояния и встречи весны. Они сопровождались разжиганием ритуальных огней и гаданием на будущий год. Сюда же относилось ритуальное сожжение Карачуна (Бадняка), позднее воплощавшегося «рождественским поленом». При проводах зимы подводились все итоги прошедшего года. Производилось принятие молодоженов во «взрослую» возрастную группу и посрамление тех, кто не вступил в брак в положенное по обычаю время (в первую очередь, впрочем, девушек). В период контактов с романцами обряды встречи нового года и весны стали зваться колядой — от латинского calendae ‘первый день месяца’.[290] Отмечалось, по крайней мере, первой ритуальной пахотой, начало пахотных работ весной. Выгон скота на пастбище тоже сопровождался празднованием. Центральными праздниками годового цикла были летние. В июне отмечались праздник, посвященный плодоносящим силам земли, в начале месяца (встреча лета) и день летнего солнцестояния. Последний завершал неделю, связанную, скорее всего, и с поминовением умерших, и с выбором суженых. Со времени балканской миграции, по аналогии с латинскими днями поминовения умерших — розалиями, этот шестидневный цикл стал именоваться русалиями. Оба июньских праздника также сопровождались разжиганием священных огней. Обрядовый цикл летнего солнцестояния был связан с ритуальными омовениями. В июле праздновали в честь громовержца Перуна, принося моление о прекращении гроз накануне сбора урожая. Тогда-то и производилось главное жертвоприношение быка. Центральные обряды всех летних праздников справлялись в священных рощах. К числу древнейших осенних празднований относился день последнего снопа, посвящавшегося божеству. Изначально он совмещался с проводами лета. По общеславянским народным представлениям, лето (или весна) и солнце на зиму «замыкаются» далеко на юге, в потустороннем мире. Их «отомкнут» с началом новогоднего цикла по зову («выкликанию») людей. На декабрь приходился период древних общеевропейских «волчьих» ритуалов.[291] Эти действа, представлявшие собой ритуальный обход племенных земель, совершались членами воинских союзов в течение всего месяца. Руководили обрядовыми действами общинные жрецы и главы семей обоих полов. Основной же движущей силой празднования внутри общины была молодежь, не вступившая в брак. Почти все обряды календарного цикла сопровождались пляской с пением (праслав. *jьgra, откуда «игра», «игрище»). Важную роль в обрядах играли ряженые члены ритуальных союзов, по происхождению тождественных воинским братствам.[292] Эти «игрецы», обходившие в ходе празднества все общины племени,[293] одаривались всеми участниками ритуала — в обязательном и даже принудительном порядке. В осенне-зимний период, свободный от земледельческих работ, обычно заключались браки. Славянский род (в узком смысле) был экзогамен — браки заключались только за его пределами. Отсюда устойчивый образ жениха как чужака в славянском фольклоре. Экзогамии патронимии соответствовала эндогамия общины или, по крайней мере, племени, что служило укреплению внутриплеменного единства. Нарушение как экзогамных, так и эндогамных установлений приравнивалось к бесчестному совокуплению без брака. Виновному мужчине грозила кровная месть (если речь шла о человеке из другого рода) или изгнание. Смерть или позор в зависимости от воли семьи и общины могли быть суждены в этом случае и девушке.[294] У славян допускалось многоженство.[295] Вряд ли, однако, в описываемый период оно было широко распространено. Существовали отдельные, в основном ритуальные, пережитки многомужества и группового брака.[296] Но к VI в. эти формы в основном, конечно, отошли в прошлое. Допускалось вступление в повторный брак. Развод производила община в случае бездетности супругов.[297] Выбор суженых внутри эндогамного коллектива происходил, как уже говорилось, в ходе летних празднеств. Он был достаточно свободен. Но община могла оказать давление на молодежь путем как прямого принуждения, так и разного рода обрядовых манипуляций. Впрочем, такое принуждение было направлено не столько на выбор пары, сколько на само по себе вступление в брак. Сделанный выбор в идеале требовал общинной и семейной санкции, оформленной в ходе сватовства родителей жениха. Однако это могло быть обойдено путем умыкания невесты. Умыкание, судя по русским летописям,[298] происходило по уговору с «жертвой» (нередко и с ведома ее семьи) непосредственно на летних «игрищах», «у воды». Этот обычай был довольно широко распространен. Впрочем, увоз девушки за пределы эндогамной общности с неизбежностью влек за собой внутри– или межплеменной конфликт. Гораздо шире была распространена «чинная» свадьба, основанная на договоре сторон — родичей жениха и невесты. Договор мог нести черты «брака-купли» — тогда жених вносил выкуп за невесту (вено), хотя бы символический.[299] Но больше был распространен и лучше сохранился другой вариант, при котором договор сопровождался принесением обета, ритуальным обменом дарами, а невесте давалось приданое. При такой свадьбе вено и представляло собой, как иногда полагают, «утренний дар» жениха невесте.[300] Древнейший свадебный ритуал славян, как полагают, носил отчасти уксорилокальный (сосредоточенный на территории невесты) характер.[301] Достоверно мы можем судить лишь о том, о чем говорит в связи с полянами русская летопись: «Не ходил жених за невестой, но приводили ее вечером».[302] Это, судя по позднейшей этнографической сохранности, и являлось древнейшей формой обряда. При такой форме первое формально-обрядовое «знакомство» молодых (их первая совместная трапеза, игровое опознание или поиски невесты и пр.) происходило еще до свадьбы, после заключения договора между семьями. В свадебный день охранительные и магические ритуалы над молодыми, их одевание, обрядовое омовение происходили порознь. Тщательнее, чем жениха, готовили к свадьбе невесту — ведь она уходила в чужой род. К вечеру от жениха прибывали за невестой. Древнейшая форма ритуала понятна лучше с учетом того, что в VI–VII вв., как правило, жених и невеста жили в разных селениях. При отъезде из селения невесты происходило одаривание остававшейся части ее родичей. С приездом в селение жениха молодые встречались, и происходил ритуальный обход местной родовой святыни — дерева, кустарника или источника. Отсюда позднейшие выражения типа «вкруг ракитова куста венчаться», означающие языческий обряд (ср. «свадебное дерево» у чехов).[303] В доме жениха проходило свадебное пиршество, главным угощением которого считался ритуальный хлеб — каравай (коровай). Веселье прерывалось на постельный обряд (укладывание жениха и невесты), а затем продолжалось до «совершения» брака. За свадьбой следовало возвращение жениха с невестой в ее родовое гнездо. Здесь молодые жили до вступления на празднествах новогоднего цикла в новую возрастную группу. Для молодой супруги это было прощание с родным домом, а для ее мужа пребывание на подчиненном положении в семье жены служило своеобразным посвятительным испытанием. Обряды, связанные с рождением ребенка, не сохранились в первоначальной форме и подчас сильно разнятся у славянских народов.[304] К числу древних элементов ритуала, несомненно, относятся пережитки кувады (ритуального подражания мужа рожающей женщине). Считалось, что всякая «завязь» затрудняет роды, потому в доме распускались все узлы, роженице расплетали волосы. При родах и сразу после них принимались различные охранительно-магические меры, призванные скрыть сам факт рождения ребенка от враждебных духов. Большое значение в ритуале придавалось перерезанной пуповине и особенно «рубашке», если ребенок рождался в ней, — «рубашка» считалась признаком будущих сверхъестественных дарований. При рождении давалось условное имя, лишь позднее заменявшееся настоящим. Завершался этот обрядовый цикл первым омовением ребенка и совершением охранительных обрядов уже над ним. Большую роль в ритуале играла повивальная бабка. В случае тяжелой болезни младенца совершался обряд «перепекания» — как бы нового рождения. Ребенка клали на лопату и трижды всовывали в теплую печь. Ритуал тесно перекликался с древнейшими посвятительными обрядами, также представлявшими «второе рождение».[305] О возрастных группах у славян судить сложно. Эпос обозначает в качестве граней 7, 10, 12 и 15 лет.[306] Отрезок от 7 до 12 лет предстает как период обучения и воспитания. В воспитании мальчика ключевую роль играл дядя по матери (вуй; ср. слово «дядька») — мальчик на каком-то этапе отправлялся жить в материнский род. Именно вуй нарекал ребенку его «истинное имя» в ходе посвятительных обрядов или ранее.[307] В воспитании девочки соответствующую роль играла сестра отца. Впрочем, в обережных целях для наречения ребенка могли пригласить первого встречного. В тех же целях давались имена с негативным смыслом (типа Тугарин). Славянские имена делились на три группы. Одну составляли заимствованные, германского или кочевнического происхождения, в VI в. распространенные в основном у антов. Вторую — значащие односоставные имена (типа Сваруна). Их носили большинство словен и антов. Третью группу составляли двусоставные имена. В описываемое время такие имена, связанные с представлением о сакральном могуществе, носили племенные вожди. В охранительных целях такие имена могли усекаться (например, Добрята — от имени с «Добр-») или заменяться родовыми прозвищами-титулами сакрального смысла (как Мусок / Маджак, Кий и др.).[308] Основные посвятительные обряды, связанные со вступлением во взрослую жизнь, совершались в возрасте 12 лет. Этот возраст считался у древних славян совершеннолетием. Древние, плохо сохранившиеся посвятительные обряды представляли собой серию суровых испытаний, которым дети подвергались в изоляции от общины жрицей (ведьмой), символизирующей богиню-мать в ее «гневном», кровожадном обличье. Эти ритуалы нашли частичное отражение в мифологическом образе Яги. В той же роли мог выступать и жрец-ведун.[309] Следовало символическое включение ребенка (с этого момента отрока) в общину — первым боронованием (у мальчиков), первым прядением (у девочек). Инициацию завершали ритуальное пострижение, омовение и общее празднование с участием инициированных. Помимо жреца-наставника, инициируемому придавался также помощник из числа уже прошедших инициацию — он и позже должен был быть его покровителем.[310] Брачный возраст у древних славян наступал с пятнадцати лет. Определеннее нам известен похоронный ритуал славян. Он сопровождался обрядами по задабриванию умершего и предотвращению угрозы со стороны его духа. Древними чертами погребальной обрядности являлись ритуальное игрище с пиром (праслав. *jьztrava[311]) до и после похорон, пение причети во время погребения.[312] В конце V — первой половине VI в. словене и анты хоронили своих умерших в грунтовых могильниках по обряду трупосожжения.[313] Размер могильника зависел от срока использования и численности населения в общине. Так, в могильнике Сэрата-Монтеору — более 1500 погребений, в Пржитлуках — ок. 450, тогда как в могильниках к востоку от Прута и Западного Буга — до 30.[314] Кремация умерших совершалась на стороне, на специальной площадке, окруженной ровиком.[315] Останки умерших часто помещались в урны (глиняные горшки), иногда нет, и погребались в небольших ямках.[316] Безурновые погребения отражали подчиненное положение погребенных как младших членов семьи[317] и не свидетельствуют о социальном расслоении в собственном смысле слова. К числу чисто ритуальных особенностей у словен относился отмеченный в ряде мест обычай помещать урну в могилу уже после погребения, накрывая останки.[318] У антов не было обычая сопровождать захоронение инвентарем. Умерших кремировали в одежде, чаще всего без огнестойких предметов. Несколько иначе обстояло дело у словен. Изредка в их захоронениях встречается, хотя и очень бедный, погребальный инвентарь. В большей степени это касается крупных могильников дунайско-карпатских земель.[319] В некоторых областях словенского и антского расселения имелись яркие этнографические особенности погребального обряда, связанные с местными влияниями. Так, словене Закарпатья кремировали умерших на отдельных кострах, затем делали поверх вымостки из камней и ставили на них урны.[320] Здесь следует видеть наследство предшествующей дакийской культуры карпатских курганов. Кое-где в антских землях потомки аланов и германцев продолжали хоронить своих умерших согласно обычаям предшествующей черняховской культуры — по обряду трупоположения, с инвентарем. Особенно это характерно для восточной периферии, Поднепровья и Левобережья.[321] Наряду с разнообразным обрядовым и игровым фольклором у древних славян, несомненно, существовали и иные фольклорные жанры. Образный фольклор — пословицы, поговорки, загадки, — в первобытном обществе играл существеннейшую роль. Он способствовал запоминанию и передаче правовых и моральных норм, а также сакрального знания о мире. С обрядовым фольклором был тесно связан мифологический эпос, действующими лицами которого выступали божества. Отражение его можно увидеть в «мифологических» эпических песнях южных славян, а также в некоторых фольклорных текстах других славянских народов. Такой эпос был тесно связан не только с обрядом, но и с собственно мифом и гимном божеству. Сохранялась вся сакральная традиция служителями культа. Наряду с эпосом о мифологических временах существовали и слабо еще разграниченные «былевые» жанры фольклора, где действующими лицами выступали люди. К былевым жанрам у славян традиционно относились героический эпос, мифологический рассказ и историческое предание. Первый жанр бытовал в песенно-прозаической форме (как позднейшие русские богатырские бывальщины), остальные — преимущественно в прозаической. Грани между былевыми жанрами были довольно зыбки. И мифологический рассказ о происшедших с реальным человеком событиях с участием сверхъестественных сил, и предание об исторических фактах могли лечь в основу эпического повествования. Героический эпос славян повествовал о «храбрах», сражавшихся со злыми духами, чудовищами и внешними врагами. У славян сохранились следы существования героического эпоса первого стадиального ряда (по современной классификации[322]). Он повествовал о «храбрах»-великанах (асилках, волотах-велетах), основными противниками которых выступали чудовищные змеи и оборотни-юды. Осколками этого древнейшего эпоса являются белорусские богатырские сказы, южнославянские песни о юнаке, носящем условное имя Рабро или Бранко, отдельные русские былины, отчасти — предания о великанах. Поэтические тексты русских, болгар, сербов содержат ряд «общих мест» (эпитеты, речевые обороты), ярко свидетельствующих об общих корнях славянского эпоса. Пример — мотив о змееобразном чудовище, которому «намочило крылья» по молению героя.[323] На основании русских и южнославянских сказаний о рождении змеевича, наделенного магическими дарованиями, у обесчещенной змеем женщины, и его битвы с отцом восстанавливается древнее эпическое сказание о герое-оборотне, сыне Змея и змееборце. Оно нашло непосредственное отражение в русской былине «Рождение Змеевича», а также в некоторых южнославянских эпических песнях.[324] Изначально это сказание было частью змееборческого волотского цикла. К древнейшим относятся также сказание о богатыре-исполине, от крови которого протекла река (русская былина «Дунай»). Прямым наследием волотского эпоса являются и русские былины о богатыре-великане Святогоре. Географически ближайшей параллелью к славянским сказаниям о великанах является эпос кавказских народов о нартах, основные герои и сюжеты которого имеют аланское происхождение. Сходные эпические сказания о богатырях-исполинах бытовали на обширной территории Центральной и Средней Азии, Ирана, Закавказья. Центром их распространения были скифо-сарматские степи. С другой стороны, мифологический образ великанов как предшественников или предков нынешних людей носит универсальный характер. Воспринятые от аланских сказителей мотивы упали на благодатную почву исконных славянских представлений. Сохранение былевой традиции в славянском обществе, как и у других народов, было издревле специализировано. Во все времена сказители пользовались у славян всеобщим уважением, и передача древних сказаний являлась основным их занятием.  Бляшка в виде птицы из Зимно Существовали, несомненно, и другие жанры повествовательного фольклора, не требовавшие достоверности. Сказыванию сказок, впрочем, также придавался некий сакральный смысл.[325] Для древнего периода можно выделить сказки о животных и волшебные (этиологические, объясняющие обряд, и героические, близкие волотскому эпосу). Существовали, как и у других народов на схожей стадии развития, ходячие бытовые рассказы анекдотического характера. Основные устойчивые мотивы славянского народного искусства отражены в вышивке и резьбе по дереву. Древние мотивы особенно отражены в вышивке. Общеславянский геометрический орнамент использует священные знаки — ромбы, квадраты, свастики, розетки. Часто встречаются изображения «богини-матери» с «прибогами»-всадниками (одним или двумя). Другие женские фигуры — с рыбьими хвостами или крылатые. Мужчина-воин в полный рост — скорее всего, бог-воитель Перун. Имеются также изображения птиц («утицы» и хищной) и домашних животных (прежде всего, коня и быка).[326] Как явствует из этого перечисления, искусство было тесно связано с религиозными представлениями и мифологической картиной мира. Стоит заметить, что орнаментация глиняной посуды чрезвычайно бедна. В восточных антских землях изредка встречаются налепы на сосудах, иногда в виде шишечек или полумесяца. Но самый распространенный (и все равно встречающийся крайне редко) вид орнамента у антов и словен — косые насечки или защипи по краю венчика.[327] К числу памятников древнеславянского искусства относились и несохранившиеся деревянные изображения богов. Они были столбовой формы.[328] К древнейшему периоду восходит также обычай украшать крышу дома головой коня (с чем связано слово «конек»). От антской пеньковской культуры сохранились отдельные стилизованные глиняные статуэтки — животных (в том числе коня) и человека. Они использовались в обрядовой сфере, как и глиняные «хлебцы» у словен.[329] Металлическим деталям одежды и украшениям часто придавалась форма животных или людей. Особенно это было характерно для антской культуры.[330] Для передачи и сохранения информации, а также для гаданий славяне использовали «черты и резы».[331] Образцов этого рисуночно-символического «письма» от описываемого времени не сохранилось — знаки наносились исключительно на дерево. Социальное расслоениеСлавянское общество описываемого периода находилось на стадии племенного строя. Процессы его разложения, развития собственнических отношений и формирования государства, замедленные на время гуннским нашествием, с VI в. подходят к завершающей фазе. Тем не менее общественно-политический строй антов и словен, насколько можно судить по данным археологии, языка, а также скупым известиям греческих авторов, пока еще был весьма архаичен. Расслоение славянского общества прослеживается в целом слабо. Однако у словен и антов существовало рабство. Рабами становились пленники.[332] Раб считался собственностью господина (как правило, того, кто его захватил[333]), его можно было продать и, соответственно, выкупить.[334] Рабский труд использовался в хозяйстве. С другой стороны, рабу вполне могли доверить оружие. Тогда он сражался на войне рядом с господином и мог даже «покрыть себя большой славой».[335] Если раб оказывался на земле своего племени или племенного объединения, то «по закону» считался свободным. Например, ант, находившийся в рабстве у словен, считался на основании «закона» (то есть обычного права) свободным с момента вступления на антские земли.[336] В целом рабство, как можно видеть, носило патриархальный характер, и в реальности положение рабов мало отличалось от положения младших членов большой семьи. Другой неполноправной группой в славянском обществе были данники (термин общеславянский[337]). Таковыми для словен и антов, насколько можно судить, в описываемый период являлись только аборигены дунайско-карпатских земель. «Волохи» жили вместе со славянами, занимались гончарством и скотоводством (занятиями непрестижными в глазах древних славян). Вероятно, они несли какие-то связанные с этим повинности в пользу славянских племен.[338] Но не все инородческие группы в антском и словенском обществе были принижены по своему статусу. К германцам-«немцам» это, судя по всему, совершенно не относилось. То же самое можно сказать и о словенах и «эстиях», вошедших в антскую общность. А арийское происхождение антских племенных названий свидетельствует, по меньшей мере, о равном положении потомков аланских кочевников в антских племенах.[339] Да и волохи наделялись в сознании славян определенным сакральным могуществом и, следовательно, пользовались известным почтением. Основную массу населения составляли свободные полноправные общинники — люди. В правовом отношении их масса была достаточно однородной, и деление проходило лишь по половозрастному признаку. Характерно практически полное отсутствие в общеславянском языке специальных терминов, обозначающих принадлежность к воинской «касте». Свободный мужчина-общинник (муж, людин) — одновременно воин (вой, муж); никаких привилегий здесь не прослеживается. Единственное исключение — раннее заимствование у германцев «витязь» — обозначало у древних славян просто воина на коне. В ранних антских и словенских погребениях нет оружия. Стоит отметить, что для эпоса характерно негативное отношение к тем, кто пытался жить исключительно «храбрством». В былине о великане Святогоре он после горделивой похвальбы погибает, не в силах поднять суму с «тягой земной», которую легко несет на плече пахарь. Другой воин-великан, Дунай, из-за состязания в воинской доблести убивает свою жену, тоже воительницу. Она оказывается беременной — в чреве у нее ребенок-богатырь. В раскаянии Дунай, предавший из-за «молодечества» свою обязанность продолжить род и погубивший возлюбленную, кончает с собой. Эти трагические сюжеты отчасти, несомненно, были зарисовкой с натуры. Те, кто пытался выломиться из общинного уклада, строя жизнь исключительно на воинской удали, как правило, кончали плохо — по самым разным причинам. Тем не менее расслоение в общине происходило, и это было, в первую очередь, расслоение имущественное. Оно быстрее шло в придунайских землях. Сельское хозяйство здесь было более доходно, а военные набеги позволяли значительно увеличить свою собственность. О наличии небольшой относительно богатой прослойки свидетельствует наличие в некоторых погребениях уже этого времени инвентаря, хотя и чрезвычайно скудного. В основном погребения с инвентарем сосредоточены в дунайско-карпатских землях от Поморавья до Сирета. О наличии в общинах семей, выделяющихся именно по имущественному принципу, свидетельствует и языковой материал. Термины для обозначения таких зажиточных хозяев — господа, паны (праслав. ед. ч. *gъpanъ). Судя по исконному смыслу последнего термина,[340] основным богатством еще в праславянскую эпоху считался скот, что согласуется и с иными сведениями. В то же время семьи «господ», конечно, были больше, именно в их среде было возможным многоженство, — соответственно на их долю приходилось больше и земледельческих угодий, и опять-таки военной добычи. Естественной возможностью для формирования этой прослойки становился сам характер славянской колонизации. В каждой патронимии в выигрышном положении оказывалась пришедшая первой на данное место и (или) старшая по родословию семья, от которой чаще всего и отпочковывались другие, младшие. Аналогичная ситуация складывалась и в территориальной общине. Имущественному расслоению не могло не способствовать и развитие меновых и товарно-денежных отношений. В придунайских землях обращалась имперская монета, попадавшая сюда через дакийских романцев или как военная добыча.[341] Общеславянская терминология, связанная с торговлей и ростовщичеством, восходит к более раннему времени, а наем был одной из древнейших славянских правовых категорий.[342] Были уже люди, отчасти специализировавшиеся на торговле (купцы, гости) и даче ссуд (лихвари). Но все-таки ввиду прочности общинных институтов у славян не сложилось никакого подобия «плутократии». Несомненно, что от торговли и ростовщичества выигрывала та же родовая старшина, одна только и обладавшая излишками собственности. Не принадлежавший к такой знатной семье торговец мог быть только посредником. В формально-правовом смысле из общины выделялись, пожалуй, только жрецы. Славянское жречество делилось на мужское (ведуны) и женское (ведьмы, ведуницы, вещицы). Различались собственно жрецы и волхвы. Последние выступают в источниках как не связанные с конкретной общиной бродячие предсказатели и чудотворцы. Они сохраняли сакральную мудрость, выраженную особым, непонятным для непосвященных языком (как кельтские филиды). «Ведение» всегда рассматривалось как некое избранничество, предназначенное от рождения (мотив «урожденного» ведовства в славянских поверьях). Однако собственно посвящение ведуна или ведьмы требовало длительной «науки» — обучения сверхъестественным способностям, а затем суровых посвятительных испытаний. Подобным образом обстояло дело и в других древних обществах. Все это позволяет предполагать, по крайней мере, осознание ведовства как некой единой традиции, идущей от глубокой древности. Особенно это относится к ведьмам — служительницам древнего матриархального культа богини-матери, Земли. Судя по фольклорным припоминаниям, ведьмы, как правило, селились изолированно от общины. Они принимали обет безбрачия — при полном отсутствии каких-либо иных сексуальных запретов. Ведовское знание они передавали своим избранницам, зачастую ближайшим родственницам. Ритуальные собрания ведьм были связаны с культом плодоносящей земли. Фольклор представляет их как разнузданные и к тому же кровавые оргии, несущие смертельную угрозу вольным и невольным свидетелям, особенно мужчинам. По мере укрепления патриархата изоляция ведьм от общины неизбежно возрастала. Итак, славянское жречество было достаточно обособленно внутри общества. Но эта обособленность не носила кастового характера. «Ведение» передавалось формально не по наследству, а по линии ученичества. Выбор ученика или ученицы обусловливался, по народным представлениям, не родословной, а особыми признаками избранничества со стороны богов или духов. Наконец, ведуны и ведьмы рождались в обычных семьях, и в качестве родственников этих служителей языческого культа выступают и в наиболее архаичных памятниках фольклора простые общинники. Жречество было тесно связано с ритуальными союзами, которые являлись наследниками «тайных» союзов эпохи позднеродового и раннего племенного строя. В славянском обществе выделялись, прежде всего, замкнутые половозрастные группы, охватывавшие практически всех свободных. Эти группы были наиболее близки по своему характеру прежним мужским и женским союзам.[343] Выделяются мужские возрастные группы отроков («юных») и мужей, женские — дев и жен. Пожилые, в меньшей степени вдовые (имеющие детей) люди пользовались определенными преимуществами, играли существенную роль в некоторых обрядах (например, опахивание села). Но в отдельные сообщества они не объединялись. Дети и просватанные невесты оставались за пределами половозрастных групп. Собрания и пиры половозрастной группы, ее обряды были закрыты для посторонних. Сообщество принимало важные решения о судьбе своих членов (например, о вступлении в брак), играло важную самостоятельную роль в календарных ритуалах. Так, в обязанности молодежных половозрастных групп входило посрамление лиц другого пола, не вступивших в брак в положенный срок. Запретность обрядового действа, совершаемого сообществом, для посторонних, ярко проявляется в обряде опахивания, совершавшемся девушками и пожилыми женщинами. Мужчин, попавшихся на пути процессии, нещадно избивали.[344] Во главе совершаемых половозрастными группами обрядов стояли служители культа, остававшиеся как бы вне сообществ. Для мужских обрядов это был общинный жрец, для женских — ведьма. Наряду с группами половозрастного характера существовали и союзы, принадлежность к которым подразумевала некое избранничество, близкое ведовскому предназначению. Такого рода объединения могли носить, как и жреческие корпорации, межобщинный и внеобщинный характер. Как особая традиция, скрытая от непосвященных и связанная со сверхъестественными силами, осознавалось в славянской традиции кузнечное дело. «Знание» его передавалось по наследству в родах, генеалогически или иным образом связывавших себя с божественным прародителем — первым кузнецом Сварогом. Кузнецам приписывалось чародейное умение. Мифический Сварог был одновременно кузнецом, пахарем, воином и первым правителем, что указывает и на высокий статус воинов-кузнецов в обществе, и на их неотделенность от общины и земледельческого труда. В семьях кузнецов общинным кузнецом, естественно, становился кто-то один. Отмечается большая роль кузнеца в календарной и свадебной обрядности.[345] В основе соответствующих ритуалов — идея права кузнеца на всех девушек общины, брак с любой из коих требовал его формального разрешения и утверждения. В условиях патриархального общества это была значительная привилегия. Положение кузнеца в древней общине, судя по этим припоминаниям, — сразу после жреца. Нетрудно заключить, что воины-кузнецы, носители тайного знания, восходящего к общему источнику, осознавали себя как некое целое в противовес другим людям племени. В таком случае напрашивается вопрос — не было ли сперва имя «Сварог», заимствованное и непонятное большинству славян, «скрытым» именем «создателя молний» Перуна в ритуальной практике тайного союза? Подобные факты у первобытных народов широко известны в этнографии.[346] Это позволяет объяснить относительно редкое упоминание Сварога в источниках и наличие разных замен для собственного имени Божьего Коваля. Особенно показательны восходящие к табу на произнесение имени «Сварог» наименования Тварог, Рарог, Рах, Страх.[347] Распространение культа Сварога и соответствующих ритуальных традиций шло из антских областей. На это указывает и арийское происхождение имени божества, и упоминание в ключевом змееборческом мифе металлического орудия пахоты — то есть пеньковского рала с наральником. Другая сходная традиция была связана с образом противника Перуна, владыки преисподней и покровителя скотоводства Велеса (в то время еще прямо отождествлявшегося с Триглавом-Трояном). Хранителями знания, восходящего к Велесу, «Велесовыми внуками» считались «песнотворцы», носители поэтических традиций, то есть сказители и отчасти волхвы. С поэзией у индоевропейских народов связывалось представление о «поэтической речи», сопряженной с магическим даром. Славянский «песнотворец» мистическим образом проникает в загробный мир по «тропе Трояней», вызывая оттуда образы минувшего.  Изображение лошади. Пеньковская культура С образом Велеса, несомненно, было связано и мифологическое представление о пастухах.[348] Пастух наделялся в народных поверьях различными сверхъестественными дарованиями; проходили сезонные чествования и одаривания пастухов. Бывали обрядовые действа, совершаемые совместно самими пастухами. Во всем этом можно видеть следы существования тайного союза, связанного с культом Велеса. При этом нужно иметь в виду, что пастушество не считалось у славян престижным занятием, и часто пастухами становились инородцы. Характерно, что одаривание пастухов чаще всего происходило вне села, то есть это был как бы откуп от существ, связанных с «иным» миром. Особое место среди тайных союзов древних славян занимали братства, связанные с представлениями об оборотничестве и тотемным по происхождению культом волка. Традиция их существования восходит к балто-славянской и далее индоевропейской древности.[349] У славян, как и у германцев,[350] эти союзы со временем превратились в воинские братства, независимые от общины и противостоящие ей. Оборотничество волкодлаков представлялось в славянских поверьях врожденным избранничеством. Такие избранники от рождения (например, родившиеся «в рубашке») могли считаться детьми мифического духа-змея и, несомненно, возглавляли братства. Второй, низшей категорией их членов были те, кто, по поверьям, оборачивался волком (или иным животным) лишь по воле предводителя. Такую картину рисует и эпос (например, былина о Волхе; ср. мотив «природного» и «вынужденного» оборотничества в позднейших поверьях). Судя по фольклорным припоминаниям (в сказках, преданиях, обрядах и пр.), братства бойников или бродников жили отдельно от общин, часто в лесах, или вели полукочевой образ жизни. Источником существования для них являлись охота (как и для их тотема) и более или менее принявшее форму ритуала ограбление близлежащих общин. В течение «волчьего месяца» (примерно соответствовал декабрю) «волкодлаки» в волчьих шкурах обходили селения и собирали с них дары, служившие, по сути, откупом.[351] В среде воинских братств долго сохранялись пережитки многомужества. Судя по связанным с разбойниками сказочным сюжетам, их «большим домом» в лесу ведала женщина, считавшаяся одновременно сестрой и женой братьев.[352] Она была призвана служить ведьмой, жрицей воинского культа, и наделялась магическими дарованиями (ср. образ бродницы в южнославянском фольклоре). Бойники стремились влить в свои ряды всех, по желанию или вынужденно отрывавшихся от общины — изгоев, «храбров»-одиночек и т. д. С другой стороны, того, кто желал быть членом братства, не порывая с семьей и общиной, ждала жестокая и изощренная кара.[353] Идеальный с точки зрения братства предел его существованию полагала одновременная женитьба всех его членов, осуществленная путем умыкания невест.[354] В древности обряд посвящения в братство включал жестокий ритуал «обагрения оружия» — кровью первого встречного, даже если это близкий родич. Отголоски этого сохранились в позднейшем фольклоре. Человеческое жертвоприношение завершалось каннибальской трапезой — смысл ее был тот же, что и в пожирании тотема (волка или медведя), так как поедались органы, связанные с представлениями о жизненной силе.[355] В описываемый период, однако, этот древний кровавый обычай уже уходил в прошлое — братства, стремившиеся влиться в племенные институты, отступали от резкого противостояния с обществом. В этой связи следует обратить внимание на фольклорные представления о том, что человеческая жертва может быть заменена обрубанием дерева.[356] В то же время в первой половине VI в. еще происходили массовые истребления первых пленников без различия пола и возраста,[357] — тот же обряд «обагрения оружия», только в военном походе. Псевдо-Кесарий говорит и о каннибализме, причем определенно ритуальном.[358] Он же сообщает, что славяне «перекликаются волчьим воем» — ясное указание на то, что члены «оборотнических» союзов играли не последнюю роль в набегах на Империю. На время военного похода братство в некотором смысле расширялось, и в него могли формально включаться, помимо собственно бойников, все шедшие с ними и нередко под их началом воины. То же самое мы наблюдаем и в случае скандинавских викингов, ядро которых составляли «оборотни»-берсерки. Находки костей волка и медведя на корчакских поселениях — след ритуальных трапез бойников и свидетельство их постепенного сближения с общиной. Былина о Волхе,[359] отражающая реалии времен набегов на богатые южные страны, явно говорит о заинтересованности во внешних завоеваниях именно бойников-«волкодлаков». В этом эпическом тексте описывается поход дружины юношей-ровесников, живущих охотой, во главе с вождем, волкодлаком и сыном Змея, на богатую южную страну. В итоге герои овладевают женами, богатством и местом для поселения. Былина плохо сохранилась в позднейшем фольклоре, несомненно, именно из-за своего завоевательного пафоса. Надо заметить, что все свидетельства влияния «оборотнических» братств относятся к словенам. В связи с этим можно обратить внимание на явное разложение обрядности «волчьего» цикла у болгар, тесно связанных по происхождению с антами. У антов «волчьи» союзы были явно менее влиятельны, не выдерживая соперничества с какими-то характерными именно для антов общественными структурами. Естественным противовесом «волкодлакам» были потомки воинской знати «королевства» Боза и (или) союз воинов-кузнецов, возникший как раз в антских землях. Все названные механизмы общественного расслоения, несомненно, многократно переплетались. «Господином» легче было стать члену влиятельного ритуального союза, например кузнецу. Общинные жрецы конечно же часто происходили из авторитетных и богатых семей; наследник «пана» мог уйти в бойники и даже стать главой их братства и т. д. Все это служило хотя и медленному, но размыванию массы «людей» и формированию господствующих общественных слоев. Пути сложения государственностиНе вызывает сомнения, что именно родовая знать всецело контролировала общинное вече. Основные выборные посты на общинном уровне занимали или члены влиятельных семей, или их ставленники. В общинную «администрацию» входили бирич и землемер, руководивший переделом пахотных угодий (праслав. *meracь[360]). Полномочия биричей еще в общеславянскую эпоху расширились, они стали своеобразными посредниками между общиной и племенной властью по самым разным вопросам. В придунайских землях, где славяне столкнулись с более совершенной романской организацией местной власти, стали выбирать старосту — кмета (от народно-латинского comitis[361]). Вече было высшим органом власти и на уровне племени. Именно это в первую очередь дало повод греческим авторам утверждать, что словене и анты живут в «демократии»[362] и даже в «безначалии».[363] Вече решало все военные и политические вопросы. Оно же было высшей судебной властью, причем не только разбирало споры между общинами и в сложных случаях внутри общины, но и само инициировало судебные разбирательства. Тем самым вече брало на себя верховное право распоряжаться статусом и имуществом любого члена племени.[364] Племенное вече было также верховным распорядителем земли. Оно проводило межевание между общинами и даже внутри общины — между родами и семьями.[365] В племенное вече входили те же люди, что и в общинное, и на тех же правах. Количество полноправных участников собрания могло доходить здесь уже примерно до двух сотен. С этим и связан обычай выбирать для рассмотрения судебных дел своеобразную коллегию из 12 наиболее авторитетных «мужей».[366] Этот же узкий совет вполне мог играть ключевую роль и при выборах главы племени. Состав его не был постоянным. Но можно не сомневаться, что входившие в него люди были как-либо связаны с родовой знатью и жречеством. Прокопий утверждал, что анты и словене «не управляются одним человеком». Вторит ему и Псевдо-Кесарий, но тут же упоминает о наличии у словен «архонта и игемона».[367] Несомненно, так же обстояло дело и у антов.[368] Но власть этого «архонта и игемона» была ограничена одним племенем и совершенно не соответствовала ромейским представлениям о монархическом правлении. Прежде всего, племенной князь (владыка; праслав. *kъnezь, *voldyka) был выборным правителем. Следы древнего обряда выборов князя и утверждения его во власти сохранились в обычном праве средневековой Каринтии. В одном из списков «Швабского зерцала» содержится текст, описывающий обряд возведения на трон каринтийского герцога. Некогда князь выбирался из числа «свободнорожденных» племенным вечем. Описываемый обряд хранил следы сверхъестественной санкции его власти. В ходе обряда власть князя утверждалась выборными представителями общин, которые проверяли достоинства претендента суровым допросом у древней колонны — т. н. «Княжего Камня». Хорутанам этот дославянский памятник служил, как можно судить, идолом. Затем, воссев на герцогский престол в открытом поле, новый князь клялся блюсти право и обычаи, а подданные приносили ему присягу. Она всецело обусловлена в обряде обязательствами, которые берет перед лицом племени избранный предводитель.[369] Обряд выборов включал разнообразные состязания, которым, несомненно, придавался сакральный смысл. Чаще всего в различных памятниках славянского фольклора упоминаются в этой связи скачки (ср. еще следы в некоторых преданиях обряда «узнавания» нового вождя священным конем или конем предшественника[370]). Другое состязание было как-то связано с возжиганием «святого» огня[371] и призвано доказать благосклонность к претенденту бога Огня, сына первого легендарного правителя Сварога. С последним моментом напрямую связано определение круга претендентов на княжескую власть. На существование в древности такого ограниченного круга претендентов указывает, в частности, устойчивый в славянском фольклоре мотив «царских знаков» на теле. В них можно увидеть отражение древней татуировки членов некоего «рода» или ритуального сообщества.[372] Из обрывков древнеславянской (в первую очередь, русской) мифо-исторической традиции вырисовывается представление о князьях как представителях некоего генеалогического единства, «внуках» Солнца, сына Сварога. Оба божества выступают как учредители государственного устройства и первые правители, предки земных князей. Все это указывает на то, что приемлемыми для избрания претендентами считались члены ритуального содружества воинов-кузнецов, «потомков» и «учеников» Сварога. В реальности количество родов, из которых избирали князей, могло быть очень ограничено. Князя могли избирать даже из одного рода, выводящего себя «напрямую» от мифического предка. Все правящие князья такого клана присваивали себе в качестве титула-прозвания имя предка (например, Кий). В случае признаков неблагополучия (например, отсутствия в роду мужского потомства или падения власти князя) могли обратиться к более широкому кругу претендентов. Отсюда распространенное у западных славян предание об избрании в князья простого пахаря (Пшемысл в Чехии, позже Пяст в Польше). Вспомним, что труд земледельца относился к числу престижных и приемлемых для «потомков» Сварога занятий, что сам Божий Коваль предстает как первый пахарь. Функции княжеской власти были довольно ограничены. Князь / владыка был верховным жрецом и наделялся сверхъестественными дарованиями, следы чего мы находим и в фольклоре.[373] Можно не сомневаться, что он играл важную роль в земледельческой обрядности (как потомок кузнеца-пахаря Сварога). В чешских средневековых преданиях подчеркивается судейский характер власти древнейших правителей.[374] Право князя быть верховным арбитром в любом внутриплеменном споре вытекало из его сверхъестественного происхождения и жреческого достоинства. Но вождь не мог сам выступать инициатором разбирательства — к нему на суд приходили добровольно. Знаком высшей власти князя над «волостью» был ее объезд — гощение. В ходе гощения князь останавливался в центрах каждой общины — на погостах, где располагались местные святыни. Изначально это имело обрядовый смысл. Князя принимали представители родовой знати (господа ‘гостеприимцы’), которые и устраивали ему торжественный пир. К князю на погост свозились дары от отдельных родов, составлявших общину. Эти дары постепенно слились с древним сбором на обрядовые нужды (биром). Гощение сопровождалось ритуальной охотой. На период гощения князь получал также полное и безапелляционное право присваивать в любых количествах домашний скот всех людей племени.[375] Проходило оно после завершения земледельческих работ, в осенне-зимний период. В поездках и походах князя сопровождала дружина. Изначально каждый новый князь набирал новую дружину. Постепенно, однако, неизбежно формируется более или менее постоянная племенная дружина, переходившая с минимальными изменениями от князя к князю. Естественной основой для такой дружины (по крайней мере, у словен) стали воинские братства. В противном случае они оказывались столь же естественными противниками княжеской власти. Достаточно было уже того, что гощение и «волчий месяц» приходились примерно на одно и то же время. Князю было необходимо заручиться поддержкой хотя бы части бойников. Процесс превращения бойников в княжескую дружину отражен, как уже говорилось, в мифе о князе-оборотне. Стоит обратить внимание на то, что в наиболее древних вариантах (например, в былине о Волхе) сын Змея и знатной женщины, оборотень, собирает вокруг себя дружину и лишь после этого становится князем. Итак, насколько можно судить, не правящие князья подчиняли себе бойнические братства, а предводители бойников, имевшие право претендовать на власть, добивались ее. Бойники не могли быть непосредственными участниками общинного веча, но они были той силой, с которой не считаться было нельзя. По мере слияния бойнических братств с институтами племенной власти в их среде должно было происходить размежевание. Княжеские дружинники уходили от конфронтации с племенем и общинами, отказывались от наиболее враждебных по отношению к соплеменникам обычаев. С другой стороны, обособлялись бродячие ватаги разного рода изгоев, по-прежнему враждебные общинам. Однако четкой грани между теми и другими бойниками (как показывает сравнение, например, со скандинавскими викингами или ирландскими дибергами) не было. Изгои, например, вполне могли на время или навсегда прибиться к княжеской дружине. В древности власть князя была ограничена во времени.[376] Князя, «пересиживавшего» свой срок, тогда попросту убивали. К описываемому периоду этот обычай, скорее всего, уже отошел в прошлое. Никаких его следов в письменных источниках нет. Но князей у словен еще в середине VI в. по-прежнему убивали «сплошь и рядом».[377] Ритуальное убийство князя могло связываться с нарушением им неких обычаев или с неудачами (военными либо хозяйственными), ответственность за которые возлагалась на вождя-жреца. Убивали князя во время гощения («за совместной трапезой или в совместном путешествии»). Упоминание же почти сразу вслед за этим, в той же фразе, что словене «перекликаются волчьим воем»,[378] указывает на то, что убийцами несправившегося правителя выступали княжеские дружинники, члены бойнического братства. 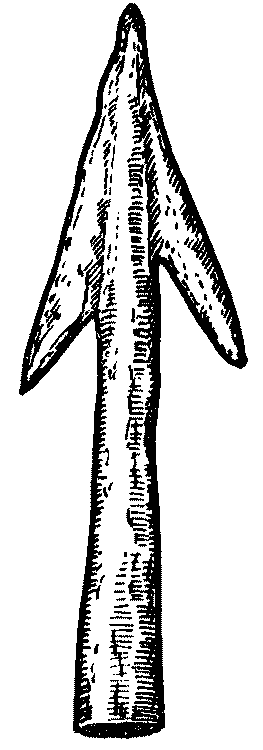 Наконечник копья. Пеньковская культура Антское общество в этом отличалось от словенского. Выше говорилось, что роль бойников-«волкодлаков» у антов была меньше. Раньше ушел у них в прошлое и обычай убийства «несправившегося» князя, делавший вождя полностью подвластным или своей дружине, или родовой знати. Есть основания считать, что у антов к середине VI в. уже начала складываться фактически наследственная власть, с наследованием уже в пределах не одного клана, а одной семьи.[379] Наряду с князьями или вместо них выбирались военные предводители — воеводы.[380] Их власти не придавался сакральный смысл, и она сводилась к предводительству племенным ополчением в военное время. Отсюда следует, что сперва воевод выбирали на вече временно. Но постепенно и эта должность становится постоянной, а могла стать и родовой — удачливого воеводу выбирали на предводительство раз за разом, но и после его смерти логично было искать преемников его ратного умения среди родичей. Оформление надплеменных властных институтов у славянских племен происходило на протяжении первой половины — середины VI в. Эти процессы были в той или иной степени связаны с внешней обстановкой, в которой оказались словене и анты в ту пору. Со второго десятилетия VI в. начинается натиск славян на рубежи Империи. Глава вторая. Первый штурм имперских границПереход ДунаяПередвижения «варваров» за Дунаем сперва не привлекли внимания ромеев. Даже собственное имя новых поселенцев в задунайской Дакии оставалось сперва неизвестным в Константинополе. Кассиодор, римлянин на службе готского короля, писал о словенах и антах, заимствуя информацию из приграничных провинций Восточной Империи. Но для книжников Империи новые пришельцы довольно долго оставались «гетами»,[381] то есть просто жителями древних гетских областей по ту сторону великой реки. Между тем близилось время, когда Империи было суждено хорошо — слишком хорошо — узнать своих новых соседей. Со второго десятилетия VI в. славяне начинают пересекать дунайскую границу. Эти набеги в недалеком будущем перерастут в грандиозное нашествие, которое поставит под вопрос само существование ромейской державы. Некоторую роль в активизации славян на ромейских рубежах сыграли союзные отношения антов и словен с гунно-болгарскими кочевниками. Последние, как уже говорилось, регулярно тревожили Империю набегами с последних лет V в. В условиях возобновившихся с 502 г. войн на востоке, с персами, набеги болгар (булгар) создавали для Империи серьезную угрозу. В этот период происходит формирование племенных объединений болгарских племен. Их связь с савирским «царством» на востоке была слабой и непостоянной. По ромейским источникам она почти не прослеживается. Болгары управлялись собственными наследными правителями (ханами) и были объединены в первой половине VI в. в два крупных племенных союза. Между этими объединениями была поделена обширная полоса степи от впадения Прута в Дунай до восточной оконечности Азовского моря. Основным районом поселения болгарских кочевников были приазовские степи и Нижнее Поднепровье. Восточная часть болгарских племен объединялась в ханство утигур, западная, самая близкая и опасная для Империи — кутригур. Оба эти ханства состояли в тесных, временами союзных отношениях с антскими и (прежде всего, кутригуры) словенскими племенами. Утигуры также временами входили в состав савирской федерации племен, хотя роль посредников между савирами и антами играли, скорее, акациры. К концу V в. кутригуры поглотили гуннских кочевников Подунавья — ултзинзур, прежний народ Динтцика, сына Аттилы. Отношения гунно-славянского симбиоза, восходившие еще к временам Аттилы, сохранялись в какой-то степени и в первой половине VI в. О тесных связях славян с гуннскими кочевниками можно отчасти судить по языковым данным.[382] Это нашло определенное отражение в письменных источниках. Выражение «гунны (булгары), анты и словене» встречается у Иордана и Прокопия.[383] Анты в этом перечислении сперва стоят на втором месте и лишь примерно с 540-х гг. перемещаются на третье — свидетельство их первоначального лидерства среди славяноязычного населения древней Дакии.[384] Интересно, что некоторую аналогию этой формуле мы находим и у персидских провинциальных хронистов, использовавших материалы Сасанидской эпохи — «хазары [частая замена савир] и славяне».[385] Это некий отголосок того, что до разгрома савир персидским царем Хосровом Ануширваном в середине VI в. отдельные отряды антов и словен принимали вместе с хазарами и болгарами участие в савирских набегах на Закавказье. Если это было так, то данные действия славян, действительно, были связаны только с их гуннскими контактами. Но относительно военных действий, развернутых антами и словенами на западе, против Империи, столь же однозначно о гуннском факторе говорить нельзя. Конечно, первые (и надо думать, заманчивые) сведения о богатых задунайских областях славяне должны были получить от гунно-болгар.[386] Союзные отношения с последними не могли не сыграть определенную роль — кочевники бились с ромеями с переменным успехом и остро нуждались в союзниках. Но славянское движение первой воловины VI в. было столь мощным и массовым, что это внушает сомнения в исключительно внешних его побудительных мотивах. А главное — до 559 г. неизвестно ни об одном конкретном славянском нападении, предпринятом совместно с гунно-болгарами. Даже упомянутая формула «гунны, анты и словене» возникает лишь во времена Юстиниана (с 527 г.), в самый разгар славянских вторжений. Итак, анты и словене выступили против Империи по каким-то собственным мотивам, хотя и не без влияния или наущения болгар.[387] При определении этих мотивов мы, конечно, вступаем в область чистых гипотез. Но некоторые соображения достойны того, чтобы их высказать. Во-первых, гунны не были для славян единственными поставщиками информации об имперских землях. Романизированное население древней Дакии, особенно Мунтении, поддерживало тесную связь с забывшей о нем метрополией даже после анто-словенского расселения. Информация, получаемая от волохов, неизбежно должна была быть более объективной (и более настораживающей), чем повествования гуннов о своих заречных деяниях. В этой связи стоит обратить внимание на латинское происхождение слова «греки»,[388] которым славяне обозначали восточных «ромеев». Взгляд на них как на «греков» был характерен не только для западных римлян, но и для их дакийских сородичей. Во-вторых, некоторые легендарные сведения о могущественной Империи были и у самих славян. Память словен о легендарной прародине на Дунае, с которой их изгнали «готы», еще не была столь смутной, как сотни лет спустя — с тех пор к 510 г. сменилось не более двух поколений. Славяне помнили еще и о походах Аттилы против римлян — конечно, не столь четко, как гунно-болгары, чье общение с Империей с тех пор было непрерывным. Дунай занимает совершенно особое место в славянском мифопоэтическом сознании. Наряду с Доном он издревле, еще в праславянскую эпоху, воспринимался как рубеж известного, «своего» мира. За рекой лежит «иной», чуждый мир. Этот мир воспринимался как прародина людей (в этом качестве сливаясь с полуисторической прародиной славян) и обитель умерших предков. С другой стороны, этот потусторонний край наполнен богатствами, не лежащими без охраны, и опасен для человека из «своего» мира. Тем больше, однако, его привлекательность для человека доблестного.[389] На смешение в мифологическом восприятии реальной державы ромеев с потусторонним миром отчасти повлияло заимствование у волохов легендарного образа Трояна. Эпический герой противников, воспринятый как враждебный демон, затем слился с трехглавым божеством преисподней как естественный властитель потустороннего края, «земли Трояновой». Реальные дороги, построенные историческим императором Траяном в Дакии, превращались в мифах славян в «тропу Троянову» — дорогу в наполненный магией загробный мир. Основания для демонизации реальных ромеев у славян появились довольно скоро. При всей значимости Дуная как психологического и мифологического рубежа его пересечение быстро стало для словен и антов естественным продолжением их расселения. Надо думать, что небольшие легковооруженные группы «гетов», пересекшие реку, наткнулись за ней на сопротивление, какого не ожидали встретить. Ни борьба со скрывавшимися в горах волохами, ни стычки с другими соседями не могли дать опыта для противостояния хорошо организованной и охватывающей непостижимые просторы военной машине. В Константинополе, должно быть, не обратили особого внимания на уничтожение маленьких «варварских» шаек едва известного племени, просочившихся с левобережья. Главной заботой на дунайской границе были болгары, известия о них и попадали в хроники. Уцелевшие же «варвары», если такие были, вернувшись, могли рассказать многое о страшной угрозе «своему» миру, таящейся за Дунаем. Уникальную возможность посмотреть на славянский набег, направленный против южных соседей, глазами славян дает нам уже упоминавшаяся былина о Волхе.[390] В былине молодой богатырь-чародей Волх, набрав себе дружину из погодков, выступает в поход на далекую южную страну («Турец-землю» или «царство Индейское»). Страна эта наделяется чертами потустороннего мира, вход в «царство» защищает стена с воротами, в которые невозможно пройти (едва ли не первое впечатление славян от стен укрепленных городов!): Крепка стена белокаменна, Мотивировка похода не вполне ясна. Согласно варианту былины из сборника Кирши Данилова, «индейской царь» готовился к походу на Русь. Волх, как-то узнав об этом, выступил против него, в пути одевал и кормил свою дружину охотой с помощью оборотнических способностей. Затем он в облике сокола отправился на разведку в «царство Индейское», подслушал разговор царя с женой, отговаривающей его идти на Русь, а после в обличье горностая испортил оружие врага. И дружина Волха напала на царский город. В онежском варианте последовательность событий почти та же: охота Волха — разведка Волха — нападение на царя. Но о намерении царя («Сантала», то есть турецкого султана) напасть на Русь Волх узнает только во время разведки, а охота здесь предшествует походу и не связана с необходимостью кормить и одевать дружину. Первое более логично, второе же — менее. Проясняет ситуацию мезенский вариант. Здесь Волха в начале похода просто привлекает «богатый город»; охота вновь на своем месте; во время разведки же Волх узнает о том, что «молодой иньдейской царь» опасается его набега и готов к войне. В целом складывается впечатление, что для Волха и его дружинников разоряемая страна — некий «естественный» противник. С одной стороны, само существование этого государства воспринимается ими как угроза своему роду-племени. С другой стороны, «богатый город» царя предстает столь же естественной воинской добычей. Ни о каких попытках договориться, ни о каких правилах ведения войны речь не идет. Волх побеждает хитростью, лишив врага возможности сопротивляться и тайком пробравшись в его цитадель. Когда после его чародейской разведки дружина, превращенная им в «мурашей», проникает в город, происходит следующее: И стали молодцы на другой стороне, Издевательское замечание Волха выглядит как прямая насмешка над действовавшим тогда «международным правом».[392] В устах едва познакомившегося с ним и не желающего его признавать «варвара» такая фраза, пожалуй, вполне уместна. В связи с этим и упомянутым странным для русского эпоса отсутствием всяких попыток договориться миром на память приходит фрагмент из трудов Прокопия. Тот признавал сильной стороной «варваров» (в том числе славян) полное безразличие их к устоявшимся в «римском мире» правовым нормам. Войны с «варварами», в том числе славянами, как они характеризуются Кесарийцем — войны без ясного повода, без переговоров и перемирий, без самого объявления войны и заключения мира.[393] То, что от природы славяне (для того же автора) «менее всего коварны или злокозненны»,[394] лишний раз подчеркивает, насколько далека была реальность времен войны от нравственных идеалов внутриплеменной жизни. Нарисованная в былине картина, за исключением несбыточного убиения царя, как будто сошла со страниц ромейских источников, описывающих славянский набег. Только для древних славянских сказителей, без сомнения, все описанное являлось не бессмысленным зверством, а героическим деянием. Природный (то есть сильный) враг в сознании древнего славянина увязывался с враждебными силами потустороннего мира. С чудовищами и демонами, с «Трояновым» племенем в переговоры не вступают. И в живых такого врага оставлять также неразумно, разве что в неволе. В онежском варианте, в отличие от двух других полных версий, Волх все-таки берет ставшую беззащитной «силу турецкую» в плен; впрочем, рабы мужского пола не упоминаются далее при разделе добычи. Итог захвата и разорения «богатого города» рисуется в целом схоже, но с разными подробностями. В сборнике Кирши: И тут Вольх сам царем насел, Еще яснее о заселении завоеванной страны в близком к этому мезенском варианте былины: Населился он в Индеюшку богатую… В онежском же варианте подчеркнуто исключительно богатство добычи:
Итак, былина дает нам достаточно полную картину тех мотивов, которые двигали славянами в набегах на Империю. Здесь сплеталось множество разных факторов. Было здесь и стремление нанести упреждающий удар по более сильному, демоническому врагу — стремление, исходящее из мифологической картины мира славянина. Но не меньшую роль играло и стремление к наживе в «богатых городах» — добыванию рабов (прежде всего, рабынь), скота (коней, коров), ценностей (золота, серебра, металлического оружия). Поиск новых земель для возраставшего в числе населения придавал лишние основания и так не нуждающейся с точки зрения «варвара» в оправданиях безжалостной «расчистке» захватываемой страны. Места для постоянного жительства, а нередко и местных жен для продолжения там рода, искала, прежде всего, молодежь из воинских братств, а также примыкавшие к ним изгои. «Храбры»-одиночки, порицаемые общиной, могли сполна реализовать свои силы и прославиться в дальнем походе. Вожаки бойнических ватаг и князья отдельных племен добивались самоутверждения. Ведь именно им доставалась львиная доля добычи и наибольший почет, а то и власть над захваченной землей — как былинному Волху. Переход Дуная большими группами антов и словен происходит в начале второго десятилетия VI в. Положение на дунайской границе Империи стало критическим. Религиозные распри, разгоревшиеся при Анастасии, усугубили положение. Восстание Виталиана в 512–514 гг. позволило вторгшимся «гуннам», с которыми мятежный стратиг заключил союз, практически уничтожить власть Империи на Нижнем Дунае.[396] Под прикрытием болгарских орд и получили возможность проникнуть в римскую Скифию (ныне Добруджа) отдельные отряды неведомых прежде «гетов». Как следует из былины о Волхе, каждый такой отряд мог стать общиной поселенцев. Антские или анто-словенские поселения возникают на малоскифских землях уже в первые десятилетия VI в. (Диногеция и др.) [397] и вытеснить отсюда этих пришельцев Империи так и не удалось. В 517 г. на фоне очередного болгарского вторжения (тогда же савиры напали на Малую Азию), но независимо от него, в балканских провинциях Империи развернули военные действия и «геты».[398] Эти «гетские всадники», должно быть, — в основном анты,[399] у которых (в отличие от словен) известно развитое коневодство. О переходе ими Дуная или разорении приграничных областей ничего не говорится. «Варвары» объявляются сразу в Македонии (то есть собственно македонских провинциях, Македонии Первой и Второй на севере — северо-востоке диоцеза Македония). Затем они вторгаются в Фессалию. Базой для этого вторжения, следовательно, явились обживавшиеся антами и отчасти словенами земли Малой Скифии. Что касается прилегающих фракийских провинций, то они уже были основательно опустошены «варварами» и фактически неподвластны Константинополю. «Варвары» пронеслись по македонским и фессалийским землям, достигнув на юго-западе границ Старого Эпира, а на юге — Фермопил. Не сообщается об их нападениях на крупные города. Фермопильское укрепление — ключ к Элладе — они то ли вовсе не осмелились штурмовать, то ли не преуспели в этом. «Гетская» конница подвергала опустошению в основном небольшие и неукрепленные поселения. Однако число пленных оказалось достаточно велико. Император Анастасий отправил за них выкуп — 1000 либр золота. Но префект Иллирика Иоанн никого не смог вызволить — все пленники были перебиты «варварами» сразу после получения платы.[400] Дальнейшее неизвестно. Скорее всего, в условиях кровопролитной войны Империи с кочевниками «геты» беспрепятственно ушли на контролируемую их соплеменниками территорию. Причины срыва переговоров о возврате пленных неясны. Стоит заметить, что ничего не говорится о том, требовали ли выкуп сами «варвары». Наиболее вероятно, что угнанные с начала набега пленники являлись для них жертвой в кровавом обряде «обагрения оружия». Отданные ромеями деньги они, разумеется, приняли — как воинскую добычу, но и от жертвоприношения не стали отказываться. Эта версия конечно же не бесспорна; возможны и иные объяснения. Так или иначе, именно в связи с этими событиями Империя впервые «заметила» новых соседей и новых врагов. Правление Юстина (518–527) отмечено для Империи безуспешными попытками восстановить реальный контроль над придунайскими провинциями и навести порядок на границе. О безуспешности этих попыток свидетельствуют сообщения о разбое словен в придунайских областях. Своими засадами эти «варвары» отрезали укрепления Улмитон (в Скифии) и Адина (в Мезии, причем немного к югу от Дуная на границе со Скифией), опустошив их окрестности. Обе крепости в результате оставались покинутыми до времен Юстиниана.[401] Подобные факты, судя по всему, были не единичны. Ситуация, с которой пришлось иметь дело Юстину и его племяннику Юстиниану, с первых лет правления дяди, причастного к делам власти, была поистине катастрофической. Европейские провинции подвергались непрестанным набегам. Прокопий в направленном против Юстиниана памфлете, так называемой «Тайной истории», писал, что «гунны» и славяне, разоряя европейские провинции до Эллады включительно «почти что каждый год с тех пор, как Юстиниан воспринял власть над ромеями, творили ужасное зло тамошним людям. Ибо думаю, что при каждом вторжении оказывалось более чем по двадцать мириад[402] погубленных и порабощенных там ромеев, — скифская пустыня впрямь стала повсюду в этой земле…»[403] Оставляя в стороне выглядящие фантастично вычисления[404] и субъективность автора, нельзя все-таки не признать, что за его словами стоит страшная для ромеев тех лет реальность. Сведения подданных Империи о захватчиках-«гетах» со временем приобретают более ясный характер. Во всяком случае, говоря о событиях времен Юстина, Прокопий четко различает антов и словен. Какое-то время до появления в обиходе отдельных племенных названий греки называли их общим именем «споры» (??????).[405] Как полагает ряд лингвистов, это калька праславянского самообозначения *cedь ‘потомки одного рода’.[406] Если так, то контакты между греческим населением и «варварами»-завоевателями в те годы стали уже довольно тесны. Может быть, ?????? было народным эллинским соответствием книжного термина «геты» — поэтому Прокопий и не знал точного происхождения названия. Юстин и Юстиниан упорно противостояли набегам, нанося противнику большой урон, что вынужден был признать даже их ненавистник Прокопий.[407] И, несмотря на все неудачи, именно при Юстине ромеи одержали первую победу над новым противником. Император назначил magister militum Фракии своего племянника Германа Аниция. Несомненно, первоочередной задачей Германа являлось как раз сдерживание антско-словенских и болгарских набегов. В самом начале командования Германа в пределы Империи вторглось из-за Дуная «огромное войско» антов. В ожесточенной битве Герману, «пустив в ход все силы», удалось разбить противника. Победа ромеев была для «варваров» сокрушительной и ошеломляющей. Из многочисленного антского войска пали почти все, а имперский полководец «стяжал великую славу» и среди антов, и среди словен.[408] Именно тогда, скорее всего, контроль над собственно Фракией был частично восстановлен. Тем не менее решительно переломить ситуацию на границе и наладить управление Скифией с прилегающей частью Мезии не удалось ни Герману, ни его ближайшим преемникам. Переход славянами Дуная и их поселение на землях Империи явились важным рубежом в их истории. В развертывавшихся далее событиях определенную роль сыграли изменения в самом антско-словенском мире. Процессы эти непосредственно не отражались в ромейских источниках, но ход их поддается научной реконструкции. Анты и дулебыВ конце V — начале VI в. бесспорными гегемонами ареала, населенного предками славян, являлись антские племена. Анты заселяли обширную территорию от Карпат до Днепра, от северных окраин лесостепи до среднего течения рек черноморского бассейна. Выделялось несколько районов компактного расселения антов. Эти районы соответствуют отдельным племенам или племенным группам. Наиболее плотно анты заселяли Поднестровье. Плотнее всего были заняты ими север Прутско-Днестровского междуречья и долины прилегающих левых притоков Днестра (Серет, Збруч). Как уже говорилось, здесь жили хорваты. Второй крупный очаг антского расселения (тиверцы?) располагался южнее, в бассейне Среднего Днестра. Многочисленным было антское население и к западу от Прута, в древней Дакии, где (как и на севере «хорватского» ареала) анты селились совместно или чересполосно со словенами. Еще одно большое «гнездовье» антских селищ сложилось по Южному Бугу (Куня и соседние с ней — Голики, Самчинцы, Семенки и др.). Сейчас невозможно отождествить его с каким-либо известным нам позднее племенем или племенным объединением. Из этого района анты продвигались и на север по Бугу, до его верховий (поселения Соколец, Парневка).[409] В Поднепровье северной границей расселения антов первоначально был район Киева. Об этом свидетельствуют и присутствие элементов средне-верхнеднепровской киевской культуры в пеньковских древностях, и следы поселения на Старокиевской горе. Однако основные районы расселения антов по Днепру, несомненно, располагались южнее. Самое северное из бесспорно антских поселений этого региона — Канев выше впадения Роси. В начале VI в. анты уже сравнительно плотно заселили оба берега Днепра от впадения Роси до впадений Сулы и Тясмина. При устье Тясмина расположено Пеньковское гнездо селищ, давшее название всей антской археологической культуре (поселения Макаров остров, Молочарня, Луг 1 и 2). В этой восточной части ареала своего расселения анты тесно общались и смешивались с соседними племенами балтского и алано-болгарского происхождения. На северо-западе в антскую среду проникали балты («эстии»-колочинцы). Следы их присутствия достигают селения Луг 1 к югу от впадения Тясмина.[410] В свою очередь анты еще на рубеже V–VI вв. проникали вверх по Днепру, в ареал колочинской культуры. Характер этого взаимопроникновения оценить сложно. Речь могла идти как о следствии добрососедских связей, так и о приеме изгоев из враждебного племени или натурализации рабов-пленников. Так, появление колочинской керамики на антских поселениях легко объяснить наличием здесь пленниц — жен или рабынь. Как бы то ни было, присутствие колочинцев ощущается и на весьма удаленных от днепровского порубежья приднестровских землях.[411] Более тесными были связи антов с кочевым миром. Выходцы из алано-болгарских племен в немалом числе оседали в антской среде. Их присутствие отмечено находками жилищ на приднепровских поселениях Стецовка, Луг 2, Дериевка и других. Кочевническое влияние весьма ощутимо в группе пастырских древностей.[412] Единственным значительным укрепленным поселением антского ареала с VI в. являлось Пастырское городище. Анты обосновались на древнем городище скифской эпохи, защищенном валами и рвами, не подновляя старых укреплений и не строя новых. Городище было расположено в верховьях впадающей в Тясмин реки Сухой Ташлык. Оно отстояло как от селищ поросско-тясминской группы, так и от поселений антов на Южном Буге. Южнее Пастырского проходила условная граница антов с алано-болгарскими кочевниками. На Пастырском находилось не менее 20 жилищ. Обитатели Пастырского занимались ремеслом — гончарным и кузнечным. Пастырское являлось центром изготовления и распространения гончарной керамики. Гончары, изготавливавшие самобытную посуду «пастырского» типа, жили также в нескольких поселениях на правом берегу Днепра.[413] Гончары представляли собой особую этнокастовую группу алано-болгарского происхождения. В антском обществе они могли занимать только привилегированное положение, о чем свидетельствует и проживание вместе с кузнецами на Пастырском городище. Экономическое значение Пастырского демонстрирует распространение керамики «пастырского» типа (городище, вне сомнения, являлось одним из главных центров ее производства и главным — распространения) на антских памятниках. «Пастырская» керамика встречается не только в Поднепровье, где составляет от 5 до 5,8 % керамики, но и в удаленных областях Побужья и даже Приднестровья (до 3 %). Керамика попадала на запад антских земель в результате не только переселений, но и меновой торговли. Иначе существование Пастырского как сугубо ремесленного поселения трудно представить. Если экономический статус Пастырского играл большую роль в жизни антской общности, то неизбежна постановка вопроса и о политическом его статусе. Пастырское, единственное, по сути, укрепление антов, являлось естественным средоточием их общественной жизни. Только здесь (не обязательно прямо на площади городища) можно предполагать местонахождение веча «всех антов», о котором говорит Прокопий. Это вече обсуждало вопросы, значимые для всей антской общности, и принимало решения от имени всех антов.[414] Вече являлось высшим органом антского племенного союза, существовавшего уже в первые десятилетия VI в. Союз не имел единого главы и, скорее всего, являлся довольно рыхлым объединением. Можно не сомневаться, однако, что на «всеантском» вече реально распоряжался узкий круг племенной знати. Число полноправных участников веча в случае полного представительства установить трудно, но вряд ли оно превышало бы 5–7 тысяч. Анты жили разбросанно, и общая численность их едва ли была столь велика, как можно заключить из слов Прокопия в другом месте.[415] В антскую племенную общность на первых порах входила и часть словен в областях со смешанным населением. В частности, сюда можно предположительно отнести дунайских словен (группу Ипотешти). У словен также происходило оформление племенных общностей. Выше говорилось о том, что линией размежевания между этими общностями — дулебами и лендзянами (ляхами) — стал Западный Буг. События, связанные с этим размежеванием, отразились в местном варианте мифа о Божьем Ковале. В этом позднем фольклорном тексте рассказывается о борьбе избранного князем «коваля» Радара (от древнего княжеского имени *Radomerъ) с «королем» Ляхом и его подручным «Змеем Краговеем», разорявшим Волынь. Как и в других версиях мифа, в этой Радар хитростью захватил Змея в своей кузне. Затем князь пропахал на своем пленнике «межу» до самой Вислы. Земли по правому берегу новой реки по уговору должны достаться Радару, по левую — Ляху. Эта река — Западный Буг. «Каменная вежа», где Радар поймал Змея, — Каменец.[416] Предание входит в ряд тех версий змееборческого мифа, где Божий Коваль выступает в качестве первого правителя-родоначальника. Змееборческий мотив здесь, с одной стороны, унаследован от древней мифологии, с другой — связан с историческими реалиями. «Змей Краговей» — Краковский Цмок, дракон, персонаж из польских преданий, побеждаемый змееборцем Краком (скорее всего, еще одним полуисторическим «продолжением» бога-громовника[417]). Таким образом, «змеиные» ассоциации с Краковщиной имеются в преданиях по обе стороны Западного Буга. Скорее всего, они отражают некие особенности развитых у местных племен религиозных воззрений. Целый ряд признаков указывает на сохранение особого почитания Велеса-Змея у ляшских племен. Собственное имя Змея «ляхами» не употреблялось, в отличие от большинства славян, что указывает на табуирование. Слово «ящер» — источник имени верховного божества поляков Jesza. Праславянская «велесическая» религия подолгу удерживалась на периферии. В Щецине, у поморян, поклонялись Триглаву; на Руси кривичи возводили себя к Криву, антиподу «правого» Перуна. Распространение культа Перуна (как Коваля-Сварога, врага Трояна-Триглава-Велеса) шло к словенам из антских земель. В этой связи стоит вернуться к племенному названию из сочинения Баварского географа, реконструируемому как *cьrvjane. Убедительного объяснения этого названия (и позднейшего «Червонная Русь») на праславянской почве не существует. Однако, скорее всего, основа здесь — праславянское слово *cьrvь ‘червь’ (производные слова со значением ‘красный’ едва ли могли дать жизнь племенному названию[418]). «Червь» и «змей» в мифологии — синонимы. Червяне — ‘племя Червя (Велеса, Змея)’. Скорее всего, разделение словен на лендзян и дулебов было вызвано различными причинами. Сыграло свою роль в том числе соперничество культов и стоявших за ними культовых союзов. Союз воинов-кузнецов пришел к власти на правобережье, а союз, связанный с культом Змея-Велеса, был весьма значим на левобережье Западного Буга. Разрыв сопровождался неким конфликтом и размежеванием земли по Бугу, воспоминания о котором в мифологической форме отразились в белорусском предании. Интересно также, что в нем Змей выступает лишь как помощник мифического предка поляков. Радар же — противник не столько Ляха, сколько Змея, издыхающего после богатырской пахоты князя-коваля. Надо думать, и на ляшском левобережье княжеская власть по складывающейся у всех словен традиции находилась в руках «потомков» Сварога, но власть их была слабее и делилась с почитателями Велеса. Лендзяне и дулебы оформились как самостоятельные племенные общности. Предание IX в. характеризовало западную общность (червян) как «королевство». Но не сказано, что его власть распространялась за пределы первоначальной земли червян, на происшедшие от них племена. Лендзяне в первой половине VI в. еще не имели значительных политических и экономических центров. Большая на тот момент часть их (чехи, поселенцы Словакии и Моравии, кривичи) оторвались от пока немногочисленной червянско-вислянской группы. Старшинство червян помнилось, но как власть вполне могло и не признаваться. Со временем центр ляшской племенной общности смещается от Буга к Висле. Средоточие культа Велеса-Змея, судя по преданиям, находилось именно в земле вислян, в районе будущего Кракова. Лендзяне относительно сплачивались, должно быть, сознанием лишь культового и этнического, а не политического единства. Иначе обстояло дело на дулебском (бужанском) правобережье. Масуди ясно сообщает о подчинении всех племен, происшедших от «корня славянских корней» — племени «Валинана» — «царю» этого племени. «Царь» этот у Масуди именуется «Маджак». Это скорее титул, чем личное имя. «Маджак» возглавлял типичный племенной союз, где каждое племя имело своего «царя», но «власть была у него, и прочие цари ему повиновались».[419] Верховный «царь» являлся первым «великим князем» в славянской истории. Подчиненные ему князья именовались «малыми» (судя по сохранившемуся позже титулу князя древлян — одного из первых отпочковавшихся от бужан племен).[420] Власть «Валинана» (вернее, предков волынян — бужан) основывалась на «почтении» и «превосходстве» и носила в большей степени культовый, а не политический характер. «Маджак», вероятнее всего, периодически совершал ритуальный объезд «подвластных» земель и был чем-то вроде верховного жреца племенного культа (Перуна-Сварога?). На некоторую условность объединения дулебов в пору его сложения указывает полное отсутствие данных о какой-либо славянской «монархии» в письменных источниках того времени. Не исключено, что дулебы не имели общесоюзного веча, а единство их обеспечивалось только ритуальным лидерством бужанского «царя». «Маджак» должно являться родовым титулом дулебских владык. Власть в таком случае передавалась в пределах одного клана, связывавшегося происхождением с Божьим Ковалем — Сварогом. Историческим двойником его в данном случае выступает герой-предок Радар. Арабское «Majak» сопоставлялось с ????????? (?????????) — греческим именованием верховного (?) словенского «царя» (рикса) второй половины VI в.[421] Титул, как представляется, неславянского (аланского? [422]) происхождения. В связи с этим следует вспомнить об антском происхождении традиции, связанной с Божьим Ковалем. Еще в правление Юстина в Империи (518–527)[423] неподалеку от впадения в Западный Буг реки Луга основано городище Зимно. Какое-то время это был единственный укрепленный центр словен. Несомненно, что именно здесь располагалась «столица» племени бужан и всего дулебского племенного союза, резиденция «царя». Городище, расположенное на мысу, поднимается над долиной на 15–16 м и занимает площадь (сильно вытянутую) 1890 кв. м. Защищено оно, прежде всего, глубокими рвами. На северо-востоке был неприступный крутой склон, на юго-западе — стена от стояков с горизонтальными бревнами и частокол. Многокамерное наземное строение с 13 очагами (наземными глиняными печами?) располагалась под стеной и было к ней пристроено.[424] Именно оно и могло служить домом «царю» и его дружинникам. В сравнении с Пастырским очевидно оборонительное значение Зимно, воздвигнутого против антской или ляшской угрозы. Городище являлось важнейшим ремесленным центром. Здесь работали мастера по металлу и камню, снабжавшие своей продукцией округу.[425] Скорее всего, Зимно служило к тому же важнейшим в регионе средоточием меновой торговли. На тесную связь с антскими землями (присутствие антских поселенцев среди основателей Зимно?) указывают находки пеньковской керамики. Расселение дулебов шло с запада на восток, через ненаселенное Полесье по направлению к Днепру. Основные пути движения дулебских «колонистов» пролегали вдоль рек бассейна Припяти, на которых и расположена большая часть поселений восточной группы корчакцев.[426] С собственно бужанами следует связывать группу поселений с центром в Зимно, располагавшуюся на Западном Буге и в верховьях Турьи, притока Припяти. Позже дулебы продвинулись и вверх по Турье. Еще одна группа поселений (Подрижье и др.) расположена по реке Стоход, а с ней, несомненно, связано происхождением племя, осевшее на реке Стырь, — выше и ниже по течению современного Луцка (Липа и др.). Эта последняя группа селищ может быть с уверенностью сопоставлена с летописными лучанами. Баварский географ говорил в IX в. о племени луколан, скорее всего, где-то на западе восточнославянских земель.[427]  Окрестности с. Зимно. Современный вид Районом наиболее плотного расселения дулебов явились верхнее и среднее течение Случи, междуречье Горыни и Случи (есть отдельные поселения и на западном берегу Горыни) и верховья Тетерева, притока Днепра. На север от Тетерева поселениями охвачены бассейн его притока Ирши и верховья Ужа. Здесь явно лежали земли нескольких племен. На Тетереве располагалась Корчакская группа селищ, давшая название археологической культуре словен. Из компактно расселившихся в этих областях дулебских племен позже сложился племенной союз древлян. Изначально древлянами называлось племя (или уже ряд племен), осевшее в густых местах этого региона,[428] непосредственно подступавших к антской лесостепи. О том, что еще довольно долго древлянами именовалась только часть (южная?) здешних обитателей, свидетельствует опять же Баварский географ. Среди славянских племен между русами и луколанами он упоминает Seravici (жеравичи? жеревичи? — на Жереве, притоке Ужа[429]). В древлянском племенном союзе позднее выделялись два центра княжеской власти. Одним являлся район сближения Ирши и Ужа, где тогда располагались княжеские города Малин и Искоростень. Другим были земли выше по Ужу и к северу от Жерева, где располагался город Овруч. Последний район (который надежно можно соотносить с жеревичами) в корчакский период был заселен еще редко. Но единичные словенские поселение уже имелись и довольно далеко к северу оттуда, на падающей в Припять Словечне. Древлянское племенное «гнездовье» явилось главным оплотом словенского расселения на антском порубежье. Наряду с селищами на Словечне сложилась еще одна группа поселений словен, далеко оторвавшихся от основного массива и ушедших на север. Эта группа (Хотомель, Хорск, Семурадцы и др.) возникла к северу от широкого пояса полесских топей. Она расположилась на сравнительно небольшом пространстве пригодных для земледелия земель между впадениями в Припять Горыни и Львы. Еще одно поселение (Буда Шеецкая) возникло дальше к востоку и уже на левом берегу реки. Словене пришли сюда с запада, двигаясь вдоль Припяти непосредственно с ее верховий (где есть одно их поселение) или с Турьи. Припятская группа стала зародышем племенного союза дреговичей, которых русский летописец при описании расселения славян называет вслед за древлянами.[430] Племенное название дреговичей, упоминающееся в источниках с VII в. (часть племени тогда оказалась на Балканах), связано со словом «дрегва», обозначающим болото, топи.[431] 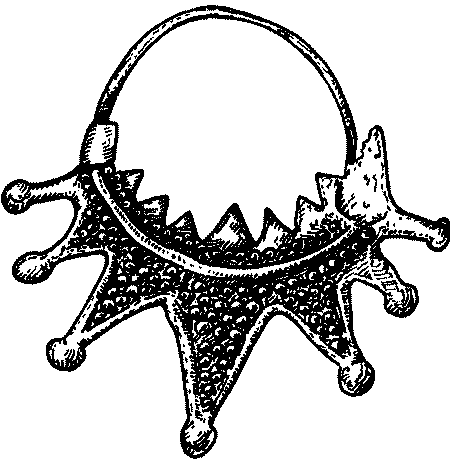 Славянское височное кольцо В связи с дреговичами в греческих источниках упоминается племя ???????? (берзичи? от *bergъ ‘берег’ или *bъreza ‘береза’[432]). Баварский географ упоминает среди восточнославянских племен Fresiti — тех же берзичей (точнее, их сородичей).[433] Скорее всего, племена дреговичей (Баварским географом не упоминаемых) и берзичей составляли некую общность, в которой попеременно лидировали. Припятско-горынская группа поселений, отчасти заходящая в болота к югу от Припяти, соответствует этим двум племенам. Дреговичей следует помещать тогда на южных заболоченных землях, берзичей — по берегу Припяти. Заселение Полесья двумя кланами переселенцев, давшими начало двум племенам, союз этих племен и их взаимоотношения с южными сородичами отразились в позднем белорусском предании.[434] Здесь сперва рассказывается о двенадцати братьях, живших в «темном лесу», промышлявших скотоводством и охотой, держа в страхе соседей. После смерти отца ссоры между женами братьев вылились в раздел и междоусобицу из-за земли. Двое младших, дружные между собой, «не захотели колотиться с братами» и ушли из родных краев с женами, многочисленными детьми и всем своим добром. С этим переселением, между прочим, предание связывает изобретение колеса, а с переправой переселенцев через Припять — плота. Старший из братьев, отчаявшись выбраться из дремучего заболоченного леса, стал родоначальником белорусов-полешуков, младший же, пробившийся из чащоб и болот на равнины, — полевиков. Этот мотив — явно позднее наслоение, связанное с переносом действия предания из Припятского Полесья на всю Белоруссию. Жители подвинских равнин иного происхождения, чем полешуки, далекие потомки дреговичей. После того, как поселенцы разбогатели на новом месте, старшие братья напали на них, чтобы отобрать добро. Однако сперва враги потерпели поражение, попав в затопленные ямы-ловушки или заплутав в чаще среди неприступных засек. Но из-за того, что каждый род приписывал себе честь победы, между полешуками и полевиками началась жестокая междоусобица (картина весьма достоверная для эпохи племенного строя). Ослаблением истощивших и разоривших друг друга сородичей воспользовались десять старших братьев и, наконец, захватили их земли, став над ними «панами». Предание связано с событиями первоначального заселения Полесья, хотя подлинный их ход нам уже не восстановить. Достоверно то, что первые поселенцы (дреговичи и берзичи) отделились от дулебской общности и ушли далеко на север, в припятские леса и топи. Образование обоих названий с «-ичи» указывает на древность и даже на возможную реальность традиции о братьях-предках. В древнем предании первый из них поселялся бы в болотах (дрегве), другой на берегу Припяти. Дальше мы вступаем в область если и не фантазий, то догадок. Можно полагать, что отношения дреговичей и берзичей с дулебами были непросты, что северные выселки не считались с властью великого князя, не платили ему ритуальную дань и действительно возбуждали алчность южных сородичей. Можно также полагать, что реальные события, сопровождавшие обуздание этой непокорности, отражены преданием достоверно. Вхождение дреговичей и берзичей в дулебский союз доказывается тем, что они появились в итоге на Балканах, — изоляция от бужан это исключала бы. Но предание отделено от описываемых событий почти полутора тысячами лет и содержит неизбежные черты позднейших эпох. Из бассейна Тетерева словене продвинулись еще дальше на восток, в Среднее Поднепровье. Отсюда они вытеснили антов, основателей Старокиевского городища. Приход словенских поселенцев в район Киева с запада нашел отражение в нескольких преданиях, начиная с древнерусской «Повести временных лет».[435] В одном из украинских текстов (из поздних — наиболее логично построенном)[436] недвусмысленно рассказывается о военных действиях. Некий «пан» неимоверно притеснял людей, «отбирал от них все, что можно было». В конце концов, «подданные» восстали. Объединенные силы восставших разбили «пана» с его войском и гнали до места нынешнего Киева, где уничтожили своего угнетателя и его присных. В этом опять-таки чрезвычайно позднем предании смутно отразилось первоначальное могущество антов (ощущавшееся соседними дулебами) и падение этого могущества в результате войны, приведшей к заселению словенами-дулебами Киевщины. Словенское население Киевщины было, тем не менее, крайне немногочисленно. По сути, речь шла о небольшом дулебском форпосте на крайнем востоке, отчасти в антском окружении. В Киеве поселение с пражско-корчакской керамикой расположилось на Почайне (нет доказательств обживания дулебами уже в это время антского городища). Чуть южнее располагалось другое поселение — Ходосово. Здешние жители именовались «поляне» (производное от «поле»[437]). В славянской фольклорной традиции «полянин» (или «поляница») — воин-одиночка, чужеземец, но свободно общающийся со славянами, живущий на ничейной земле. С другой стороны, и представитель «своего» рода-племени ездит «в чистое поле поляковать». Этноним «поляне» появлялся на границах словенского ареала с другими славянскими (в широком смысле) группами населения — с антами на Среднем Днепре, с венедами на Висле. Таким образом, можно вывести, что «полянин» — представитель славяноязычного, но не словенского племени. Для дулеба VI в. это, в первую очередь, ант. С другой стороны, и представители «своего рода», оседающие на порубежье, в «поле», становились «полянами», тем более что нередко смешивались с аборигенами. Будущая земля киевских полян в VI–VII вв. еще была в значительной части заселена антами. Анты селились по правому берегу даже выше впадения Роси. Антский элемент ощущается в позднейшей полянской культуре.[438] Именно поэтому летописцы подчеркивают длительную разъединенность полян на отдельные «роды».[439] Позднейший племенной союз потомков антов и дулебов в VI в. еще не сложился. Но взаимодействие и смешение «родов» уже могло происходить. Поселение в Среднем Поднепровье словен привело к расширению территории, занятой вытесненными оттуда антами. Отмечавшаяся близость антской культуры Левобережья Днепра к киевской культуре указывает на происхождение ее создателей из Среднего Поднепровья. Расширение антского ареала на восток в первой половине VI в. прослеживается, как увидим, и по письменным источникам. Не вызывает сомнений, что часть антов отступила из района Киева вниз по Днепру, к впадению Роси и далее. Неизбежное в этом случае перенаселение этих земель, вероятнее всего, привело к образованию отдельной группы антских поселений гораздо дальше на юг — по обоим берегам реки при ее изгибе (Яцева балка, Игрень, Волошское и др.). В своем продвижении с севера эти анты должны были с неизбежностью миновать на левом берегу впадение реки Орель (др. — рус. Угол). От этой реки производится название восточнославянского племенного объединения угличей (уличей), занимавшего нижнеднепровские земли в IX–X вв.[440] Скорее всего, название «угличи» появилось именно в антскую эпоху и прилагалось к антскому племени, осевшему на самой границе алано-болгарских степей, за устьем Орели-Угла. Распространенность в славянской традиции тюркизированной формы этого названия — «уличи» — объясняется именно давним взаимодействием угличей и болгарских кочевников в этом районе. Впрочем, отдельные антские поселения есть и на самой Орели. Скорее всего, они оставлены частью угличей, оставшейся на реке-эпониме и двинувшейся вверх по ее течению, в глубь Левобережья. Отдельные группы антов оседают также на Суле (при впадении Удая — поселение Хитцы и др.), Пселе, Ворскле. Эти единичные (кроме приудайской группы) поселения принадлежали северам и другим антским племенам, сложившимся в контактной с кочевниками зоне. «Повесть временных лет» определяла ареал северов «по Десне, по Сейму и по Суле».[441] Антские поселения есть на всех названных реках. На Десне и Сейме анты селились вместе или чересполосно с «эстиями», носителями колочинской культуры.[442] Контакты колочинцев с пеньковцами отмечены и в верховьях Сулы (Хитцы).[443] В Подесенье и Посемье анты селились на колочинских поселениях, причем число антских мигрантов было достаточно велико.[444] Реконструируемая археологами картина — «подселение» на балтские селища отрядов мужчин-славян и вступление их в браки с местными женщинами[445] — указывает на немирный характер проникновения антов в Подесенье. В политическом отношении эта территория, скорее всего, антами постепенно завоевывалась. Но масштабной славянизации местного населения в VI–VII вв. еще не произошло. Скорее даже шла речь о растворении пришельцев в местной среде.[446] Расширение антского ареала на восток, как уже сказано, нашло отражение в письменных источниках. Уже говорилось, что Кассиодор в первых десятилетиях VI в. ограничивал антские земли на востоке Днепром. Иную картину находим у писавшего в середине VI в. Прокопия Кесарийского. Отражая ситуацию около 550 г., он помещает «бесчисленные племена антов» к северу от приазовских утигур,[447] то есть в глубине днепровского Левобережья. Таким образом, в первой половине VI в. сформировались ареалы расселения славяноязычных племен на восточноевропейской равнине. Лесную полосу от Западного Буга до Среднего Днепра, ограниченную с севера Припятью, заселили словене-дулебы. К югу и востоку от них жили анты. Они населяли лесостепь от Сирета до Днепра, лесостепные и отчасти степные области Нижнего Поднепровья и Левобережья, отчасти Подесенье с Посемьем, а на западе заняли подступы к Дунаю вблизи его дельты. Эта карта славянского расселения сохранялась затем на протяжении длительного времени. Славяне против Юстиниана1 апреля 527 г. на престол Империи Ромеев вступил племянник умершего в том году Юстина, Петр Флавий Саббатий Юстиниан. Главной целью нового императора являлось укрепление расшатанной десятилетиями смуты ромейской государственности. В правовом Кодексе Юстиниана было обобщено все действующее римское право. С первых лет правления Юстиниан, ревностный приверженец христианской ортодоксии, обрушил репрессии на еретиков и язычников. При нем была закрыта Афинская Академия (529 г.), ставшая опасным центром персидского влияния. В 532 г. Юстиниану пришлось иметь дело с мощным восстанием «Ника», вызванным распрей между димами прасинов и венетов в Константинополе. В ходе восстания рядовые члены обеих партий объединились в ненависти к Юстиниану и его жесткой налоговой политике. Была предпринята попытка свергнуть его с престола. Лидеры венетов, однако, перешли на сторону Юстиниана, и он жестоко подавил восстание. Юстиниан поставил перед собой задачу вернуть Империи былое величие. Он поддерживал активные дипломатические контакты с «варварскими» государствами и племенами, обеспечивая свое влияние на Западе. В 532 г. был заключен «вечный мир» с Ираном (хотя позднее борьба с Сасанидами возобновилась). С 533 г. император начал открытую вооруженную борьбу с германцами за воссоздание Древнего Рима.  Юстиниан. Фрагмент мозаики из Равенны Важнейшим условием этой борьбы являлось установление хотя бы временного спокойствия не только на восточной, но и на дунайской границе. Между тем в начале правления Юстиниана до этого было весьма далеко. Власть Империи на придунайские земли фактически не распространялась. Из-за Дуная в пределы державы вторгались новые и новые отряды гуннов, антов и словен и «творили ромеям ужасное зло».[448] В 530 г. перешедшему к тому времени на службу Империи гепиду Мунду пришлось отражать в Иллирике мощное нашествие болгар.[449] Фактическая граница Империи со «множеством варварских племен» проходила в начале правления Юстиниана немногим к северу от линии Филиппополь — Адрианополь. Под властью ромеев остались лишь самые южные земли провинций Фракия и Эмимонт. В первые годы правления Юстиниан отдал приказ починить обветшавшие укрепления городов Филиппополь, Веррия (провинция Фракия), Адрианополь, Плотинополь (провинция Эмимонт). Все они находились под угрозой нападения «варваров».[450] В 531 г. Юстиниан назначил magister militum Фракии своего приближенного, «очень находчивого в военных делах» Хильбуда (Хилвудия).[451] Главной целью Хильбуда являлось не допускать впредь переправ «варваров» через Дунай. И с этой задачей он блестяще справился. «Варварские» набеги на Фракию прекратились.[452] Власть Империи полностью восстановилась не только в центре диоцеза, но и в северных его провинциях. Именно к этому времени относятся меры по укреплению границы в Скифии и Мезии, описанные Прокопием в трактате «О постройках». Заново были отстроены, в частности, крепости Адина и Улмитон. Эти местности были полностью очищены от словенских шаек.[453] Какое-то словенское и антское население в Добрудже осталось, но теперь оно должно было подчиниться Империи. Хильбуд не ограничился разгромом «варваров» в порученном диоцезе. Он неоднократно совершал походы за Дунай, истребляя и обращая в рабство славян и гуннов на их собственных землях.[454] Казалось, на дунайской границе установилось спокойствие. В ознаменование побед Юстиниан принял титул «Антский»[455] — ясное свидетельство того, что свои главные победы Хильбуд одержал именно над этими племенами. Явное доказательство мощи Империи не могло не привести к изменению характера отношений между ней и славянами. Часть антов и словен теперь начала искать для себя выгоду в союзе с Константинополем, тем более что Юстиниан охотно привлекал «варваров», вчерашних врагов, к себе на службу и вступал с ними в соглашения. Первые анты и словене — федераты Империи, несомненно, происходили из среды новых обитателей Малой Скифии, вынужденных смириться с торжеством ромейского оружия.[456] Одним из их числа мог быть будущий ромейский полководец Дабрагез — знатный ант, подвизавшийся на имперской службе примерно в начале 530-х гг. Он крестился и женился на гражданке Империи — во всяком случае, его сын носил греческое имя Леонтий.[457] Дабрагез — первый крещеный славянин, о котором у нас есть сведения. Не вызывает сомнений, что даже для своего круга «союзников» Империи он был исключением. Подавляющее большинство из них сохраняло верность языческой вере. В 533 г., как уже говорилось, Юстиниан начал войну за восстановление ромейской власти на Западе. В 533–534 гг. он разгромил вандальское государство и вернул римскую Ливию, а в 535 г. началась затяжная Готская война — за освобождение Италии. Для этих войн Юстиниан во множестве привлекал «варварские» силы. Уже в 533 г. для похода на вандалов были набраны части из задунайских «варваров» — гуннов, антов и словен. Они были отданы под начало ромейским полководцам Мартину и Валериану. В 537 г., отправляясь в Италию, Мартин и Валериан командовали 1600 всадниками из племен, «обретающихся за Истром».[458] И в Вандальской, и в Готской войне дунайские федераты сыграли немалую роль. Иные из них весьма отличились на службе Империи. К моменту начала готской войны ситуация на дунайской границе вновь изменилась для Империи к худшему. В 534 г. Хильбуд, за прошедшие три года привыкший безнаказанно разорять «варварские» земли, вторгся в область дунайских словен с небольшим отрядом. Ему, однако, пришлось на этот раз столкнуться с ополчением «всего народа» — всей дунайской племенной группы. В происшедшем сражении словене одержали победу. Погибла значительная часть отряда Хильбуда, в том числе и он сам. После его смерти наладить оборону Фракии оказалось некому. К тому же можно не сомневаться, что победа воодушевила «варваров». Набеги за Дунай возобновились.[459] Наряду с болгарами[460] активизировались анты и словене. Ведущую роль среди славяноязычных племен Дакии, в том числе и в их набегах, по-прежнему играли анты. Анты упоминаются как «племена»-разорители в средневековой еврейской глоссе, отражающей настроения страдавших от их грабежей и насилий евреев Империи. Наравне с ним названы берберы, наносившие серьезный ущерб в Ливии после победы ромеев в Вандальской войне.[461] Фракийские земли уже в 535 г. стали ареной ожесточенных боев с «варварами». В 537 г. упоминается о «варварских» (антских и словенских?) нападениях на Скифию и Мезию. Пленных ромеев в немалом числе угоняли в рабство за Дунай. Для «варваров» это стало источником не столько даже рабочей силы, сколько выгодного торга с Империей, правительство которой принимало энергичные меры к выкупу пленников. В 538 г. в Мезии было разрешено продавать и закладывать для выкупа пленников церковную утварь, не подвергать никакому отчуждению завещанное или подаренное на выкуп имущество. Обстановка на дунайской границе была столь тревожной, что отправка туда воинских частей рассматривалась как наказание.[462] Но «варварские» набеги не ограничивались дунайским пограничьем. Во второй половине 30-х гг. «варвары» проникали далеко в глубь имперских земель. В частности, они появились в те годы в окрестностях Фессалоники и «ограбили всю область». Ромеи ожидали нападения на город и несли на его стенах ночную стражу.[463] Судя по всему, это были анты.[464] Словене до 548 г. вообще не предпринимали самостоятельных глубоких вторжений в ромейские земли.[465] Между тем к северу от Дуная происходили достаточно серьезные этнополитические изменения. Военные столкновения между соседними племенами были здесь обычным явлением.[466] Примерно в конце 530-х гг. разразилась война между словенами и антами. Анты потерпели поражение.[467] Как говорилось ранее, анты до этого времени лидировали в общности славяноязычных племен к северу от Дуная. Более того, дунайские словене (группа Ипотешти) первоначально, судя по всему, входили в антский племенной союз. Теперь ситуация меняется. Дунайцы становятся самостоятельным племенным объединением, на равных сообщающимся с антами. Это стало отражением общего ослабления антского племенного союза. Нельзя отрицать возможность непосредственной связи между расселением дулебов на севере и удачной войной дунайцев против антов. Протяженность антской границы с Империей после отпадения дунайских словен резко сократилась и ограничилась самыми низовьями Дуная. Напротив, дунайские словене имели с Империей довольно протяженную границу и представляли теперь большую, чем анты, угрозу. В связи с этим словене выходят на первое место в традиционной формуле обозначения «варварских» племен Задунавья. Теперь она звучит: «гунны, словене и анты».[468] В то же время и анты продолжали набеги на Империю. Один из таких набегов первой половины 540-х гг. упоминает Прокопий: «анты, обрушившись на области Фракии, многих ограбили и поработили из тамошних ромеев. Ведя их, они возвратились в отчие места».[469] В 544 г. церквам городов Одиссоса и Том в Малой Скифии, на границе с антами, было разрешено «отчуждать недвижимое имущество ради выкупа пленных»[470] (не исключено, что как раз в связи с этим набегом). Словене, в свою очередь, по-прежнему не рисковали углубляться в ромейские земли, ограничиваясь слабо организованными, хотя и частыми, налетами небольших отрядов на приграничные края. Мирные отношения между антами и словенами на Дунае вскоре восстановились.[471] Несомненно, важную роль в этом сыграла непрекращавшаяся война с общим противником — Ромейской Империей. Антский союз, чьи земли протирались на восток до Днепра и за Днепр, оставался желанным союзником и опаснейшим врагом. В 545 г. произошли события, изменившие политическую ситуацию на Левобережье Дуная. Подробное их описание содержится в «Готской войне» Прокопия Кесарийского.[472] В упомянутом выше набеге среди прочих пленников был захвачен некий ромей, которого Прокопий характеризует как «мужа очень злокозненного и способного любого встречного обмануть хитростью». Изыскивая способ вернуться на родину, раб рассказал своему господину-анту («человеколюбивому и кроткому», по словам Прокопия), будто имперский полководец Хильбуд не погиб, а находится в рабстве у словен, скрывая при этом, кто он. Выкуп этого вельможи и доставка его в пределы ромеев не остались бы без наград со стороны императора. Ант, убежденный своим пленником, отправился вместе с ним к словенам и вскоре разыскал там раба по имени Хильбуд, прославленного воинской доблестью. По словам Прокопия, на самом деле это был ант, захваченный в плен еще «юношей с первым пушком на губах» во время антско-словенской войны, случившейся уже после гибели полководца Хильбуда. Ант выкупил его за большие деньги. Оказавшись же в антских землях, Хильбуд сообщил пораженному хозяину, что «он и сам ант», и «поскольку вернулся в отчие места, то впредь и сам будет свободен, по крайней мере, по закону». Ромей, стремившийся ускорить свое возвращение, однако, настаивал, что перед ними именно полководец Хильбуд и что тот всего лишь по-прежнему скрывает истину от «варваров». Случай стал предметом рассмотрения на общеантском вече. Обладание пленным ромейским полководцем сулило антам очевидные выгоды, поэтому племенной союз объявил ситуацию «общим делом». От Хильбуда потребовали под страхом наказания признать, что он и есть бывший наместник Фракии. После некоторого запирательства, «возбужденный надеждами» Хильбуд признал это. «Надежды» невольного самозванца были связаны с прибывшим к антам посольством Юстиниана. Стремясь расколоть фронт «варварских» племен и помешать действиям на тот момент наиболее грозного на этом участке врага — болгар, император предложил антам выгодный союз. Предложения Юстиниана сводились к следующему. Антам передавался город Туррис — одна из обезлюдевших древнеримских крепостей к северу от Дуная (в причерноморских областях Дакии[473]) с окрестными землями. Юстиниан обещал поддержку в заселении этой ничейной территории, богатые дары и «много денег». В обмен анты должны были стать «союзниками» Империи. Союз направлялся против болгар — предполагалось, что из Турриса анты смогут оказывать эффективное противодействие «гуннским» набегам на Империю. Анты приняли условия императора. Единственным их дополнением явилось требование придать в качестве «сооснователя» (то есть ромейского правителя-представителя в Туррисе) самозваного Хильбуда, «вернув» ему воинский чин. Надо отметить, что поведение анта Хильбуда могло ввести в заблуждение даже ромейских послов — он знал латынь и «выучил уже многие из примет» настоящего полководца, — наверное, благодаря ромейскому пленнику-авантюристу. Тем не менее для закрепления соглашения требовалось прибытие Хильбуда в Константинополь. По пути он был встречен во Фракии известным ромейским полководцем евнухом Нарсесом — тот был направлен на север Юстинианом для привлечения герулов в италийскую армию. Нарсес обвинил Хильбуда во лжи и, посадив его под арест, выведал всю правду. Затем он отослал самозванца в Константинополь. Здесь Хильбуд и умер 28 сентября 558, 573 или 588 г.[474] Арест Хильбуда, однако, никак не сказался на антско-ромейском союзе. О набегах антов на Империю после 545 г. не упоминается. Достаточно надолго прекратились и набеги болгар, из чего можно сделать вывод, что анты исполняли условия договора с Юстинианом. Однако план заселения Турриса и превращения его в крупный антский центр, оплот союза с Империей, не осуществился. Где бы ни находился этот город, никаких следов его восстановления и антского проживания в нем не обнаружено. Единственный укрепленный центр антов этого времени, как уже говорилось, — городище Пастырское на огромном расстоянии от имперских границ. Срыв данной договоренности, скорее всего, и объясняется арестом Хильбуда. Воплощение антских условий в жизнь означало создание на границе Империи мощного «варварского» королевства, власть и армия которого формировались бы на основе римских традиций. Этого Империя позволить себе не могла, а антам без Хильбуда и приданной ему в подчинение ромейской помощи незачем было тратить силы на занятие Турриса и освоение его округи. Ближайшим следствием антско-ромейского союза явился набор антов в имперские вспомогательные части уже осенью того же 545 г., когда Хильбуд был захвачен по пути в Константинополь. Возможно, что именно этот суливший немалую награду набор возместил антам лишение самозванца свободы. Полководец Иоанн, посланный для этого из Италии на Балканы, привлек в свой тысячный отряд наряду с «гуннами» также три сотни антов. Они участвовали в военных действиях в Италии, при этом действовали достаточно самостоятельно, соблюдая верность Иоанну. Они оказали по его приказу помощь римлянину Туллиану в его борьбе с остготами в Лукании (547 г.). После же того, как готскому королю Тотиле удалось добиться распада крестьянского ополчения Туллиана, а сам он скрылся, анты по своей воле возвратились к бежавшему от Тотилы в Дриунт Иоанну. Позже, при разгроме того же года, Иоанна предали только «гуннские» воины — анты, следовательно, сохранили свою преданность.[475] Юстиниан даже и не надеялся обратить антов против словен. Ему было вполне ясно, что отношения между этими родственными племенами, будь то дружественные или враждебные, пока ему не подвластны. В выдвинутых им условиях не было ни слова о противодействии словенским набегам. Это делало союз антов с Империей во многом условным. Более того, договор антов с ромеями и прекращение гуннских набегов сокращали своеобразную конкуренцию среди нападавших на Империю «варваров» и превращали словен в единственных хозяев всего, что могло быть захвачено на правом берегу Дуная. Это, несомненно, придало энергии их набегам в последующие годы. Нападения на земли Империи теперь предпринимаются словенами самостоятельно, превращаются в масштабные предприятия, в которых задействованы силы целого племени или нескольких племен. Характерным следствием изменившейся ситуации является неоднократное упоминание словен без антов в перечнях врагов Империи.[476] Уже осенью 545 г., пока шли переговоры между Юстинианом и антами, «огромное полчище» словен вторглось во Фракию. Земли диоцеза вновь подверглись ограблению, «великое множество ромеев» попало в плен. В это время во Фракии находились герулы, призванные Нарсесом и оставленные им там на зимовку. Под предводительством своего герцога Филимута и ромейского военачальника Иоанна Фагаса герулы внезапно атаковали словен. Несмотря на значительное численное превосходство противника, союзники Империи одержали победу. Словене были перебиты, а их пленники — отпущены по домам.[477] Поражение 545 г. не остановило словен. Но оно побудило их перейти к более организованным вторжениям в южные земли. В начале 548 г. «войско» словен переправилось через Дунай в Иллирик. На этот раз словене совершили глубокий рейд в ромейские земли, дойдя до самого Диррахия (Эпидамна), приморского центра провинции Новый Эпир. Это был первый случай нападения словен организованным «войском» и столь глубокого их проникновения в земли Империи. При этом же набеге они впервые атаковали ромейские крепости. Страх перед «варварами» привел к тому, что защитники «считавшихся надежными» крепостей оставляли их словенам без сопротивления. Более того, военные трибуны Иллирика шли по следам словен с 15 тысячами войска, но не решались ударить по врагу. Судя по данным о других словенских вторжениях, их силы значительно превосходили словен числом. Они были велики даже по ромейским меркам. Ромейских стратигов, без сомнения, останавливала слава об умении словен нападать из засады и вести войну в горах. На пути к Эпидамну словене убивали или порабощали всех попадавшихся им взрослых, грабили страну. Диррахий, впрочем, они штурмовать не стали и вскоре безнаказанно вернулись за Дунай.[478] Этот набег стал грозным предупреждением для Империи, предвестием еще более серьезных потрясений. Первое нашествиеГотская война шла для Империи с переменным успехом. Предводитель остготов Тотила достаточно успешно противостоял императорским войскам. Умело действовал он против Юстиниана и на дипломатическом фронте. Ему удалось если и не склонить на свою сторону усилившихся за счет присоединения Бургундии и северных остготских провинций франков, то настроить их против Константинополя. Вестготы, не вступая в военные действия, вместе с тем не скрывали симпатий к родичам и единоверцам. Благоприятствовала Тотиле ситуация на Среднем Дунае. В третьей четверти VI в. здесь разгорелось острое соперничество за лидерство между двумя германскими королевствами — гепидов и лангобардов. Тесно связанные с Империей в религиозном и политическом плане, лангобарды добились поддержки Юстиниана. Гепиды в этих условиях не могли не ориентироваться на Тотилу. Хотя масштабной войны с Империей гепиды и избегали, столкновения их с ромейскими войсками происходили не раз. Борьбу между гепидами и лангобардами дополняли внутренние их распри. Король лангобардов Вак (ок. 500–539), стремясь обеспечить престол своему сыну Вальдару, изгнал из страны своего племянника Рисиульфа, а затем подстроил его убийство. Сын Рисиульфа, Ильдигис, нашел убежище у словен (граничивших с лангобардами, гепидами и остготами, то есть у богемских). Когда при Вальдаре (539–546) разразилась война между гепидами и лангобардами, Ильдигис со своими сторонниками-соплеменниками и союзными словенами объявился в королевстве гепидов. Гепиды выдвинули его своим претендентом на лангобардский престол. Однако после смерти Вальдара его опекун Авдуин (Эдвин) из рода Гаузов, вступив на трон, добился мирного соглашения с гепидами. По условиям договора 547 г. Ильдигис должен был быть выдан. Но гепиды не стали делать этого, напротив, позволили Ильдигису и его сторонникам вернуться в Богемию, прихватив с собой «некоторых добровольцев из гепидов». В 549 г. Ильдигис, уже с шеститысячным войском, пересек Дунай в охваченном анархией Норике и двинулся на юг. Шел он «к Тотиле и готам», то ли призванный ими как союзник, то ли сам надеясь попытать удачу в войне с Империей. Атаковав Венецию, Ильдигис нанес поражение ромейскому отряду под командованием Лазаря. Но по неясным до конца причинам развивать свой успех лангобардский принц не стал. Ильдигиса вроде бы подкупили ромеи (вскоре он на недолгое время объявился на службе Империи). Так или иначе, Ильдигис повернул назад и отступил в Богемию.[479] На фоне грандиозной борьбы за Италию для Империи это был небольшой и не самый драматичный эпизод. Вместе с тем, возможно, что именно он навел Тотилу на мысль использовать граничившую с Империей часть словен в своем противостоянии Юстиниану. Действительно, обстановка на дунайской границе складывалась для Империи не слишком благоприятно. Объективно здесь уже сформировался антиромейский фронт из гепидов, дунайских словен и болгар-кутригур. Что касается союзников Империи, то их поддержка была не слишком эффективной. Лангобарды отчасти сковывали силы гепидов, но и сами сковывались ими. Союз Империи с антами ограничивался борьбой с болгарами, тогда как главной угрозой на этом участке теперь становились словене. Кроме того, анты и лангобарды были связаны союзными договорами с Империей, но не друг с другом. Рациональный курс Константинополя, не содействовавшего установлению контактов между союзными «варварами», в конкретной ситуации оказался, как показали события, близоруким. Несомненно, весь этот военно-политический расклад был известен Тотиле. Потому нет оснований не доверять распространившейся в Константинополе информации, что Тотила установил со словенами прямые контакты. Подкупив их «большими деньгами», остготский король подбил их в очередной раз напасть на балканские провинции, «дабы император, отвлекшись на этих варваров, не смог удачно вести войну против готов».[480] Чтобы отвечать замыслам Тотилы, спровоцированное им вторжение должно было по масштабу отличаться от всех предыдущих. Это, несомненно, отвечало и интересам самих словен, стремившихся к захвату на ромейских землях как можно больших богатств и к занятию самих этих земель. Весной 550 г. примерно трехтысячное («не более чем в три тысячи») войско словен, не встретив сопротивления ромеев, переправилось через Дунай. Это был передовой отряд главных сил вторжений, еще готовившихся к переправе. Состоял он, судя по всему, в значительной части из членов воинских братств. Быстро продвигаясь на юг примерно по границе Фракии и Иллирика, словене переправились через Гебр (Марицу) где-то в ее верховьях, выше Филиппополя. Беспрепятственно внедрившись, таким образом, в глубь ромейской территории, войско разделилось надвое. Один отряд, по сведениям Прокопия, насчитывал 1800 человек, «в другой входили остальные». Известно, что один отряд обратился против Фракии, продолжив движение на юг, к Эгеиде. Другой отряд двинулся на запад, в Иллирик. Больше был именно фракийский отряд, о действиях которого у Прокопия вообще более определенные сведения. Дождавшись, пока словене удалятся друг от друга, военные трибуны провинций атаковали их со значительно превосходящими силами. Но обе группировки императорских войск потерпели сокрушительное поражение. Часть ромеев пала в бою, часть во главе с военачальниками бежала с поля боя. Движение фракийского отряда словен на юг создавало непосредственную угрозу центральным областям Империи. Из крепости Цурул, расположенной неподалеку от Константинополя, во главе многочисленного отряда всадников выступил для отражения словен императорский телохранитель («кандидат») Асвад. «Безо всякого труда», по словам Прокопия, словене одержали победу и обратили отборные части защитников столицы в паническое бегство. «Варвары» преследовали разгромленных врагов по пятам и в большинстве перебили их. У настигнутого и захваченного в плен Асвада нарезали из спины ремней, а затем, еще живого, сожгли, бросив в костер.[481] После разгрома высланных для противодействия им войск словене «безбоязненно» принялись разорять Фракию и Иллирик. При этом с момента вторжения они свирепо истребляли всех попадавшихся им людей без разбора пола и возраста, совершая над ними кровавые воинские ритуалы и бросая непогребенными тела. Прокопий описывает жестокости словен так: «очень крепко вбив в землю колья и сделав их весьма острыми, с большой силой насаживали на них несчастных… вкопав в землю на значительную глубину четыре толстых столба, привязывая к ним руки и ноги пленных, а потом непрерывно колотя их дубинами, варвары эти убивали… А иных они, запирая в сараях вместе с быками и овцами… безо всякой жалости сжигали».[482] Другие леденящие подробности сообщал писавший вскоре после того же страшного нашествия Псевдо-Кесарий: «словене с удовольствием поедают женские груди, когда наполнены молоком, а грудные младенцы разбиваются о камни…»[483] Кровавое восхваление богов войны и своих ратных доблестей словене умерили лишь после взятия Топира. Этот довольно крупный город был первым из встреченных ими городов приморской фракийской провинции Родопа (вообще первой значительной из взятого обоими отрядами «множества крепостей»?). Его штурму «варвары» придали некий сакральный смысл.[484] Словене подступили к Топиру, стоявшему неподалеку от моря на реке Коссинф и имевшему регулярный гарнизон, уже разграбив окрестности. Основная часть «варваров» укрылась в холмистой местности перед обращенными к востоку городскими воротами, где высокий отвесный холм поднимался над городской стеной. Небольшой отряд словен появился в виду ворот и принялся «беспокоить ромеев у зубцов». Решив, что число нападающих невелико, ромейские солдаты всем гарнизоном предприняли вылазку и атаковали их. Словене обратились в притворное бегство. Когда ромеи отдалились от городской стены, в тыл им ударила, отрезая путь к городу, вражеская засада. Спереди на них напали преследуемые «варвары». Весь гарнизон пал, и словене ринулись на штурм. Жители города упорно оборонялись, используя камни, кипящее масло и смолу. Некоторое время им удавалось отражать натиск. Но, в конце концов, словене, используя упомянутый высокий холм, согнали защитников со стены стрелами, а затем взобрались на ее гребень по лестницам. Топир пал. Именно тогда словене впервые за время нашествия взяли пленников — всех женщин и детей. Но мужское население Топира (15 тысяч человек, по оценке Прокопия) было перебито.[485] После взятия Топира и фракийский, и иллирийский отряды словен продолжали разорять ромейские земли. Враг находился в 12 днях пути от столицы Империи. Словене осадили и взяли, как уже говорилось, «множество крепостей», захватили «бессчетные тысячи пленных».[486] Масштабы опустошения, причиненного даже этими, сравнительно небольшими, силами словен европейским землям Империи, были значительны. Тем не менее словенское нашествие пока не добилось главной своей (с точки зрения Тотилы) цели — не остановило переправки новых сил в Италию. Летом 550 г. Герман Аниций, назначенный новым командующим италийской армией, невзирая на действия словен, приступил во Фракии и Иллирике к набору войск. К переброске в Италию готовилась часть расквартированной во Фракии конницы. Явились герульские герцоги и тысяча воинов от лангобардского короля. Громкая слава Германа, прежнего победителя антов, привлекла к нему и «варваров, которые обретались около реки Истр». Основную часть их, без сомнения, составляли союзные теперь Империи анты и часто нанимавшиеся ей на службу болгары. Но, должно быть, Герману удалось перетянуть к себе и кое-кого из дунайских словен, готовящихся у Дуная к вторжению в ромейские пределы.[487] Герман еще находился в Сардике, центре Внутренней Дакии и одной из главных ромейских баз в Иллирике, когда основные словенские силы пересекли Дунай к северо-западу оттуда, в районе Наисса. Прокопий характеризует их как «полчище склавинов, какого еще не бывало». Следовательно, они превосходили числом отряд, вторгшийся весной, несмотря на то что кто-то из словен поддался на призывы Германа. Цель словен была под стать масштабу нашествия — «осадой захватить Фессалонику и окрестные города». Таким образом, действия словенского авангарда лишь расчищали поле для осуществления этого грандиозного военного замысла. Ромеям удалось захватить в плен нескольких словен, «разбредшихся из лагеря и поодиночке блуждавших и круживших по тамошним местам». Узнав благодаря этому о замыслах «варваров», Юстиниан встревожился. Он «сразу написал Герману, чтобы тот в данный момент отложил поход в Италию, но встал бы на защиту Фессалоники и других городов и всеми силами отразил нападение склавинов». На фоне их прежних успехов завоевание второго по значимости города Балкан не выглядело фантастичным. План Тотилы оказался чрезвычайно близок к успеху. Но готский король не мог учесть славы Германа среди придунайских «варваров». Узнав, в свою очередь, от захваченных в плен ромеев о том, что Герман медлит в Сардике, словене «пришли в ужас». Зная о наборе войск против Тотилы и не желая иметь дело с приготовленной для Готской войны армией, словене отказались от своего первоначального замысла. Они не стали соединяться с действовавшими, судя по всему, не очень далеко от Фессалоники силами авангарда. Оставшись в иллирийских горах, они ушли дальше на северо-запад, в принадлежавшую прежде остготам, а теперь ничейную гористую Далмацию.[488] Герман стал готовиться к отбытию в Италию. Но повести туда войско ему было не суждено. Внезапно ромейский полководец умер. Его войско выступило под командованием Иоанна, занимавшего тогда пост magister militum Иллирика. Двигаясь по суше через ту же Далмацию, оно осталось на зимовку в ее крупнейшем городе — Салоне. В столкновения со словенами ромеи не вступали. Между тем все три отряда словен остались зимовать на землях Империи, «будто в собственной стране и не боясь никакой опасности». Это была первая зимовка вторгавшихся словен в балканских провинциях[489] (не считая Скифии). Судя по всему, к «варварам» подходили подкрепления из-за Дуная. Осенью 550 — весной 551 г. словене «совершенно беспрепятственно разоряли державу ромеев», «сотворили ужасное зло по всей Европе». При этом они по-прежнему действовали тремя частями — два отряда в Иллирике (один вернулся из Далмации с прибытием туда императорской армии; другой, меньший, действовал где-то в Македонии) и один во Фракии. Весной 551 г. против фракийского отряда словен Юстиниан выслал большое войско под командованием евнуха Схоластика с участием ряда видных ромейских полководцев — Константиана, Аратия, Назара, Юстина (сына Германа), Иоанна Фагаса. К этому времени «варвары» уже опасно приблизились к столице и находились в окрестностях Адрианополя (5 дней пути до Константинополя). Но огромная добыча сдерживала дальнейшее продвижение словен и, наткнувшись на готовые к бою императорские войска, они встали лагерем на возвышавшейся над противником горе. Невыгоды местности заставляли ромейских полководцев медлить. Это вызвало недовольство в их войсках, тем более что ведшиеся словенами приготовления к бою остались скрыты от ромеев. В конце концов, изведенные «сидением» и особенно нехваткой припасов солдаты стали роптать. Опасаясь бунта, военачальники вступили в бой с врагом — и потерпели сокрушительное поражение. «Многие лучшие воины» погибли, «полководцы, едва не попав в руки неприятеля, насилу спаслись с остатками, бежав куда кто мог». Словенам досталось знамя Константиана. Поражение при Адрианополе действительно оказалось тяжелым ударом для Империи. Но и словенам оно вскружило голову. «Проникшись презрением к ромейскому войску», они двинулись дальше. Сперва «варвары» действительно не встречали сопротивления. Разграбив Астику — прежде не опустошавшуюся «варварами» центральную область диоцеза Фракия, они вновь повернули к Константинополю. Едва ли они рассчитывали захватить столицу Империи. Даже для захвата фракийских городов у них явно не хватало сил. Пленники, сопровождавшие словен, намного превосходили их числом, и любое крупное сражение стало бы угрозой для «варваров». Но в дне пути от столицы — у ее внешнего оборонительного рубежа, Длинных Стен, словене появились. В этом районе на них (точнее, на «какую-то их часть» — на арьергард, где находились пленные и трофеи) и напало ромейское войско, шедшее за ними по пятам. Словене, застигнутые внезапно, были разгромлены, многие перебиты. Была спасена «масса ромейских пленных», а вместе с ними — знамя, позорно потерянное Константианом.[490] Это поражение окончательно остудило пыл словенских предводителей. Надежды на захват богатых и крупных городов рушились. О занятии какой-либо части ромейской территории не могло быть и речи. Важно теперь было сохранить уцелевшую часть добычи. После разгрома у Длинных Стен два словенских отряда — фракийский и первый (южный) из действовавших в Иллирике — ушли за Дунай, угоняя многочисленный полон и унося все еще богатую добычу.[491] Однако нашествие отнюдь еще не закончилось. Главные и наиболее мощные силы словен («огромное полчище») продолжали оставаться в Иллирике.[492] Борьбу с ними осложнило то, что в начале лета 551 г. по следам словен во Фракию вторглись кутригуры. Анты не стали препятствовать этому вторжению, поскольку через их зону ответственности болгары шли вовсе не в ромейские земли — их призвали гепиды в качестве наемного войска для борьбы с лангобардами. Не желая кормить за свой счет кочевников до окончания (в 552 г.) перемирия с соседями, гепиды натравили их на Империю. Именно тогда Юстиниан впервые привлек к борьбе с кутригурами утигурского хана Сандилха. Справившись с «гуннским» вторжением, император послал осенью 551 г. войско в Иллирик, против чинивших там «неописуемые беды» словен. Верховное командование этой армией осуществляли сыновья Германа Юстин и Юстиниан. Последний для этой цели был отозван из Далмации, где стоял вместе с Иоанном, ожидая подхода нового командующего италийской армией Нарсеса, задержанного кутригурским нашествием. На этот раз, однако, ромейское войско значительно уступало противнику числом. Следует помнить, что здесь ромеи имели дело с главными силами вторжения, должно быть, еще и пополнившимися новыми отрядами из-за Дуная. Императорские войска применили уже не раз использованную тактику. Следуя по пятам за словенами, они беспокоили их арьергард, убивая и захватывая в плен отстающих. Это позволяло сохранить ромейское войско, но, ввиду многочисленности «варваров», не повлияло на общий ход событий. Словене, «проведя в таком разбое значительное время, заполнили все дороги трупами и, поработив бессчетное множество и разграбив все, со всей добычей вернулись домой». В Константинополе надеялись перехватить нагруженных добычей «варваров» при переправе обратно за Дунай. Но этот замысел сорвался. Словене не стали возвращаться в район прежней переправы, а сговорились с гепидами. Те переправили их за огромную сумму денег — «за каждую голову… по золотому статиру» — на свою территорию. Оттуда словене уже безболезненно вернулись в свои земли.[493] Первое массовое словенское нашествие за Дунай явилось своеобразным рубежом в истории противостояния с Империей. С этого времени словене представляют уже могучую и самостоятельную опасность на ее границах, нередко создающую угрозу самому существованию Второго Рима. Глава третья. Славянский северКривичиВ V в. на северо-западе будущей Руси появляются первые памятники археологической культуры длинных курганов. Большинство специалистов аргументировано связывает эту культуру со славянским племенным союзом кривичей, упоминаемым в русских летописях. Ареал распространения длинных курганов совпадает с летописным ареалом кривичей, включавшим Смоленскую, Полоцкую и Псковскую земли.[494] На основании радиоуглеродного метода одно из наиболее периферийных, удаленных на север поселений кривичей (Варшавский шлюз III в Белозерье) датируется первой половиной V в.[495] Можно заключить, что расселение кривичей происходило в весьма раннее время, независимо от распространения других славянских культур. Вместе с тем характерные черты культуры кривичей однозначно указывают на далеко не полную их изоляцию от сородичей. Предки кривичей ушли на север очень рано, под натиском гуннов в конце IV — начале V в. Особые черты их материальной культуры сложились, как увидим, на месте. Не исключено, что в заселении севера участвовали группы славян разного происхождения, приходившие разными путями.[496] Согласно «Повести временных лет», первой из относимых к кривичам групп на местах своего обитания появились полочане, жители Подвинья: «иные [славяне] сели на Двине и нареклись полочане, — речки ради, что течет в Двину, именем Полота».[497] От них, как говорится позже, пошли и смоленские (верхнеднепровские) кривичи.[498] Но при этом киевский летописец вовсе не говорит о псковско-изборских кривичах. Между тем огромное значение округи Пскова и Изборска для кривичской истории подтверждается и письменными источниками, и археологическим материалом.[499] Вместе с тем представляется более чем вероятным, что сперва кривичи пришли все-таки на территорию современной Белоруссии. В то время ее земли населялись восточными балтами (археологическая культура Тушемли-Банцеровщины). Двигаясь вдоль речных артерий к северу от Припяти, славяне в первой трети V в. появились в Верхнем (Могилевском) Поднепровье. В этой порубежной между колочинцами и тушемлинцами зоне новые пришельцы сперва и осели. Славяне, судя по всему, являлись последними обитателями древнего поселения Абидня. В трех километрах севернее славянские жилища появились на колочинском поселении Тайманово.[500] Где-то речь шла о вытеснении местных жителей, где-то — о мирном совместном существовании. Две славянских полуземлянки обнаружены западнее, на Нижней Березине, на колочинском селище Щатково.[501] Это уже явное свидетельство мирного сосуществования немногочисленных славян с балтами.  Славянские курганы Именно двигаясь вверх по Березине, славяне попали в верховья Вилии. Здесь имеется ряд тушемлинских поселений VI–VII вв. с ярко выраженными славянскими чертами. Особенно много славян жило на поселении Дедиловичи, домостроительство которого несет черты явно славянские. Здесь мы имеем дело с силовым «подселением», известным нам по пеньковско-колочинским материалам. Славяне брали в жены балтских женщин, о чем свидетельствует керамический материал (исключительно тушемлинская посуда).[502] Вместе с тем более типичным в этот период и в этом регионе являлось мирное сосуществование славян и балтов на одних поселениях. Поселение Городище характеризовалось смешением славян (составлявших до трети его населения) и балтов.[503] Поблизости, на селище Ревячки, также выявлено сочетание балтских и славянских приемов домостроительства. Славяне принесли в регион, заселенный тушемлинскими племенами, ряд новых элементов быта, воспринятых отчасти местными жителями (каменные жернова, ритуальные железные ножи и др.).[504] Это отражает процесс длительного взаимодействия двух этнических элементов в Днепро-Двинском регионе. С Верхнего Днепра славяне, предки кривичей, еще в первой половине V в. попали в верховья Ловати. Эти земли, малонаселенная северная периферия тушемлинской культуры, и стали базой для дальнейшего славянского расселения. Здесь обнаружен один из древнейших длинных курганов (Полибино), инвентарь которого надежно отнесен к V в.[505] Здесь же находится селище Жабино, характеризующееся совместным проживанием славянского (культуры длинных курганов) и тушемлинского населения.[506] Из этого региона происходило расселение кривичей на север, в редконаселенные земли будущей Псковско-Новгородской земли. Местными жителями здесь были уже не балты, а прибалтийские финны. Их самоназвание отразилось в современном этнониме сету (близкая эстонцам группа в псковской округе) и в древнерусском обозначении прибалтийских финнов «чудь». Основным для движения славян являлось направление вниз по реке Великой и далее по обоим берегам сообщающихся Псковского и Чудского озер. В ходе этого расселения они еще в начале VI в. достигли южной части бассейна реки Эмайыга на западном берегу, а на восточном берегу — реки Желчи.[507] Отдельные группы кривичей в V — начале VI в. удалялись на восток от основного массива — в верховья Луги (Замошье) и даже за Ильмень, до Белозерья (Варшавский Шлюз, Усть-Белая).[508] Крупнейшим центром славянского расселения в регионе стало на том этапе Псковское городище (тогда еще неукрепленное). Здесь жили и пришлые славяне, и, в несколько большем числе, коренные жители — «чудь».[509] Совместное проживание и взаимное смешение славян и прибалтийских финнов в этих землях подтверждается также инвентарем и керамикой из самих длинных курганов.[510] Отношения между двумя одинаково пока немногочисленными группами населения складывались по преимуществу мирно. Псков (древнейшее славянское название — Плесков, «город на плесе [открытой части реки]») являлся общим племенным центром «чуди» и поселившихся бок о бок с ней кривичей. Находки на Псковском городище (в славянских жилищах) сосудов тушемлинского типа свидетельствуют о приходе с мужьями-славянами некоторого числа балтских женщин. Таким образом, расселившись на балтских и прибалтийско-финских землях, кривичи вступили в отношения своеобразного симбиоза с аборигенами. В землях «чуди» этот симбиоз носил более мирные формы. Однако и балтские племена установили со временем мирные контакты с пришельцами-славянами. О длительном взаимодействии кривичей с балтами (не только восточными), в том числе и после прихода на Псковщину, свидетельствует латышское название русских — krievs.[511] Интерес представляет название племенного союза — кривичи. Оно произведено от личного имени «Крив». Последнее может быть понято как противопоставление эпитету бога Перуна («Правый»[512]). Таким образом, «Крив» вполне может относиться к богу Велесу, антагонисту Перуна в славянском «основном мифе». Уже говорилось о возможном «велесическом» характере праславянской религии, особенно на северной периферии. 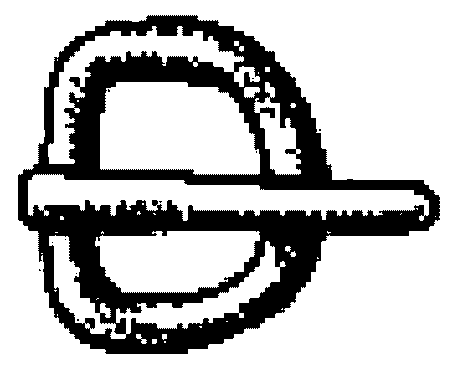 Пряжка. Культура длинных курганов В мифологических и родословных преданиях белорусов, потомков кривичей-полочан, имя героя-первопредка — Бай (Бой). В мифе о сотворении мира Бай предстает как первый человек. Один из его сыновей, Белополь, — предок белорусов. Гигантские псы отца — Ставра и Гавра — помогают Белополю определить границы своих владений, прорыв реки Двину и Днепр.[513] Согласно другому преданию, Бай — древний князь, живший в Краснополье близ Дриссы (на Витебщине). Вместе со своими псами Ставрой и Гаврой он охотился по местным «густым лесам». От нескольких жен Бай имел сыновей — предков отдельных белорусских фамилий. Старший из них — Бойко (Белополь, в отличие от более позднего текста, не упоминается среди них вовсе).[514] Третье предание также помещает Бая (здесь — Бой) в Краснополье над рекой Дриссой. Бой — князь-богатырь, охотящийся в лесах по Дриссе со Ставрой и Гаврой. Псы одолевали любого зверя и защищали князя от разбойников. Бой установил поклонение им наравне с «важнейшими особами», а после смерти ввел дни их поминовения («Ставрусские деды»; обряд известен и на Минщине).[515] Смысл этого древнего праздника поминовения мертвых позволяет увидеть в Бае божество загробного мира в сопровождении демонических псов (подобно индийскому Яме). Первоисточник имени «Бай» — балтский, как и имен псов.[516] Литовское bajus ‘страшный’ может быть осмыслено как эпитет балтского бога подземного мира Велса, антагониста громовержца Перконса. В датской хронике Саксона Грамматика действует «русский» князь Бой, отождествленный со скандинавским богом Вали, сыном Одина и Ринды (последняя переосмыслена Саксоном как «русская княжна»). Предание приурочено к известному на Руси кургану павшего в битве Боя.[517] Один-Валль (заметим, «кривой», одноглазый) генетически родствен Велесу и Велсу, и это тождество могло быть осознано скандинавом, столкнувшимся с русским преданием. В этом предании, как и в одной из позднейших белорусских версий, первый князь (Бой, ср. Бойко) выступал как сын божества (Бая, Велеса). Стоит заметить, что и в другом скандинавском памятнике — «Саге о Хёрвер» — правителям Руси приписывается «одиническое» происхождение. Не след ли это тех же легенд, восходящий к самым ранним контактам норманнов и кривичей? Выстраивается цепь тождеств: Крив — Бай — Велес (балтский Велс). Кривичи возводили себя к Велесу (в ходе контактов с балтами славянский бог естественным образом отождествился с Велсом-Баем) и воздавали ему особое поклонение. Его имя табуировалось. Вожди союза являлись верховными жрецами Велеса и особо возводили к нему свой род, а быть может, и считались его земными воплощениями (ср. образы князя Боя и Бая). Представляется также, что балтское по происхождению имя «Бай» заместило в славянском предании исконное, славянское «Крив» — древний эпитет Велеса. Материальная и духовная культура кривичей формировалась в условиях тесного контакта и совместного проживания с финскими и отчасти балтскими племенами.[518] Вместе с тем славянская основа сохранялась. Это ярко отражается находками керамики славянских типов и других вещей славянского происхождения по всему ареалу расселения кривичей.[519] Некоторые элементы славянской культуры, как отмечалось, воспринимались и теми племенами, с которыми кривичи вступали в контакт. Проникновение культур носило взаимный характер. Славянские традиции сохраняются в домостроительстве. Расселяясь в землях днепро-двинских балтов, славяне строили здесь не встречающиеся у местных жителей полуземлянки с печами-каменками в углу. Такие жилища встречены на поселениях Абидня, Тайманово, Щатково, Дедиловичи, Городище. С учетом местных климатических условий, а возможно, и под влиянием местных домостроительных традиций, кривичи стали возводить наземные дома срубной (не столбовой, преобладавшей у балтов) конструкции. Такие дома строились на селищах Дедиловичи, Городище, Жабино, Псковском и др. На Псковском наземные срубные дома сохраняют элементы полуземляночного облика, но углубления их наклонны (площадь внизу — до 9 м2). В тушемлинском ареале имеются дома, сочетающие элементы славянского и балтского домостроительства (Дедиловичи, Городище, Ревячки).[520] В целом занятия и быт кривичей, насколько можно судить, мало отличались от занятий и быта других славянских племен. Сравнительно большую роль играли у кривичей охота и рыбная ловля. Но основными занятиями оставались (как, впрочем, и у неславянских соседей) подсечное земледелие и скотоводство. Судя по найденному железному серпу (Полибино), орудия земледельческого труда у кривичей были несколько архаичнее, чем на юге.[521] Славяне принесли на север каменные жернова, которые начинают вытеснять применявшиеся ранее балтами каменные зернотерки.[522] Характерным, определяющим культуру кривичей элементом является обряд захоронения в длинных валообразных курганах высотой до 2 м и шириной до 10. В длину курганы кривичей достигали 300 м и более.[523] Такие курганные захоронения не имеют аналогов у славян других земель. По мнению археологов, у самих кривичей им предшествовал бескурганный обряд захоронения. Они помещали сожженные останки умерших в неглубоких ямках, вырытых на погребальных площадках. Некоторые курганы были возведены над такими площадками. Перейти к курганному обряду побудили особенности местности — возможно, для сооружения площадок требовались естественные всхолмления, тогда как новые места проживания кривичей нередко отличаются равнинностью. Возможно также, что при захоронениях в грунт требовалось соблюдать некую иерархичность, средством соблюдения которой и стало возведение курганов.[524] Похоронный обряд имел некоторые вариации (в том числе в рамках одной большой семьи, строившей длинный курган). Сожжение в этот период всегда совершалось на стороне. Встречаются захоронения урновые (в Псковской земле не более 20 %) и безурновые, с инвентарем и без него. Урны могли изготавливаться не только из глины, но и из древесных материалов (береста, древесина). Захоронение могло совершаться на материке (при строительстве кургана), на выровненной площадке насыпи, в ямах или неглубоких ямках (до 50 % всех погребений) в уже насыпанном кургане, оставляться на поверхности кургана. Длинные насыпи окружались рвами, в которых часто разводили ритуальные костры.[525] В некоторых курганах Псковщины встречены каменные конструкции (обкладка основания, покрытие, надгробные плиты и ограждение и др.). Они связываются с прибалтийско-финским или балтским влиянием.[526] Наличие в ряде погребений уже V — начала VI в. довольно богатого инвентаря свидетельствует о идущем в кривичском обществе процессе расслоения. Сами же длинные курганы, вне всякого сомнения, являются порождением племенного строя. Это коллективные усыпальницы больших семей, использовавшиеся на протяжении довольно долгого времени. Число захоронений в одном кургане достигает 22.[527] В политическом плане кривичи в описываемый период представляли собой сообщество слабо связанных и расселившихся на огромной территории, в иноязычном окружении патронимий и общин. Как правило, они вообще не создавали собственных поселений, а селились вместе с балтами и финнами. При этом, разумеется, кривичей изначально сплачивало сознание общего происхождения. Нельзя исключить вероятности существования некоего общего сакрального центра или авторитета, сакрального вождя, считавшегося верховным жрецом бога-предка. Однако в первой половине VI в. число кривичей было еще очень невелико, жили они разбросанно и чересполосно с аборигенным населением. Кривичского племенного союза как самостоятельной политической единицы, вероятнее всего, пока не существовало. Венедская проблемаИордан, передавая сведения Кассиодора о современном состоянии славянских («венетских», в его терминологии) племен, недвусмысленно сообщает о существовании трех их ветвей. Вот этот фрагмент: «Они же [венеты]… произойдя из одного корня, породили три народа, то есть венетов, антов и славян…»[528] Венетов Иордана надо искать там же, где помещали своих венедов античные авторы, то есть к югу от Балтики. В достоверно известных ромеям славянских землях для венетов просто не остается места. Едва ли Иордан, говоря о том, что потомки древних венедов «свирепствуют всюду, по грехам нашим», мог иметь в виду кого-то помимо разорявших Империю словен и антов. Кроме того, именно на севере помещаются единственные ясные следы бытования этнонима «венеды», ведущие в Раннее Средневековье. Германцы называли виндами полабских славян. В прибалтийско-финских языках именем восточных славян стало Vana. Однако эти скудные данные вступают, на первый взгляд, в острое противоречие с археологическим материалом. Следов пребывания славян в Южной Прибалтике в конце V — первой половине VI в. нет. Более того, нет вообще подтверждений тому, что области между Вислой и Одером к югу от Балтийского моря были в ту пору сколько-нибудь плотно заселены. Уже говорилось, что массовое расселение славян на землях современной Польши датируется только второй половиной VI столетия. То же самое относится и к нынешней территории Восточной Германии между Одером и Эльбой, где помещаются винды средневековых латинских авторов.[529] Итак, если за пределами Южной Прибалтики для венедов Иордана места как будто не находится, то нет его и в самой Южной Прибалтике. Однако на другой чаше весов остается целый ряд косвенных свидетельств, необъяснимых без признания историчности свидетельства Иордана. Одно из них — само бытование этнонима «винды», «венеды». Если у германцев именования славян «виндами» или «вендами» могло восходить к каким-то преданиям, то финское название может восходить только к собственно славянскому словоупотреблению. Само же это словоупотребление надежно датируется временем не раньше VI–VII вв., когда славяне широко расселились близ границ будущего Эстланда, в Новгородской земле. Итак, какая-то группа северных славян еще в VI или VII в. сохраняла древнее имя «венеды». Археологическая культура поморских и полабских славян VI и последующих веков стоит в стороне от известных славянских культур — как от пеньковской, так и от географически близкой пражско-корчакской. По своим базовым особенностям она не может быть возведена к ним.[530] Еще четче выявляется обособленность славян полабско-поморского региона и Новгородчины по данным антропологии.[531] Таким образом, данные Кассиодора — Иордана о трех группах славянских племен все-таки находят свое подтверждение в археологическом материале, хотя и не для времен Кассиодора. Среди археологических памятников «предславянского» периода на территории Польши можно выделить группу памятников второй половины V или даже начала VI в., определяемых как позднейшие пшеворские. Об одной их части (в Висло-Одерском междуречье) уже шла речь в связи с первоначальным расселением пражских племен в южнопольских областях. Другая часть подобных же памятников обнаруживается на северо-востоке Польши, на приморских землях в низовьях Вислы и к востоку от нее (поселение Чехово, могильники Прущ Гданьский и Козлувка).[532] 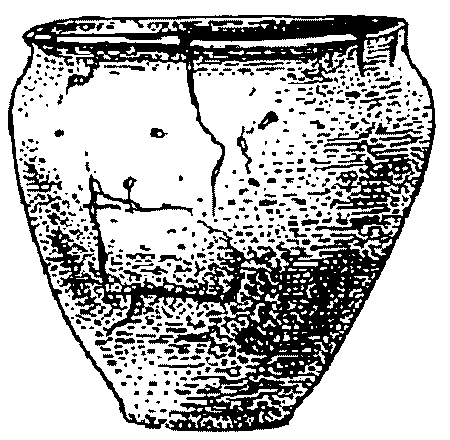 Суковско-дзедзицкий сосуд Сравнительно немногочисленное население низовий Вислы было достаточно пестрым в этническом плане. Не вызывает сомнений присутствие здесь балтского и германского элемента. Здесь, по Кассиодору, жило смешанное по происхождению (преимущественно германское?) племя видивариев. В этих же местах Птолемей называет восточных соседей венедов — вельтов, почти несомненных предков славян-велетов. Вельтов можно оценивать и как балтославянское, и как балтское племя. Местные разноплеменные группы могли составлять упомянутый в «Гетике» пестрый по этническому происхождении союз видивариев. Но едва ли можно ставить знак равенства между венедами Иордана, с одной стороны, и велетами или тем более видивариями — с другой. Позднейшие источники четко различают, даже противопоставляют велетов (вильцев) и ободритов (ободричей). Между тем ободриты, вне всякого сомнения, относились к венедам. Именно они, насколько можно судить, явились главными «разносчиками» этнонима. Франки и скандинавы называли «вендами», в первую очередь, ободритов. Более того, с велетами позже связывается особая, фельдбергская археологическая культура, изначально имеющая мало общего с «венедской» суковско-дзедзицкой. Следует признать, что велеты не были ни основной, ни составной частью венедов Иордана. В последнее время все больше фактов свидетельствует в пользу существования первоначального суковско-дзедзицкого очага южнее, на землях Великой Польши. Формирование суковско-дзедзицкой культуры здесь, по этой теории, началось уже в V — первой половине VI в. К этому древнейшему периоду отнесен теперь целый ряд памятников между средними течениями Вислы и Одера (поселения Бониково, Бискупин, Жуковицы). Основой для складывания материальной культуры их жителей стали местные пшеворские древности.[533] Суковско-дзедзицкая культура восходила с пражской к общей основе. Это объясняет, например, известное сходство (но при заметных различиях) керамического материала. Но в создании суковско-дзедзицкой культуры участвовали не только праславяне («венеды»), но и местные германцы. Ясно, что первые «суковцы» были весьма немногочисленны. Это только ускоряло смешение разных «родов». Такой подход гораздо логичнее объясняет картину расселения «суковских» племен, чем традиционное для польской археологии рассмотрение памятников Великой Польши и Силезии в рамках пражской культуры. С другой стороны, данная теория окончательно решает «венедскую» проблему. Если «венеды» жили в тот период южнее Поморья, то ясно, откуда о них было известно Иордану. Ясно также, что нет нужды смешивать их ни с видивариями, ни с велетами. Скорее всего, венеды V — первой половины VI в. не представляли собой какого-либо политического единства. Жили они вперемешку с другими этническими группами, причем крайне разбросанно, на больших расстояниях друг от друга, среди лесных массивов. Сообщение между отдельными племенами или даже общинами было затруднено, если вообще существовало. С другой стороны, это не исключает, конечно, вовсе внешних контактов. О них свидетельствует и археологический материал, и сам факт свидетельства Иордана. О северных венедах неплохо знали расселившиеся в Южной Польше словене. Материальная культура суковско-дзедзицких племен в этот период только складывалась, все больше удаляясь от пшеворского прототипа. На протяжении V — первой половины VI в. на землях Великой Польши шел сложный процесс формирования новой культурной общности из различных — праславянских и германских элементов. Завершился он уже во второй половине VI столетия в условиях широкого расселения славян из южных областей по территории современной Польши и Восточной Германии. 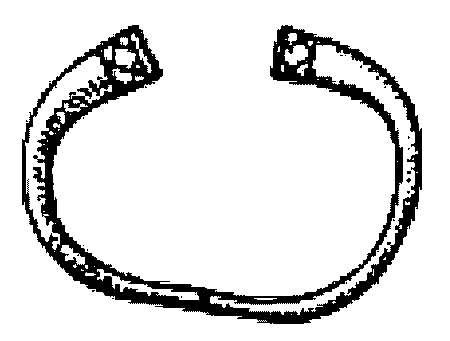 Браслет. Суковско-дзедзицкая культура Недостаток сведений о славянских племенных союзах Севера за V — первую половину VI в. объясняется удаленностью населенных ими земель от центров тогдашней цивилизации. Сравнительная же немногочисленность славян в этих регионах обусловила скудость и археологического материала. Тем не менее имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют сделать вывод о начале складывания известных нам племен северо-востока Европы уже на самом раннем этапе истории средневекового славянства. Часть 2Глава первая. Приход аварСлавяне в 550-е ггОсенью 551 г. последние отряды мощного словенского нашествия покинули пределы Империи Ромеев. Главным результатом событий для словен, помимо демонстрации силы и богатой добычи, стал оформленный союз с гепидами, которые за долю в добыче согласились переправлять возвращающихся словен на левобережье Дуная. Уже весной 552 г. какое-то из словенских племен Подунавья удачно повторило опыт. На этот раз вторгшийся отряд был невелик и не учинил слишком большого разорения. Прокопий говорит лишь о «некоторых из склавинов» и не сообщает об их бесчинствах. Война 550–551 гг. все же основательно ослабила дунайский племенной союз. Несомненно, что в ней были задействованы почти все его боеспособные силы. Так или иначе, причинив ромеям определенный «вред», словене безнаказанно вернулись за Дунай при помощи гепидов.[534] Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения императора Юстиниана. Сразу после славянского нашествия, в конце 551 г., он вступил с гепидами в переговоры — целью которых, в первую очередь, было предотвратить их содействие словенам впредь. В 552 г. истекал срок перемирия между гепидами и их соседями, лангобардами, союзниками Империи. Так что Юстиниан, используя лангобардов как фактор давления, имел все основания рассчитывать на успех. Успех, по видимости, был достигнут. Гепиды сами предложили Империи союз, и их послы заключили в Константинополе соответствующий договор.[535] Но — как мы уже видели — сразу после заключения договор гепидами был нарушен. Причины этого неясны. Неясно даже, с ведома ли гепидского короля его подданные польстились на словенское вознаграждение. Но узнав о происшедшем, Юстиниан разорвал только что заключенный союз с гепидами и послал войско в помощь королю лангобардов Авдуину.[536] Войско Юстиниана (за исключением небольшого отряда во главе с шурином Авдуина, тюрингским принцем Амалафридом) не приняло участия в войне, будучи задержано внутренними смутами в Империи. Авдуину это не помешало одержать победу над гепидами и отправить победную, хотя не лишенную попреков, реляцию в Константинополь.[537] Одна демонстрация ромейской силы вкупе с сильным поражением подействовала на гепидов достаточно сильно. Больше об их помощи словенам ничего не сообщается. Вся международная обстановка менялась не в пользу врагов Империи. В 552 г. в Италии был разгромлен и погиб остготский король Тотила, самый талантливый и упорный из противников Юстиниана. В начале следующего года, когда в битве у Везувия пал последний король Тейя, государство остготов прекратило свое существование. За их наследство развернулась борьба между ромеями и франками. Но в 555 г. полководцы Империи разбили в войне за Италию и франков. Серьезных врагов в Европе у Юстиниана не осталось. Он получил возможность сосредоточить внимание на восточной, персидской границе. Победы ромейского оружия, вне всякого сомнения, сразу становились известны «варварам» к северу от Дуная. Гибель Тотилы, чья неуемная энергия втянула в противоборство готов с Империей и придунайские племена, не могла не вселить уныние в его союзников. Скорее всего, это стало одной из причин временного затишья на дунайской границе после 552 г. Надо иметь в виду, что с точки зрения самих словен цель их борьбы с Империей вовсе не была достигнута, несмотря на мощные усилия 550–551 гг. Не была захвачена не только Фессалоника, но вообще ни один из действительно богатых южных городов. Словенам не удалось ни расселиться к югу от Дуная, ни существенно ослабить саму Империю. Успехи Юстиниана в Италии и Паннонии продемонстрировали это достаточно ясно. Большая часть соседей дунайских словен была либо союзна Константинополю (анты, лангобарды), либо искала такого союза (гепиды). К тому же Юстиниан именно после нашествия 550–551 гг. принял меры по укреплению границы в Иллирике. В частности, были отстроены заново крепости Паластол и Сикивиды (последняя — в Олтении, на левом берегу Дуная). Император, «отстроив их, обуздал набеги тамошних варваров».[538] Под «варварами», вполне вероятно, имеются в виду именно словене, проникавшие уже небольшими группами в земли к западу от Олта. Примерно в этих местах, где в первой четверти VI в. их еще не было, словене и переправлялись через Дунай во время предшествующих нападений. Итак, словенские набеги временно прекратились. После 552 г. ни об одном источнике не упоминают — вплоть до 559 г. Ни разу не упомянуты словене в качестве врагов Империи в труде продолжателя Прокопия, Агафия Миринейского. Вообще, единственное упоминание «склава» в его труде — эпизод со словенином Сваруной, отличившимся в бою во время кавказской войны 555–556 гг.[539] В той же кампании против персов и их союзников участвовал как один из полководцев ант Дабрагез с сыном Леонтием.[540] Очевидно, что он не был единственным антом, а Сваруна — единственным словенином в ромейской армии. Анты являлись союзниками Империи уже более десятилетия, и предоставляли ей — за щедрую плату — военную помощь. С установлением же относительно мирных отношений между словенами и Империей, естественно, возросло и число словен, служивших наемниками в имперской армии. В то же время из источников явствует, что словене никакого формального договора с Юстинианом не заключали. Упоминаний об этом нет, и позже, когда набеги возобновились, ни один греческий автор не упрекнул словен в нарушении какого-либо договора. Прокопий уже после болгарского нашествия 559 г. писал о болгарах и словенах: их «обычай — и вести войну, не будучи побужденными причиной, и не объявлять через посольство, и прекращать без всяких соглашений, и не заключать перемирия на определенное время, но начинать без повода и заканчивать одним оружием».[541] Возможно, впрочем, что сам Юстиниан, удовлетворенный договором с антами и устрашением гепидов, не желал вступать в переговоры еще и со словенами — тем более что набеги прекратились и без этого. Каждый «союз» с «варварами» недешево обходился императорской казне и возбуждал недовольство оппозиции. К ней, кстати, еще в начале 550-х гг. принадлежал и Прокопий, резко отзывавшийся о практике договоров с «варварами». С другой стороны, разгром остготского королевства открывал славянам другие направления для расселения. В результате Готской войны в самом центре Европы образовалось обширное пространство «ничейной», в значительной степени опустошенной земли. Юстиниан смог установить действенный контроль лишь над Италией и прибрежной полосой Далмации, где сохранялось многочисленное романское население. Северные же области остготского королевства — бывшие римские провинции Реция и Норик — какое-то время не принадлежали ни одному государству. Только остготскую часть Паннонии еще в ходе военных действий присвоили лангобарды. Создавшаяся ситуация открыла дорогу за Дунай словенам из Поморавья. В середине VI в. словене уже жили по обе стороны реки Моравы, вступив, таким образом, на территорию современной нижнедунайской («Нижней») Австрии. Эта территория, впрочем, была тогда довольно плотно заселена лангобардами, и здесь задержались в их среде лишь небольшие группы славянского населения. Перейдя без сопротивления Дунай после крушения остготского королевства, словене продолжили движение на юг.[542] В течение 550-х гг. словене прочно обосновались на редконаселенных землях Внутреннего Норика (ныне юг Нижней Австрии и Словения).[543] Таким образом, новые словенские земли почти сомкнулись с имперскими владениями в Далмации, хотя в прямое соприкосновение с ромеями в этом регионе словене на тот момент не вошли. Словенское население пока было весьма немногочисленно и жило вперемешку с остатками местных романцев и германцев. Селились словене в окрестностях приходивших в упадок римских крепостей (Агунт, Овилава, позже и другие). Дальнейшее продвижение словен на запад оказалось невозможным из-за встречного движения франков. Франкские короли с конца V в. упорно расширяли свои владения на восток, прямо подчиняя или ставя от себя в зависимость других германцев. В 496 г. Хлодвиг покорил аламаннов. Его сыновья в 531 г. уничтожили королевство тюрингов. В 532–534 гг. пришла очередь бургундов. Готская война, в которой франки занимали двусмысленную позицию, позволила им округлить свои земли за счет остготов, присоединив Прованс и часть Реции (536 г.). Начиная с 539 г. франки вели борьбу фактически против обеих воюющих сторон за овладение Италией. В 555 г. она завершилась сокрушительным поражением. Но на часть северных земель остготов франкским королям удалось распространить, по крайней мере, формальную власть. Восточная Реция и большая часть Норика, в отличие от занятых словенами областей, были плотно заселены германцами — пришедшими из Богемии баварами и постепенно смешавшимися с ними ругиями. После краха остготского королевства они естественно тяготели к франкам. Истощение Империи в Готской войне не позволило бы ей предпринять лишенный почти всякой местной помощи поход к Дунаю. Однако в будущем попытки освобождения и северных провинций нельзя было исключить. В середине 550-х гг. знатный франк Агилульф был признан местными германцами вождем. Он стал основателем Баварского государства и правящей династии Агилольфингов, правившей Баварией на протяжении более чем двух столетий. При Агилульфе и его преемниках франкская держава, за исключением краткого отрезка времени (558–561 гг.), представляла собой федерацию из самостоятельных королевств во главе с потомками Хлодвига. В этих условиях баварские правители также титуловались королями. Они не были признаны таковыми со стороны франков, для коих Бавария осталась подвластным «герцогством». Но настаивали Меровинги на осуществлении своего суверенитета редко. В итоге сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, Бавария оставалась самостоятельной во внутренних делах, с другой — могла на первых порах рассчитывать на поддержку могущественного западного государства. «Баварский» фактор на три века становится одним из наиболее важных в истории Центральной Европы — и в истории местных славян. Расселившиеся во Внутреннем Норике словене в середине VI в. оказались в треугольнике между владениями трех христианских государств — Империи, франкского и лангобардского королевств. Отношений с Империей словене здесь не поддерживали. Контакты же с франками и «подвластными» им баварами становились все оживленнее — тем более что четкого пограничного размежевания в Норике пока не произошло. Одним из последствий этих контактов стало частичное обращение словен в христианство. Сразу следует отметить, что сами бавары в массе своей оставались язычниками. Даже христианское исповедание франков Агилольфингов оставалось во многом формальным и непостоянным. Но в середине VI в., когда выходцы из франкских земель только обосновались на Среднем Дунае, они, несомненно, принесли с собой ортодоксальное христианство. Франкские епархии проявили заинтересованность в обращении как баваров, так и их новых соседей — словен. Уроженец Паннонии Мартин Бракарский, в начале 550-х гг. осевший в Испании, в 558 г. писал в эпитафии святому Мартину Турскому: «…Руг, Склав, Нара… радуются, что под твоим водительством познали Бога».[544] Едва ли случайно «Склав» поставлен между «Ругом» и «Нарой» (т. е. «Норцем» — определение для новых, еще неизвестных по имени Мартину, германских обитателей Норика баваров). Почти все включенные в обширный перечень Мартина народы обратились в христианство в V–VI вв. или стали целью для пастырской деятельности западного кафолического духовенства.[545] В тексте эпитафии имеется в виду, что чудеса святого Мартина, уроженца и покровителя Паннонии, вкупе с деятельностью миссионеров Турской епархии, обращают к вере язычников и ариан. После падения остготского королевства активная проповедь ортодоксального христианства на его прежних землях стала возможна, о чем с восторгом и сообщает Мартин Бракарский. Его известие позволяет заключить, что проповедь эта наряду с баварами затронула и других новых поселенцев — словен в Норике, причем небезуспешно. Частичное восприятие христианства могло стать одной из причин появления у первых же словен в Норике нового погребального обряда — захоронений с трупоположением. Они господствуют в этом регионе безраздельно, а обряд трупосожжения неизвестен. В целом культура первых словенских поселенцев оказалась под мощным воздействием романцев и лангобардов. Притом, что численность словен росла, а местное население смешивалось с ними, в Норике отсутствуют многие элементы традиционной словенской культуры — например, лепная керамика. На этом основании, кстати, можно предположить, что переселенцами являлись в основном мужчины. Это, во всяком случае, объяснило бы отсутствие лепной керамики и традиционных славянских украшений. Словене, как правило, селились совместно с романскими жителями бывшей провинции, перенимали их обычаи и ремесленные навыки.[546] Отдельные группы корчакцев в этот период могли проникать и в другие области на западной окраине Балкан, в том числе на земли соседних государств. Так, славянская керамика отмечена на одном лангобардском памятнике Паннонии (Сентендре).[547] Славянское поселение существовало в середине VI столетия в Апатинах неподалеку от Сингидуна (нынешнего Белграда). Жившие здесь словене (корчакцы) являлись федератами Империи и находились с соседними ромеями в торговых, а возможно, и в иных мирных сношениях. Об этом свидетельствуют находки гончарной посуды. Поселение просуществовало до начала аваро-ромейских войн.[548] В описываемый период в славянском (словенском и антском) обществе происходят серьезные изменения. Они заключались, в первую очередь, в упрочении княжеской власти. Причины довольно очевидны. Знакомство с единоначалием и единовластием ромеев не могло в итоге не сказаться на внутреннем устройстве славянских племен. С другой стороны, славяне проходили общий для всех родственных народов Европы путь, и контакт с Империей служил лишь дополнительным внешним толчком. У антов зарождается наследственная власть князей. Греческий историк Менандр определяет антского «архонта» Мезамера (ок. 560 г.) как «сына Идаризия, брата Келагаста».[549] Этому можно преложить два толкования. Первый вариант — ант Келагаст, сын Идаризия, был хорошо известен в Империи на момент написания труда Менандра (после 582 г.). Второй, более вероятный, — Келагаст упоминался ранее в труде Менандра как предводитель антов до Мезамера. В обоих случаях это, скорее всего, свидетельствует о какой-то форме передачи власти «архонта» по наследству — от брата к брату. Примечателен и сам факт внимания к родословной вождя — и известности ее ромейскому историку.[550] Применительно к словенам подобные свидетельства отсутствуют. Однако и здесь происходило укрепление княжеской власти. Во всяком случае, в шедшем параллельно ему сплочении племенных союзов словене даже опережали антов. У антов вышеназванный Мезамер около 560 г. только становился лидером среди «архонтов». Он «приобрел величайшую силу у антов» и мог «противостоять любым своим врагам».[551] Но при этом архонты сохраняли полную самостоятельность, и Мезамер мог выступать лишь как представитель их совета. Иная ситуация сложилась у дунайских словен — в силу меньшей численности и меньших размеров их территории. Здесь уже в начале 560-х гг. из среды «игемонов» выделился признанный лидер. Звали его Добрята.[552] Добрята представлял весь племенной союз в дипломатических делах. Он же являлся вождем в общих военных предприятиях. При этом он обязан был считаться с мнением других «игемонов» и решения принимал совместно с ними. Но уже не лидер выступал как представитель других князей, а они — как его советники и соратники. Старшинство Добряты, таким образом, обрело «официальный», общепризнанный характер.[553] Таким образом, антский и дунайский союзы представляли собой две стадии одного и того же процесса, от попустительства которому будет предостерегать своих военачальников император Маврикий несколько десятилетий спустя: «… дабы враждебность ко всем не привела бы к объединению или монархии».[554] Анты представляли собой на 560 г. еще «объединение», но дунайские словене сделали ощутимый шаг к «монархии». Еще ближе к ней стоял удаленный от границ державы ромеев союз дулебских племен. Здесь уже в первой половине VI в. имелся общий сакральный лидер, «великий князь» (Мусок-Маджак). Его резиденция, град Зимно — неоспоримый политический и экономический центр союза. Само местное название городища связано с зимовкой здесь правителя. В огромном дулебском союзе гощение великого князя следовало за гощениями «малых» князей и приходилось на весну — лето. Власть «Маджака» передавалась по наследству в рамках клана. Император-стратег правильно указал и главную побудительную причину сплочения славянских племен — стремление на равных противостоять общим для всех внешним угрозам. В середине VI в. в роли такой угрозы выступали, прежде всего, кочевые племена. Возможно, что именно вторжения кочевников в 550-х — начале 560-х гг. привели к ускорению описанного процесса. Поход ЗаберганаНа протяжении почти столетия славяне поддерживали разнообразные контакты с гуннскими племенами — прежде всего, с болгарами. Контакты эти до середины VI в. носили, как кажется, преимущественно мирный характер. Особенно тесно были связаны со Степью анты. Жившие в Поднепровье болгары-кутригуры оказали сильное воздействие на антскую культуру. Словене, а прежде и анты, были связаны с кутригурами борьбой против Империи. Хотя о совместных набегах до описываемого времени ничего не известно, но болгары и славяне не раз использовали успехи друг друга. Например, в 551 г. кутригуры вторглись во Фракию, только что разоренную словенским нашествием. Политика Юстиниана, пытавшегося разобщить северных «варваров» и столкнуть их между собой, принесла некоторые плоды. С 545 г. действовал союз Империи и антов, направленный против кутригур. Анты были обязаны препятствовать их набегам на державу ромеев. Действительно, с момента заключения этого союза и до 559 г. единственным нападением болгар явился упомянутый набег в 551 г. Но тогда первоначальной целью кочевников была не Фракия, а лангобардская Паннония, и именно туда шли они через зону, подконтрольную антам. В свою очередь, новая ситуация объективно сближала кутригур и словен, хотя связь этих последних с «гуннами» была гораздо слабее. Для антов же естественным союзником становились другие соседи — жившие в Приазовье и на Дону болгары-утигуры. Утигур в 550-х гг. возглавлял хан Сандилх. В 551 г. он заключил союз с Юстинианом против кутригур и получал за сдерживание западных сородичей щедрые ежегодные выплаты. Контакты антов с утигурами и жившими еще восточнее оногурами уже в середине VI в. привели к взаимному смешению антской и «гуннской» знати. Во всяком случае, в «Именнике болгарских ханов» [555] двое правителей второй половины VI–VII в. (Гостун и Безмер) носят явно славянские имена. Из славяноязычных же племен с восточными, приазовскими «гуннами», предками дунайских болгар, соседствовали именно анты.[556] Но есть основания думать, что и связи между антами и кутригурами не полностью сошли на нет. Во всяком случае, многолетнее соседство и смешение не могло не оставить иных следов, кроме культурного наследства. Именно давние контакты и родственные связи антов с кутригурами могли сыграть решающую и почти что роковую для Империи роль в конце 550-х гг. В 558 г. хан кутригур Заберган (Забер-хан) перенес свои кочевья на юго-запад, к самому Дунаю.[557] Анты не воспрепятствовали этому. Источники вообще не упоминают об их позиции или действиях. Похоже, что антские вожди по каким-то причинам предпочли не заметить угрожающего переселения кутригур к рубежам державы ромеев.[558] Зимой, когда Дунай покрылся льдом, болгарская конница перешла реку недалеко от дельты и вступила в пределы провинции Скифия. Болгар сопровождали словене, обеспечившие хана пехотой. На каких условиях словене вступили в войско Забергана, нам неизвестно. Характерно, однако, что из пяти авторов, рассказывающих нам об этом нашествии, двое (Агафий и Виктор Тонненский) о словенах не говорят ничего. Очевидно, и численность их в войске Забергана была не слишком велика, и роль, сыгранная ими в событиях, незначительна. Очевидно и другое — едва ли речь могла идти о равноправном союзе. Скорее, Заберган привлек в 558 г. в свое войско отдельные словенские дружины посулами добычи, а может, и принуждением. Появление многочисленной болгарской орды у границ дунайских словен само по себе было грозным фактором давления. Вместе с тем о силовом завоевании словенских земель говорить нельзя — на памяти Менандра словенские земли в Подунавье не подвергались нападениям до конца 570-х гг.[559] Итак, болгарско-словенские силы Забергана перешли Дунай. Малая Скифия (нынешняя Добруджа), куда они вступили, была в ту пору редко заселена (отчасти же заселена «варварами» — словенами и антами). По словам Агафия, Заберган нашел «тамошние местности лишенными обитателей». Не встречая сопротивления, он миновал Скифию и Нижнюю Мезию. При этом он не нападал на местные города. Воссозданный Юстинианом в 530-х гг. дунайский лимес был прорван «варварами» на самом слабом участке. Агафий подробно анализирует причины беззащитности Фракии в 559 г. Он указывает при этом на истощение военных сил Империи в войнах и политику чиновников, сокращавших армию и экономивших на ней в угоду двору и аппарату.[560] Как бы то ни было, в марте 559 г. болгары и словене безнаказанно вторглись во Фракию.[561] Заберган требовал от Юстиниана передать кутригурам субсидии, прежде причитавшиеся утигурам.[562] Пока же он хотел продемонстрировать свою мощь ромейскому императору. Орда разделилась. Часть войск Заберган отправил на юг, в Элладу, с приказом захватить «незащищенные гарнизонами места». Значительное войско было послано на Херсонес Фракийский, с тем чтобы захватить полуостров с тамошними кораблями и затем переправиться на азиатский берег. Целью Забергана в данном случае являлся азиатский порт Авидос с богатой таможней. Резонным является предположение, что словене в основном сопровождали именно эту часть войск. По крайней мере, их упоминают лишь в связи с действиями «варваров» во Фракии.[563] Сам хан с семью тысячами воинов (отборной болгарской конницей) двинулся прямо на Константинополь.[564] На пути к столице и Херсонесу «варвары» чинили страшное опустошение. Им удалось, не встречая сопротивления, заполучить богатую добычу и полон. В числе многих других граждан Империи был захвачен высокопоставленный военачальник Сергий, сын Вакха. Попал он в руки врагов, судя по всему, также не в бою — «в качестве добычи», по словам Малалы, «вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств», по Агафию.[565] В руках болгар оказался и другой знатный полководец — Эдерма.[566] Худшее для ромеев, впрочем, было впереди. Выяснилось, что Длинные стены, возведенные Анастасием, некогда надежная защита Константинополя от «варваров», обветшали и отчасти разрушились при недавнем землетрясении. При этом гарнизонов на Длинных стенах не стояло. Недавно прокатившаяся по центру Империи эпидемия обезлюдила окрестности столицы — так что та оставалась почти незащищенной. Заберган со своими семью тысячами миновал Длинные стены, отчасти используя образовавшиеся проломы, отчасти, без сопротивления, пробив новые.[567] В столице началась паника. Юстиниан мобилизовал все наличные силы. Однако они были явно недостаточны для противостояния «варварам». Ни городское ополчение, ни отбиравшиеся для почетной караульной службы гвардейцы не были в должной степени боеспособны.[568] Какую-то часть мобилизованных Юстиниан отправил к Длинным стенам. Однако в завязавшемся бою ромеи потерпели поражение, многие погибли.[569] Заберган фактически хозяйничал в окрестностях Константинополя. Разные авторы называют разные пункты, до которых дошли болгары в окрестностях столицы.[570] Объяснение этому дает Иоанн Эфесский, отмечающий, что за время пребывания в пределах Стен «гунны и славяне» приближались к Константинополю трижды.[571] Самые близкие пункты, до которых они доходили, располагались не менее (но и ненамного более) чем в 15 км от столицы. «Варвары», действуя отдельными отрядами, приближались к ней на разных направлениях. Сам же Заберган стоял ставкой в Мелантиаде, в некотором отдалении от своего авангарда. 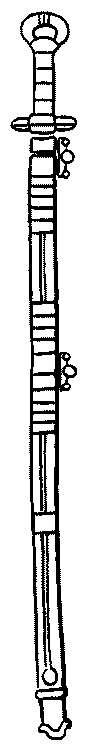 Сабля кочевников В чрезвычайных обстоятельствах император призвал к командованию Велисария, прежнего победителя вандалов и готов. Престарелый полководец с 300 ветеранами прежних войн, всей столичной конницей (взяв, в том числе, коней с ипподрома и у частных лиц) и «толпой» необученных ополченцев выступил в деревню Хит, где разбил стан. Здесь к нему присоединились разоренные нашествием местные крестьяне. Сначала болгары полагали, что ромейское войско превосходит их числом, и не решались на битву. Но вскоре они выяснили, что основная масса воинов Велисария непригодна к бою и едва вооружена.[572] Заберган во главе 2000 всадников атаковал стан Велисария в Хите. Но ромейский полководец, предупрежденный разведчиками, устроил засаду. Двести конных и пеших воинов напали на Забергана с двух сторон дороги, забросав его отряд копьями. В лоб ударил сам Велисарий, а за его спиной ополченцы подняли страшный шум, создавая впечатление большого войска.[573] Болгары, решив, что окружены превосходящими силами врага, запаниковали и обратились в беспорядочное бегство. В стычке и преследовании погибло около 400 болгар, тогда как со стороны Велисария были только раненые. Ромеи прекратили погоню, как уверяет Агафий, лишь из-за усталости лошадей. Заберган, примчавшись в Мелантиаду, немедля снял стан и начал удаляться от Константинополя.[574] Внезапно Велисарий был отозван в столицу. Агафий объясняет это завистью придворных к воспеваемому в Константинополе успеху.[575] Заберган между тем, произведя маневр, вновь приблизился к столице с запада, в районе селения Деката с известной церковью Святого Стратоника. Это и был «третий раз», когда гунны подошли к Константинополю (на 15 км).[576] Выяснив, однако, что столица охраняется «многочисленной стражей», хан, наконец, оставил надежды на штурм Второго Рима. Собрав свои силы, он еще в начале апреля отошел за Длинные Стены, во Фракию. Здесь, в окрестностях Цурула, Аркадиополя и Дризиперы, «варвары» оставались до Пасхи (13 апреля 559 г.). После празднования Христова Воскресения Юстиниан лично направился к Длинным Стенам во главе горожан. Император избрал своей ставкой город Силиврию и приступил к организации ремонта Длинных Стен. Действия Забергана в продолжение починки стены не вполне ясны. Болгары снялись с фракийских стоянок и «бродили вокруг, вне города, до августа».[577] Заберган был обеспокоен действиями ромеев и хотел воспрепятствовать ремонту Стен, но не преуспел в этом. По-прежнему переоценивая силы противника, хан не вступал в столкновение. Обе стороны ожидали исхода битвы за Херсонес Фракийский, где военные действия, вопреки затишью под Константинополем, летом достигли разгара. Херсонес штурмовали значительные силы «варваров», в том числе основная часть словенской пехоты. Стены, преграждавшие путь на полуостров, поддерживались, в отличие от Длинных, в отличном состоянии. Защищали их хорошо обученные части под командованием молодого Германа, сына Дорофея, земляка и воспитанника императора. Все попытки взять стены Херсонеса штурмом заканчивались неудачей, хотя «варвары» «часто нападали на стены, придвигая лестницы и другие осадные орудия».[578] В конце концов, отчаявшись взять стены приступом, «гунны» приняли решение попытаться обойти их с моря — в качестве последнего шанса. Попытка эта была предпринята в июле 559 г.[579] «Гунны» (на самом деле скорее словене, более опытные в строительстве плотов) построили из тростника, увязанного веревками и шерстью, обложенного бревнами, порядка 150 плотов. На получившиеся «корабли» взошло 600 хорошо вооруженных воинов (т. е. по 4 на каждый). Из рассказа о строительстве плотов у Агафия[580] совершенно ясно, что «варвары» (словене, тем более болгары) самостоятельно выходили в открытое море впервые. Гребли они, на взгляд ромея, «неумело», а при строительстве плотов пытались подражать ромейским кораблям, «чтобы увеличить плавучесть». Мощи имперских военных кораблей «варвары», разумеется, не представляли. Едва ли кто-то из них, даже служивший ромеям во время Вандальской или Готской войны, являлся свидетелем или участником морского боя. Герман был заблаговременно предупрежден о приближении «тростникового флота». Он поставил за выступающим мысом в засаду 20 легких кораблей с воинами на борту. «Варвары» стремились высадиться как можно скорее и рассчитывали на внезапность нападения. Миновав стену, они сразу стали грести к берегу. Ромейские суда немедленно понеслись им наперерез и протаранили плоты носами. Гуннский «флот» потерял управление. Гребцы падали со своих «судов», сами же плоты из-за небольшого веса оказались во власти морских волн и токов. При этом первом нападении погибло немало «гуннов». Уцелевшие, пытаясь удержаться на плотах, лишились возможности сражаться. Ромеи безнаказанно нападали на них со своих судов, отнесенные же в сторону плоты рассекали абордажными крючьями. В итоге погибли все шесть сотен «гуннов», отплывшие на плотах.[581] «Гунны» были подавлены поражением и впали в уныние. Морская атака рассматривалась их вожаками действительно как последнее средство. В случае неудачи они предполагали отступить. Ромеи ускорили отход противника. Несколько дней спустя Герман со своими воинами совершил вылазку против вражеского стана. В завязавшемся бою он сам был ранен, но продолжал сражаться. Урон, нанесенный ромеями «гуннам», был велик. Герман, однако, отвел своих солдат обратно за стену, опасаясь численного превосходства врага. «Гунны» в тот же день сняли осадный лагерь и ушли на север, к Забергану, блуждавшему у Длинных Стен.[582] Итак, Заберган потерпел неудачу и у Константинополя, и у Херсонеса. Уже завершивший реставрацию стен император, ожидая отхода «гуннов» за Дунай, в августе приказал начать строительство боевых судов. Они должны были перехватить «варваров» на Дунае. После поражения у берегов Херсонеса опасность встретить ромейские корабли чрезвычайно напугала болгар. Заберган отправил послов к императору с просьбой о безопасной переправе через Дунай. Однако, значительно увеличив теперь свои силы, он вновь домогался от Юстиниана «такого же количества золота», как получал Сандилх. Добиться его он теперь хотел, требуя выкупа пленных и угрожая в противном случае перебить их всех. Юстиниан отправил хану немало золота и посулил субсидии в будущем. Хан отпустил пленников, прекратил разорение земель Империи и повернул к Дунаю. В качестве гаранта соглашения Юстиниан послал сопровождать болгар своего племянника и наследника Юстина.[583] По пути к Дунаю Забергана нагнала та часть болгар, что действовала в Греции. Точнее, судя по Агафию, в собственно Элладу «варварам» не удалось попасть. Предполагая прорваться через Истм в Пелопоннес, на деле они были остановлены гораздо севернее, в Фермопильском проходе. Таким образом, Ахайя практически не пострадала.[584] Юстиниан между тем вовсе не собирался прощать Забергану разорение имперских земель. К тому же он опасался новых набегов. Ему удалось убедить утигурского хана Сандилха начать войну с кутригурами. Сильнее всего Юстиниан напирал на то, что Заберган домогался субсидий, положенных самому Сандилху, и все вторжение было предпринято кутригурами лишь из зависти и ненависти к утигурам. В конечном счете Сандилх согласился начать войну.[585] Первым делом войска Сандилха внезапно обрушились на кутригурские кочевья. Незащищенные и захваченные врасплох, они были безжалостно разорены. Затем, продолжая двигаться на запад, утигуры напали на войско Забергана вскоре после его переправы через Дунай. Заберган не ожидал нападения. Его поражение было сокрушительным. «Множество» кутригур и словен было перебито. Сандилху досталось все добытое Заберганом. С большим трудом кутригурам удалось собрать остатки сил и начать войну с новым врагом.[586] Словене в этой развернувшейся в Степи кровопролитной распре участия не принимали. Однако для их судеб она имела далеко идущие последствия. Междоусобицей болгарских племен не преминули воспользоваться их восточные соседи, авары. Авары в ЕвропеПод именем авар в Европе стали известны кочевые племена уар и хуни (вархониты). К середине VI столетия в азиатских степях происходит объединение кочевников под властью алтайских тюрок (тюркют). Тюркюты покорили множество родственных им, а также иранских и некоторых других племен, создав единое государство — Тюркский каганат во главе с династией Ашина. В 557–558 гг. вархониты, сбежав из-под власти тюркских каганов, обосновались в предкавказских степях. Савиры, оногуры и другие местные племена были введены в заблуждение сходством названия рода уар с именем грозных некогда азиатских кочевых завоевателей абар. Вождь вархонитов Баян всячески поддерживал это выгодное заблуждение и, приняв от новых соседей дары, начал именоваться каганом.[587] 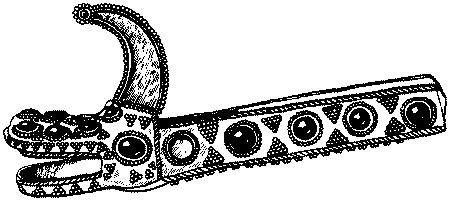 Украшение кочевников. VI–VII вв. Новоявленные авары заключили союз с аланами и при их посредничестве отправили в 558 г. посольство в Константинополь. Юстиниан с готовностью пошел на союз с аварами, рассчитывая использовать их против персов и враждебных кочевников. Но он не торопился предоставлять им земли для поселения, как они просили. Между тем Баян небезосновательно боялся погони со стороны тюрок. Пока же авары, используя страх перед собой, быстро покорили савир и прочих соседей. Таким образом, насчитывавшая на момент посольства в Империю не более 20 тысяч воинов орда окрепла и разрослась в грозную силу. Когда осенью 559 г. в европейской степи разразилась война между утигурами и кутригурами, Баян не замедлил вмешаться в нее — причем, совершенно вопреки интересам Империи, на стороне более слабых кутригур. Последние, не в силах отстоять независимость, предпочли покориться новым союзникам и влиться в орду Баяна. Утигуры, разбитые и покоренные, также присоединились к аварам. Некоторая часть утигур и кутригур, однако, не последовала за аварами на запад, а осталась в Приазовье, где позже слилась с оногурами в единый народ. Он-то в VII в. и стал известен как болгары. Покорив болгарские племена, Баян вплотную подступил к границам Империи. На том этапе он едва ли замышлял военные действия против нее, надеясь лишь вырвать у ромеев субсидии для увеличивающейся орды и вожделенную землю для поселения. Последнее становилось все более необходимо — тюрки действительно не оставили без внимания бегства вархонитов и готовились к походу на запад. Но на пути авар встали анты. Мы, к сожалению, из-за фрагментарности текста Менандра,[588] не можем судить, как началась война между антами и аварами и даже кто из противников ее начал. Судя по тому, что в начале войны антские «архонты» питали какие-то «надежды», они, по меньшей мере, не избегали ее. Поводов для войны было достаточно. Авары, придвинувшись к границам Империи, создавали ей угрозу, и Юстиниан мог потребовать от антов выполнить свой долг хотя бы на этот раз. Анты находились в союзе или, во всяком случае, в тесных связях с побежденными утигурами, оногурами и савирами. Какая-то их часть могла найти приют (наверняка и нашла) на антских землях. Это само по себе представляло собой повод для начала военных действий со стороны Баяна. Но и сами анты могли начать войну в помощь союзникам. Наконец, Баян, стремясь прокормить разросшуюся орду, мог потребовать от антов дани — как позже требовал ее от дунайских словен. Анты, представлявшие собой «бессчетные племена»,[589] когда-то «самые могущественные» среди «венедов»[590] и наводившие ужас на Империю, имели немало оснований надеяться на успех. Но с началом военных действий их князья «были поставлены в бедственное положение и против своих надежд впали в несчастье».[591] Авары имели возможность атаковать антов по всей границе — от днепровского Левобережья до Подунавья. При таком натиске отдельные племена-«княжения» не смогли бы соединить свои силы, тем более что до создания единой «монархии» антов было далеко. Первенствующий среди их равноправных князей — упомянутый ранее Мезамер, брат Келагаста, — только выделялся, обретая неформальное влияние. Его усиление было ускорено аварским нашествием. Но все-таки, в отличие от противника, единоначалием анты не обладали. Каковы бы ни были причины поражения антов (а здесь мы неизбежно не сможем зайти дальше догадок), итог его ясен — «авары сразу же стали опустошать землю и грабить народ». Нашествие затронуло немалую часть антских территорий. Анты, «теснимые набегами врагов», вынуждены были искать мира. В качестве посла был избран, — едва ли на общеантском вече, скорее на совете «архонтов» — наиболее влиятельный из них, Мезамер. Главной целью посольства было «выкупить некоторую часть пленных» антов. Однако миссия провалилась. Мезамер повел себя перед Баяном излишне смело — «изрек слова высокомерные и в чем-то даже наглые». За это он удостоился от греческого историка Менандра характеристики «пустослова и хвастуна». Тем более разгневан был победитель Баян. Каганским гневом воспользовался некий «кутригур, который был предан аварам» и «замыслил против антов весьма враждебное». Это лицо упоминалось где-то у Менандра ранее,[592] и не кажется излишне смелым предположение, что имеется в виду Заберган, добровольно покорившийся со своим племенем Баяну.[593] Если война с антами действительно была продолжением войны с утигурами, можно не сомневаться, что Заберган со своим племенем принял в ней самое деятельное участие, а то и приложил руку к ее разжиганию. «Кутригур», по Менандру, сказал Баяну о Мезамере: «Этот человек приобрел величайшую силу у антов и может противостоять любым своим врагам. Следует поэтому убить его и затем безбоязненно напасть на врагов». Совет приближенного пришелся по душе разъяренному кагану. Мезамер немедленно был убит, и война возобновилась. Авары с новым рвением обрушились на антов. «Более, чем раньше, — пишет Менандр, — стали они разорять землю антов и не переставали порабощать жителей, грабя и опустошая». Здесь фрагмент «Истории» Менандра заканчивается, и о дальнейшем мы не имеем надежных сведений. События, описанные им, датируются в промежутке между покорением Баяном болгарских племен (позже осени 559 г.) и выходом авар к Нижнему Дунаю (561 г.). Точнее всего будет отнести их к 560 г.[594] Последствия нашествия авар для антов могут быть с достаточной ясностью восстановлены из последующих событий. Авары утвердились на Левобережье Дуная в его низовьях, создав непосредственную угрозу для границ Империи. Тыл их был не только надежен — он был открыт для далеких рейдов в обход Карпат, через редконаселенные пока земли нынешней Польши вплоть до границ Франкского государства. Таким образом, анты, — даже племена, жившие далеко на севере, на Верхнем Днестре, — перестали представлять для авар угрозу и преграду. Нет, таким образом, никаких оснований сомневаться, что авары добились на том этапе от большинства антов того, чего затем стали добиваться от словен Подунавья — то есть покорности и дани.[595] Уже тогда, согнанные нашествием или не желавшие платить дань победителям, сдвинулись к северо-западу некоторые антские племена. Это могли быть сербы, первоначальное место обитания которых неизвестно, а также часть хорватов из Верхнего Поднестровья.[596] Любопытно, что, несмотря на тесное общение славян (словен и антов) с аварами уже в 560-х гг., название авар в общеславянском языке достаточно позднего происхождения. Слово *obrъ/obrinъ ‘авар, мифический великан’ отсутствует в южнославянских языках (кроме языка словенцев). Лишь в болгарском есть слово «обринка», но с иным значением — ‘хитрец’.[597] Едва ли указанное слово может восходить ко времени первого контакта антов и дунайцев с аварами в VI в. Оно, скорее, ненамного старше VII столетия. Зато общеславянский характер носит слово jьspolinъ/spolinъ ‘исполин, мифический великан’. Оно происходит от названия древнего народа спалов. Спалы, подобно аварам, жили в задонских степях, но за столетия до них. В форме «исполин» вместо изначального «сполин» языковеды видят след «северно-тюркского» — как раз аварского посредства.[598] Превращение могучих и недружественных соседей в мифических великанов — частое явление в преданиях разных европейских народов. Так анты и гунны стали великанами в германских преданиях, а «обры» позднее — у северной части славян. Не исключено, что все неизвестные восточные народы славяне издревле называли спалами («сполинами»). Название это было перенесено и на авар, тюркизированная же форма «исполин» появилась как раз в результате тесного общения дунайских словен и антов с аварами в 560-х гг. Недаром она распространена только у восточных и южных славян, но не у западных. Завоеватели могли в общении со славянами перенимать это наименование, тем более что слово «авары» не являлось для них самоназванием. Нельзя исключить, что это была часть политики Баяна — его орда стала для антов и словен легендарными «исполинами», так же как для савир и их соседей страшными «аварами». Как «обры» авары стали известны славянам позднее. Притом у антов (что отразилось в болгарском языке и некоторых русских диалектах) это слово приобрело уничижительное значение — ‘хитрец’, ‘скупой человек’. Итак, в начале 560-х гг. анты были на какое-то время сломлены. Авары стояли у самых границ Империи. Однако Юстиниан, видя, что свою мощь они использовали не против врагов, а против союзников ромеев, был холоден к посланцам Баяна. Он продолжил выплачивать «дань», но отказался предоставить Баяну земли в провинции Скифия. Вместо этого он «даровал» аварам Паннонию, в действительности принадлежавшую лангобардам. Не без труда убедив авар согласиться на далекую Паннонию, проход туда через земли Империи Юстиниан предоставить отказался. Во-первых, он получил сведения, что озлобленный Баян готов напасть на ромеев сразу после переправы на южный берег Дуная. Во-вторых, император надеялся столкнуть авар со словенами и гепидами, если кочевники пойдут на «дарованную» землю левым берегом реки. Таким образом, Баян был бы принужден хоть раз исполнить союзнические обязательства, данные в 558 г. Переговоры с Юстинианом заняли 561–562 гг. Пытаясь оказать давление на императора, Баян позволил каким-то «гуннам» (утигурам или кутригурам) вторгнуться в 562 г. во Фракию.[599] После этого ромейские военачальники жестко перекрыли путь через Дунай. Положение Баяна становилось отчаянным. Его контроль над европейскими степями был довольно призрачным. Анты, да и другие покоренные племена, могли выйти из повиновения в любой момент. Вероятность этого возрастала, по мере того как с востока надвигались тюрки. С 555 г. они вели войну в Средней Азии с местными кочевниками эфталитами, в 562 г. заключили против них союз с Сасанидским Ираном. Уже с 558 г. вождь западного крыла тюрок Истеми пытался завязать контакты с Юстинианом.[600] Как раз в ходе безуспешных переговоров с Империей Баян предпринял попытку миром поладить с дунайскими словенами. Условия мира в аварском понимании могли быть только одни — Баян потребовал от словен, «чтобы они подчинились аварам и обязались выплачивать дань». Покорение дунайцев открыло бы аварам путь в Паннонию по северному берегу реки. Но словене, хотя и менее многочисленные, чем анты, были уже лучше организованы. Общим вождем дунайцев являлся тогда Добрята. Это первый подобный лидер, известный нам, и именно судьба антов могла подвигнуть словен к консолидации. Явившиеся к Добряте и другим князьям («игемонам», «тем, кто возглавлял народ»), аварские послы получили резкую и гордую отповедь. Менандр вкладывает в уста Добряты следующие слова: «Родился ли среди людей и согревается ли лучами солнца тот, кто подчинит нашу силу? Ибо мы привыкли властвовать чужим, а не другие нашим. И это для нас незыблемо, пока существуют войны и мечи». Речь почти наверняка сочинена греческим историком, но суть ответа словенского князя, конечно, верно передана. На «самонадеянность» аварские послы ответили «высокомерно». От прения перешли к взаимным оскорблениям. «Ссора» кончилась тем, что словене схватились за оружие и перебили послов аварского кагана. Баян, разумеется, вскоре — хотя и «со стороны» (не от ромеев ли?) — узнал о случившемся. Но, как ни странно, немедленной войны не последовало. Каган лишь затаил злобу на словен и их князя, но ничего не предпринял для немедленного возмездия.[601] Почему же Баян не выступил против Добряты? Аварская орда была все-таки ослаблена войной против антов. Кроме того, между Прутом и Сиретом антское население было обильно смешано со словенским. Антские земли вообще едва ли стали бы надежным тылом в войне против словен. Еще недавно союзниками словен являлись кутригуры. И если приближенный к кагану и влиявший на него «кутригур» — действительно Заберган, то он мог повлиять на Баяна в пользу словен так же, как ранее — против антов. Впрочем, это не более чем догадки. Главной причиной странного смирения Баяна являлось скорее то, что он уже отказался от пути вдоль Дуная на запад. Поскольку ромеи не желали пропустить авар через Скифию и Мезию, те начали разведывать другой путь, более долгий, но и более безопасный. С этой целью Баян отправил какую-то часть орды в далекий рейд на северо-запад. Уже в 561 г. или в начале 562 г. авары появились у восточных границ владений франкского короля Сигиберта, в Тюрингии или северной Алемании (юг последней прикрывали бавары). Сигиберт, только что принявший корону восточных франкских земель (Австразии), разбил и прогнал неведомых «гуннов». Но для тех это была лишь разведка боем.[602] Переговоры с ромеями зашли в тупик. Юстиниан исправно выплачивал Баяну субсидии, но не изменял позиции в отношении перехода через Дунай. Так обстояли дела, когда в ноябре 565 г. император ромеев скончался. На престол вступил куропалат Юстин, сторонник жесткости по отношению к «варварам». 21 ноября к императору, лишь неделю назад взошедшему на престол, явились аварские послы, добиваясь выплаты положенной ежегодной «дани». Разгромившие союзников ромеев — антов и утигур, — усилившие себя за счет старых врагов Империи кутригур авары дерзко заявили: «Из ваших соседей мы разом истребили варваров, постоянно грабивших Фракию, и никого из них не осталось для набегов на фракийские пределы. Ибо боятся они силы авар, дружественно относящихся к державе ромеев».[603] Возможно, конечно, что страх перед аварами сдерживал словенские набеги. Но следует помнить, что за исключением устроенного Заберганом похода 559 г., словене с 552 г. не нападали на Империю ни разу. Авары тут были совершенно не при чем. К тому же в Империи прекрасно помнили о гуннском набеге 562 г., совершенном, самое меньшее, при попустительстве Баяна. Как бы то ни было, Юстин II не потерпел наглости «варваров». Человек вспыльчивый и решительный противник задабривания авар, он обрушился на послов с угрозами и площадной руганью, велел взять их под стражу, а затем прогнал без всяких денег. С дипломатией между Империей и аварами, по сути, было кончено. Коварный Баян, впрочем, не преминул заверить нового императора в своей «дружбе». Но он уже принял решение действовать помимо Империи и против ее интересов. Справедливости ради надо отметить, что иного выхода у кагана не оставалось. В 566 г. Истеми одержал победу над эфталитами в Средней Азии. Затем тюрки одновременно напали на Иран и вторглись в европейские степи. Им покорились оногуры, хазары и некоторые другие племена. Баян не мог медлить. В том же 566 г. основные силы аварской орды во главе с самим каганом двинулись на север. Об этом походе судить можно лишь по косвенным данным. Баян шел вдоль Карпат, через земли дезорганизованных и отчасти порабощенных антских племен.[604] Тех из антов и словен, кто остался враждебен аварам, каган сгонял с насиженных мест. Среди них были не только сербы и хорваты, но и какие-то словенские племена. К западу от Западного Буга авары потеснили или изгнали часть словен-лендзян. Очевидно, что аварское нашествие привело в движение очень многие славянские общины региона.[605] Это и стало толчком к заселению славянами в конце 560-х — начале 570-х гг. значительной части современной территории Польши,[606] а затем и Восточной Германии. Надо думать, что столкновений с подкарпатскими группами словен (чехами, вислянами и др.) Баян по возможности избегал, не желая растрачивать силы. Свой удар он направил в уже разведанном в 561 г. направлении. В 566 или 567 г. каган появился у границ Тюрингии. На этот раз Сигиберт потерпел от «гуннов» поражение и сам попал в плен. Но Баян с самого начала не собирался глубоко вторгаться во владения франков и начинать большую войну. Он принял от пленника выкуп, заключил с ним договор о «вечной дружбе» и отпустил его восвояси с дарами.[607] Таким образом, заручившись договором с франками, Баян вдоль их границ спустился к Дунаю. В 567 г. авары форсировали реку и вошли в Паннонию с севера. Лангобардский король Альбоин (561–572), сын Авдуина, предпочел заключить с ними союз. Застарелая вражда лангобардов и гепидов с приходом авар, наконец, подошла к развязке. Альбоин в союзе с новыми пришельцами разгромил и уничтожил гепидское королевство. Часть гепидов признала власть Альбоина, часть — Баяна. По условиям заключенного между победителями договора, Альбоин уступал аварам Паннонию в обмен на помощь в борьбе против ромеев. Король лангобардов повел своих подданных в поход на Италию. Перед этим он принял арианство, разрывая последнюю связь с Империей. В 568 г. лангобарды вторглись в Италию, а Баян отправил со своих новых земель в набег на балканские провинции подвластных кутригур. Началась длительная борьба между аварами и лангобардами, с одной стороны, и державой ромеев — с другой. Баян обосновался на новых землях как раз вовремя. В том же 568 г. с Юстином начал переговоры тюркский каган Истеми, чьи передовые отряды стояли уже у границ Алании. Вместе с лангобардами ушли из Паннонии и окрестных земель другие племена, в том числе часть словен — все немногочисленные словене, жившие в лангобардском королевстве, и некоторые с земель гепидов и из Богемии. Большая их часть, однако, не достигла Италии, а осела в Норике, увеличив местное словенское население. Вместе с ними осели здесь, в будущей Хорутании, и некоторые лангобарды, сохранявшие особенности своей культуры в славянской среде еще несколько десятилетий.[608] Авары пока не распространили свою власть на эти земли — внимание кагана было обращено на восток. Анты сравнительно быстро оправились от урона, нанесенного аварами. Однако серьезным последствием аварского нашествия явилось для них ослабление связей с Империей. Анты были оттеснены от Дуная и на время утратили независимость. В период пребывания Баяна у рубежей Фракии между антами и Константинополем не могло быть никакого сообщения. Скорее всего, именно поэтому, отчасти демонстративно, Юстин II отказался в первый год своего царствования от принятого некогда отцом титула «Антский».[609] Как только авары переселились в Паннонию, титул опять стал употребляться.[610] Тогда контакты с антами возобновились, и заключенный Юстинианом союз был скреплен заново. У нас есть прямые свидетельства его существования в последней четверти VI — начале VII в.[611] Союз этот основывался на общей враждебности к аварам, с которыми многие анты наверняка стремились расплатиться за годы разорения и порабощения. Однако теперь эти союзные отношения были еще менее прочными, чем до прихода завоевателей. Аварское нашествие не могло не ослабить едва сложившееся единство антских племен. Заключать соглашения со «всеми антами» стало гораздо труднее, чем во времена Юстиниана и Прокопия. Поэтому, хотя у нас нет прямых свидетельств действий антов против Империи, в греческих военных трактатах второй половины VI в. они рассматриваются наряду со словенами как потенциальные враги.[612] Следует отметить также, что начиная с 560-х гг. мы не имеем никаких данных об антах или словенах на службе в ромейских войсках. Главным же итогом аварского вторжения в Европу для славянского мира стало само образование Аварского каганата. Дружественные или враждебные отношения с последним превращаются после 568 г. в важнейший фактор политической истории славян. Аварское нашествие стало помимо этого побудительным толчком к мощному колонизационному потоку на северо-запад. Результатом его явилось существенное расширение занятой славянами территории и — позднее — установление прямых связей с Франкским государством. Славяне массово заселяют в описываемые десятилетия земли современной Польши, а затем и Восточной Германии. Масштабные переселения и внешние влияния существенно воздействовали на внутреннее развитие славянского общества. Глава вторая. Славяне после прихода аварПереселения на западеАварское нашествие, как уже было сказано, послужило толчком к передвижениям славянских племен — прежде всего, в западном и северо-западном направлении. Первыми, кого приход степных завоевателей сорвал с насиженных мест, были анты — хорваты и сербы. Часть хорватов осталась на родине, в Верхнем Поднестровье. Сербы в Восточной Европе позднее не жили вообще. Остатки восточных, антских сербов смешались с соседними племенами. Не исключено, что именно это племя пострадало в борьбе с аварами более всего. Авары теснили потерпевшие поражения племена в ходе своего движения на запад, а те отступали — в разных направлениях, часто беспорядочно. При этом отдельные семьи могли оседать на славянских поселениях нынешней Южной Польши. Путь антов на запад намечен на археологической карте находками застежек антских плащей — фибул с пальчатыми отростками.[613] Поворот авар на север, к границам Тюрингии, позволил антам оторваться от преследователей и найти места для нового жительства. Наиболее значительным центром расселения хорватов стал район Орлицких гор на северо-востоке Богемии, где они жили еще в X–XI вв.[614] Где-то по соседству сначала осели и сербы. Во всяком случае, расселение их в позднейших серболужицких областях относится уже к VII в., тогда как в более ранний период они жили где-то на среднем Дунае.[615] Надо думать, что поселение антов в Богемии не обошлось вовсе без конфликтов с местными жителями, в том числе и славянами, без оттеснения каких-то «родов» с уже обжитых мест.[616] Но представляется, что отношения антов со здешними словенами складывались преимущественно мирно. Пришедшие были в основном знатными воинами, лишившимися всего на родине и не желавшими покоряться победителям-аварам. Они не принесли с собой в богемские земли практически ничего, кроме племенных названий. Даже находки пальчатых фибул в западной («Великой» или «Белой») Хорватии единичны. Керамики же антского (пеньковского) типа здесь нет вовсе. Анты сохраняли свои племенные имена, но переняли общее самоназвание «словене». Следует добавить, что уже область днестровских хорватов была пограничьем пеньковской и корчакской культур, где совместно жили анты и словене. Хорваты и сербы, сплоченные в дружины и имевшие опыт (пусть неудачный) борьбы с аварами, в новых условиях становились ценными и надежными союзниками для местных племен. Пришельцы вступали в союзы с местными «родами», мирно подселялись к ним, женились на местных женщинах. Очень скоро пришлые анты стали главенствовать в еще очень непрочных словенских племенных объединениях. Приход антов ускорил окончательный уход из Богемии германских жителей. Впрочем, тому и так было немало причин. Лангобарды в 568 г. переселились в Италию. Баваров же естественно притягивало возникшее за Дунаем, под покровительством франков, собственное государство. В свою очередь, для хорватов и сербов лангобарды и франки тогда оказались прямыми врагами, союзниками авар. Так или иначе, совместное проживание славян и германцев в Богемии (например, на поселении Бржезно) на протяжении второй половины VI в. постепенно прекращается, а германские поселения исчезают.[617] Богемия, таким образом, окончательно превратилась в Чехию. Уже в VI в. в чешских, словацких и моравских землях возникают некоторые из важнейших политических центров славянских племен. Это Либице над Цидлиной в Северной Чехии, гнездовья поселений на месте Нитры в Словакии и Бржецлава в Поморавье.[618] Укрепленных градов пока что среди них не было, но не исключено, что некоторые из них уже превратились в резиденции вождей крупных племен. Переселение авар и антов привело к уходу из Богемии и некоторых словенских «родов». Как уже говорилась, какая-то часть словен ушла с лангобардами и осела на землях Норика, в будущей Хорутании.[619] Другой поток словенских переселенцев устремился на северо-запад, в междуречье Эльбы и Заале. Отдельные группы словен могли проникать сюда и раньше, с начала VI в. (поселение Лютенберг I). Во второй половине VI в. славянское население здесь увеличивается. Славяне и в этих областях встретились и вступили в мирные контакты с германскими племенами.[620] Среди них могли быть саксы, тюринги, варны. С расселением славян в Чехии и прилегающих с северо-запада землях удлинилась граница с франками и, соответственно, участились контакты с ними. Судя по ранним общеславянским заимствованиям из немецких языков (VI в.), в порубежье шла оживленная меновая торговля.[621] Первые контакты славян с франкскими таможенными чиновниками отражает заимствование термина «мыто».[622] Вторая половина VI в. — время заселения славянскими племенами большей части современных польских земель, а также прилегающих к ним с запада областей Восточной Германии. Первоначальным толчком к нему послужил поход Баяна через ляшские земли в Южной Польше. Под давлением авар отдельные словенские «роды» сдвинулись к северу, вниз по Западному Бугу, Висле, Варте и Одеру. В междуречье Одера и Вислы словене встретили других жителей также славянского происхождения. К середине VI в. здесь уже сложилась своеобразная культура, известная как суковско-дзедзицкая (от поселений Суков в Германии и Дзедзицы в Польском Поморье). Наиболее ранние ее памятники между средними течениями Вислы и Одера (Бониково, Бискупин, Жуковицы) ныне датируются V в. При этом корни материальной культуры «суковцев» отыскиваются в местных пшеворских древностях.[623] Если новая датировка верна, то тем самым обретает решение «венедская проблема». Так или иначе, до середины VI в. область обитания польских венедов была относительно невелика. Их ранние поселения разбросаны по среднему Одеру и долине Варты. Из них Бискупин в Куявии занял древнее островное городище.[624] Теперь Бискупин стал укрепленным «градом» славян. Впрочем, и после расселения словен плотность населения на землях современной Польши оставалась крайне низкой. По подсчетам археологов, на 10 гектаров обрабатываемой земли в среднем приходилось не более 3–4 домохозяйств. Безраздельно господствовала малая община, владения коей не превышали 2 км2. Отмечены «села», составившиеся из нескольких одиноких и разбросанных дворов-починков.[625] Суковско-дзедзицкие племена значительно отличались от словен-корчакцев своей материальной культурой — включая керамику, домостроительство, похоронный обряд. Так, они строили исключительно наземные дома. Среди жилищ венедов попадаются наземные дома не только срубной, но и столбовой конструкции — ясное свидетельство того, что в складывании культуры приняли участие и германцы. При этом жилища германских типов имеются в том числе и на коренной территории культуры, в польских землях.[626] Венеды отличались от словен и внешне. Если для словен были характерны широкие лица, для венедов — относительно узкие. Головы у венедов были несколько короче. Эти расовые отличия заметны еще в X–XII вв.[627] Тем более они ощущались в раннее время. О переселении в венедские и сопредельные земли во второй половине VI в. словен с юга свидетельствуют археологические факты. На отдельных поселениях появляются дома словенского типа — полуземлянки, возникают и промежуточные формы (дома с подпольными ямами).[628] На север распространяются и погребения по обряду кремации в грунтовых могильниках, неизвестные венедам.[629] Главное свидетельство того, что на север сдвинулись довольно большие массы словен — господство словенского расового типа на основной территории Польши в средние века. Описанный выше венедский тип сохранялся лишь в периферийных областях расселения его носителей — в Южной Прибалтике, в Северо-Восточной Европе.[630] Вместе с тем зона распространения пражско-корчакской керамики расширилась ненамного. К концу VI в. собственно словенские племена населяли в западных областях верховья Вислы, междуречье Сана и Западного Буга, южную Силезию. Дальше на север распространена преимущественно суковско-дзедзицкая керамика. Преобладают и суковские традиции в домостроительстве.[631] Словене, пришедшие на новую землю, сравнительно легко перенимали некоторые элементы местной культуры. Здесь мы опять встречаемся с преимущественно «мужским» переселением. В числе пришельцев почти не было женщин, которые обычно и изготавливали лепную керамику. Переселенцы женились в новых местах, и их потомки стали со временем основным населением Польши. Из-за крайней немногочисленности ранних суковских поселений невозможно судить, насколько насильственным и разрушительным было переселение словен на север. Спустя весьма короткое время венеды и словене жили уже в мире друг с другом на одних поселениях, слившись в единые «роды». Но сначала далеко не все приняли это как должное. Во всяком случае, на запад стронулись переселенцы, сохранявшие и позже в чистоте венедский расовый тип. Можно с большой долей уверенности сказать, что это были венеды, не принявшие смешения со словенами. Причины для недовольства, конечно, имели место. Многочисленные и неплохо организованные пришельцы покорили венедов между Вислой и Одером. Местные жители приняли общее именование «словене» и частное — «лендзяне / ляхи», возникшее на левобережье Западного Буга, у границ с Волынью. О распространении термина «ляхи» на север свидетельствует, в частности, раннее его заимствование литовцами (через пруссов?).[632] Северные жители вошли и в культовый союз почитателей Велеса, возглавлявшийся вислянами. Думается, что религиозные контакты могли иметь место и ранее. Владыка загробного мира (Велес, Триглав) пользовался преимущественным почитанием не только у ляшских словенских племен, но и у чистых венедов — например, в Поморье. Но теперь прямое подчинение ляшским культовым центрам могло показаться венедам тягостным. Не самые приятные воспоминания о покорении великопольских земель выходцами с юга отразились, должно быть, в рассказе о князе-завоевателе Немеже.[633] Это средневековое предание сообщает великопольский хронист XIII в. Богухвал, отождествивший Немежу с библейским Нимродом. Богухвал называет его потомком родоначальника славян Слава и сообщает, что от Немежи «началось у людей рабство, тогда как прежде у всех была незыблемая свобода». «Сперва, — пишет хронист, — он безрассудно пытался подчинить своей власти своих братьев; дерзость его безрассудства навлекла закон рабства не только на его братьев славян, но и на весь мир… Весь народ славянский считался зависимым от Нимрода».[634] Подобное предание неизвестно не только другим славянам, но и малопольским хронистам. Наверняка оно отражает какой-то эпизод именно древнейшей великопольской истории. В предшествующий приходу словен период венеды жили изолированными самостоятельными общинами. Власть племенных вождей у них в таких условиях вряд ли вообще существовала. Общественный строй словен и антов, у которых укреплялась власть князя и его дружины, не мог не представиться венедам «рабством». В результате переселений второй половины VI в. славяне заняли значительную часть территории нынешней Польши. Они не только довольно плотно заселили земли юга, от Западного Буга до верховий Одера, где обитали словене, племена пражско-корчакской культуры. На севере суковско-дзедзицкие племена, потомки венедов, заняли почти все междуречье среднего Одера и средней Вислы. Наиболее значительное скопление поселений на юге находилось в районе Кракова (Могила, Иголомя, Хоруля и др.). В венедском ареале плотнее всего была заселена Силезия, а также прилегающее междуречье Одера и Варты. Значительные группы раннеславянских памятников найдены и в Великой Польше (Крушвица, Радзеюв, Новины и др. в Куявии, Непорент, Мендзыборув и др. в округе Варшавы, в районе впадения Буга в Вислу). В двух местах севернее впадения Буга славяне перешли Вислу. В районе современного Плоцка на левом берегу возникло целое гнездо поселений, центром которого позже стало городище Шелиги. Отсюда славяне уже тогда проникли в будущую Мазовию. Свидетельство тому — большое суковско-дзедзицкое поселение Брущево к северу от Буга. Оно просуществовало несколько веков и включало несколько групп домов и хозяйственных построек. Суковско-дзедзицкие племена в VI в. проникали и на юго-восток, в Подляшье под изгибом Западного Буга (поселения Боровый Млын, Пщев). В то же время основная часть Мазовии оставалась практически ненаселенной.[635] Как и антов на востоке, венедов севера словене обозначали как «полян», и точно такое же имя получили словенские племена Великой Польши. В древнем происхождении понятия «поляне» (источника современного «поляки») сомнений нет. Но сначала этот термин был именно собирательным обозначением, а не названием конкретного племени или племенного объединения. Он не носил политического смысла. Характерно, что Баварский географ не знает полян. Он, зато, упоминает племя гоплян (Glopeani), жившее в районе озера Гопло в Куявии.[636] Именно здесь располагалась Крушвица, которую Богухвал знал как первую столицу Великой Польши.[637] К северу от нее находилось городище Бискупин — древнейший из градов польских земель. Как раз из этого района расселялись «полянские» племена. Гегемония гоплян среди них восходит, надо думать, к довольно давним временам. Стоит отметить еще, что в XI–XII вв. «полянами» именовались просто все подданные польского короля. Среди ляшских племен они на равных упоминаются не с вислянами или слензянами, а с жителями самостоятельных княжеств Поморья, Полабья, Мазовии. По крайней мере, так обстоит дело в источниках собственно славянских — польских и русских.[638] Значительное количество памятников суковско-дзедзицкой культуры имеется, как уже было сказано, в Силезии и прилегающем междуречье Одры и Варты. «Гнезда» суковских поселений возникли и на землях Лужиц в среднем течении Шпрее, к северо-западу от Силезии. Сюда был направлен весьма значительный поток колонизации. Судя по числу памятников, Силезия и Лужицы в описываемую эпоху были заселены плотнее, чем великопольские земли. В Силезии славяне встретили крайне немногочисленные остатки германского населения. Почти общепризнанно, что название «Силезия» ведет начало от имени германского племени вандалов-силингов.[639] Небольшая часть силингов осталась в долине Одера после Великого Переселения народов и смешалась с пришедшими славянами. К названию силингов восходит, в конечном счете, и племенное имя слензян. Непосредственным источником, скорее, послужило наименование горы Сленза, где располагалось в Средние века главное святилище племени. Но еще в IX в. «слензяне» не считалось общим названием жителей Силезии. Более того, кажется, что слензяне тогда и не являлись в ней главным племенем. По крайней мере, в первой, более ранней части «Баварского географа» они не упомянуты вовсе. Из силезских племен в этой части текста названы только дедошане и безунчане.[640] Два больших скопления суковских селищ в Силезии, на обоих берегах Одера, можно соотнести с племенными территориями дедошан и слензян. Название дедошан (дедошичей), без сомнения, славянского происхождения. Более древней его формой является «дедошичи». Источник — незасвидетельствованное личное имя Дедоша с корнем «дед».[641] На лужицких землях отмечено два «гнезда» суковских поселений — в среднем течении Шпрее, где позже жило племя лужичан, и к востоку, на нижней Нейссе (Нысе-Лужицкой). Речное название «Ныса» повторяется на юге Силезии (также левый, западный приток Одры). Восточное «гнездо» вплотную примыкает к местам поселения дедошан на севере Силезии и выглядит как их выселок. Славяне пришли в Лужицы с юго-востока, из силезских земель. В освоении Силезии приняли участие не только славяне и потомки местных германцев. Описываемый период был довольно бурным для племен, населявших юго-западную Прибалтику. После распада к середине VI в. объединения видивариев часть их разноплеменных дружин закрепилась на западе от низовий Вислы, положив начало прусскому племенному союзу.[642] В конце 560-х или начале 570-х гг. в земли галиндов в западной части Мазурского Поозерья вторгся отряд гепидов и лангобардов, покинувших дунайские земли после аварского нашествия. Результатом германского завоевания западного Поозерья стало возникновение здесь «мазуро-германской» или западномазурской культурной группы.[643] Часть балтов ушла, не признав власти захватчиков, за Вислу в Великую Польшу и далее на запад уже вместе со здешними славянами. На пустующих большей частью землях Силезии место нашлось всем. Галинды осели в Опавской котловине на самом юге Силезии и быстро смешались с жившими здесь славянами пражской культуры. Память о пришельцах из Прибалтики сохранилась в племенном названии голендичей, известном в IX–XII вв.[644]  Гора Шленжа. Современный вид По соседству с галиндами в Верхней Силезии осели и другие пришельцы из Южной Прибалтики — велеты. Кем бы ни были они изначально, к концу VI в. это племя уже являлось славянским. Однако материальная культура велетов отличалась от культуры соседних славян. С ними связано сложение уже в VI в. новой археологической культуры — фельдбергской (от поселения Фельдберг в Германии).[645] Фельдбергцы пользовались для изготовления посуды гончарным кругом, причем формы их керамики восходят к силезским традициям предшествующего периода. В формировании славянского племени или племенного союза велетов приняли участие не только славяне и балты, но и местные германцы. Есть предположение, что у истоков фельдбергской керамики стоит группа бродячих гончаров — ремесленников, сорванных с мест Переселением народов.[646]  Одна из скульптур святилища на горе Шленжа Уже около середины VI в. славяне суковско-дзедзицкой группы перешли Одру на севере, попав в двуречье Шпрее и Хафеля, восточных притоков Эльбы. Массовое расселение их в этом регионе приходится на вторую половину VI в. и было связано с племенными передвижениями после аварского нашествия. Картография поселений[647] указывает, что на этот раз славяне шли не с востока из-за реки, а с юга, из Лужиц вниз по Шпрее. Постепенно земли по нижнему Хафелю превратились в самую заселенную область суковско-дзедзицкой культуры. Многочисленные славянские поселения возникали и севернее, в нижней части междуречья Одры и Эльбы. Славяне продвигались на север вдоль рек — вниз по Эльбе и Одеру, вверх по Хафелю. В области Шпрее — Хафеля в ту пору сохранялось германское население, принадлежавшее к племенам варнов и саксов. Пришельцы численно превосходили местных жителей, в то время как уровень общественной организации у них был примерно одинаков. Племенной союз варнов, известный еще Прокопию в середине века как мощное объединение, распространявшее влияние на Саксонию и сообщавшееся с англами в Британии, теперь распался. Переселение славян-венедов сыграло здесь некоторую роль. Во всяком случае, последним оплотом варнов осталась небольшая область в верховьях названной по их имени реки Варны. Там позднее жило одноименное славянское племя. Археология же отмечает мирное сосуществование славян и германцев. Славяне селились на германских селах, без перерыва продолжали использовать германские пашни. На одном из селищ в нынешнем Берлине отмечено непрерывное использование выкопанного в германское время колодца.[648] Можно заключить, что славяне и германцы в области Шпрее — Хафеля сливались в единые общины, причем менее многочисленные германцы постепенно славянизировались. Славяне унаследовали у германцев несколько более передовые хозяйственные навыки. Стоит отметить, что из германских языков пришло и название реки Эльбы (в славянской огласовке — Лаба). Так было в долинах Шпрее и Хафеля. Но иначе обстояло дело дальше на север. Ниже по Одеру и Эльбе (кроме балтийского побережья на северо-западе, еще не достигнутого) перед славянами открывалась лесистая и совершенно безлюдная страна. Пахотные земли давно были заброшены, и славянским поселенцам нужно было расчищать новые участки. Сами славяне селились в этих условиях не столь плотно и не столь большими коллективами, как дальше на юг.[649] В области Шпрее — Хафеля началось складывание новых славянских племен, известных позднее по письменным источникам. Старейшим из племен полабских славян были ободричи (ободриты западных авторов). Происхождение названия «ободричи» вызывает споры. Наиболее убедительной кажется теория, связывающая его с рекой Одрой (ободричи < *ободряне ‘живущие по обоим берегам Одры’).[650] Древность имени ободричей удостоверяется их позднейшим присутствием на Балканах и, следовательно, участием в славянских переселениях конца VI-начала VII в. Так же можно подтвердить древнее происхождение и некоторых других племенных названий в полабском ареале. Прежде всего, это относится к крупному племени стодорян. В IX в. именно оно занимало долину Хафеля и именовалось у западных хронистов и географов хэфельдами.[651] Приняли участие в движении на юг и смоляне.[652] В полабском ареале они жили примерно у впадения в Эльбу реки Эльде.[653] В латинских источниках полабские смоляне фигурируют только как «смельдинги». Едва ли следует сомневаться в германском происхождении такой формы названия.[654] Можно даже предположить, что жившее на германо-славянском пограничье небольшое племя само переняло такую форму — но не ранее рубежа VI–VII вв., когда часть его, еще под славянским именем, выселилась на Балканы. Именно смоляне стали ядром складывания позднейшей племенной группы полабов или полабян. Все названные племена упоминаются в сочинении Баварского географа.[655] В VIII–IX вв. смоляне и другие полабы входили в племенной союз, возглавляемый ободричами. Что касается стодорян, то они тогда были включены в велетский племенной союз, но стояли в нем особняком. Ободричи — древнейшее и сильнейшее из суковских племен — изначально лидировали среди них. Остальные племена отделялись по мере движения ободричей на север, оседая в освоенных землях. Сами же ободричи в итоге поселились в будущем Мекленбурге, у берегов Балтики. Таким образом, они до конца возглавляли продвижение суковцев вверх по Эльбе. Не вызывает сомнений, что с ободричами связаны своим происхождением не только полабы, но и стодоряне. С верховий Хафеля славяне продвинулись в западное Поморье (будущую немецкую Померанию). Здесь они впервые вышли к Балтике. Они расселились также в западной части Польского Поморья. Ныне считается возможным относить к VI в. памятники дзедзицкого типа в Польском Поморье, близ низовий Одры (поселения Дерчево, Дембчино, Дзедзицы).[656] Поморские земли славяне застали практически необитаемыми. На них началось складывание племенной общности поморян. Позднее где-то в этом поодерском районе, восточнее хэфельдов, жило племя брежан.[657] Название «брежане» связано с берегами Одры. Смысл названия «поморяне» прозрачен. Прямое свидетельство о том, что к концу 580-х гг. славяне уже достигли моря, содержится у греческого историка Феофилакта Симокатты. Он рассказывает об обмене посольствами приморских славян «у оконечности Западного океана» с аварским каганом примерно в 588–590 гг.[658] Общим самоназванием поморских и полабских славян еще и в VII в. оставался термин «венеды». Под этим же именем («венды», «винды», «виниды») они получали известность среди соседей. Однако тесное общение со словенами вело к восприятию венедами общеславянского языка при сохранении диалектных особенностей. Очень быстро венеды переняли и самоназвание корчакских племен — «словене», четко противопоставлявшее их соседним «немцам». Поморские послы в 590 г. уже называли себя словенами. Хорватский племенной союзОдним из последствий переселения части антов в Центральную Европу стало возникновение здесь нового политического объединения — хорватского. В раннем средневековье хорваты занимали территорию северо-восточной Чехии по обе стороны Орлицких гор и прилегающие районы Силезии. Им, таким образом, принадлежало верхнее течение Лабы.[659] В областях, соседних с областями расселения хорватов, распространеныпредания о древнем правителе Кроке или Краке. О Кроке рассказывают предания чехов, о Краке — малопольские, приписывающие ему основание Кракова. Тождество имен «Крок» и «Крак» было ясно уже польским и чешским хронистам XV–XVII вв. Не отрицает его и современное языкознание.[660] Название «Краков» (Краков град), вне сомнения, происходит от личного имени. Следовательно, за преданиями о Краке должна стоять некая историческая реальность.[661] Представляется, что единственным связующим звеном между вислянами на востоке и чехами на западе являлись «западнославянские» хорваты. С ними и следует связывать возникновение преданий о Краке.[662] В старейшей версии польского предания о Краке, излагаемой хронистом XII в. Винцентием Кадлубком, главный герой приходит к будущему Кракову из «Каринтии».[663] Для Кадлубка «Каринтия» — синоним дунайской прародины славян. Для нас здесь важен мотив прихода с запада, из придунайских областей. Он указывает на позднейшее (VII в.? [664]) поселение группы хорватов в Верхнем Повисленье. Ядром западного хорватского племенного союза являлись области северо-восточной Чехии и южной Силезии. Чешское предание о Кроке первым сообщает Козьма Пражский. Он весьма краток: «…выделился некий человек, по имени Крок, его именем назван град, заросший теперь уже деревьями и расположенный в лесу, что близ деревни Збечно. Соплеменники считали этого человека совершенным. Он располагал большим имуществом, а при рассмотрении тяжб вел себя рассудительно; к нему шел народ не только из его собственного племени, но и со всей страны, подобно тому, как к ульям слетаются пчелы, так к нему стекался народ для разрешения своих тяжб».[665] Позднейшие авторы не добавляют к этим скупым сведениям практически ничего важного.[666] Существование древнего града Крокова близ Збечно не подтверждено археологией.[667] Но название урочища, несомненно, восходит к имени «Крок», и оно необязательно должно было быть именно резиденцией правителя. Заметим, что постоянной «столицы» у такового могло и не иметься.[668] Рассмотрим совокупность данных о Кроке. Несомненно, описываемое лицо — племенной вождь. Наименование его в чешских хрониках «судьей» не должно вводить в заблуждение. Этим библейским термином называли славянских князей с их ограниченной (в сравнении с развитыми монархиями) властью еще в Х в.[669] Крок у Козьмы Пражского передает власть дочерям. Одна из них становится ведуньей, другая — жрицей, третья — судьей.[670] Таким образом, их отец предстает как носитель высшей сакральной власти — жрец, чародей-прорицатель и судья в одном лице. Кроме того, он передает власть по наследству. Это в целом соответствует нашим представлениям о древнем славянском вожде, носящем титул «князь» или «владыка». Традиция передачи власти по наследству начала уже складываться с середины VI столетия — по крайней мере, у антов, к которым принадлежали хорваты. В рассказе Козьмы важно отсутствие связи между Кроком и «праотцом Чехом» — четкое указание на то, что Крок не принадлежал к чехам в узком смысле слова. Важно и то, что Крок возглавляет не одно племя, а племенной союз («народ не только из его собственного племени, но и со всей страны»). Имя «Крок (Крак)» не принадлежит к двусоставным «княжеским». Уже это, а также географический разброс преданий (Чехия — область вислян в Малой Польше) наводит на мысль о родовом имени, передаваемом по наследству титуле, которым именовали князя его подданные. В польском предании находим прямое подтверждение. Сын и наследник Крака здесь также именуется Краком.[671] Родовой титул «Крак» («Крок» в чешских преданиях) восходил, скорее всего, к звукоподражательному эпитету бога грозы Перуна. Его потомками и считали себя племенные вожди хорватов, закрепившиеся во второй половине VI в. на северо-востоке современной Чехии. В польском предании Крак выступает, подобно своему мифологическому двойнику — богу грозы, как змееборец.[672] Сакральная власть князей, основанная на происхождении от «создателя молний», Перуна — Сварога, была принесена на средний Дунай антами-хорватами. В преданиях о Краке (Кроке) есть еще один крайне интересный момент. И в польском, и в чешском сказании говорится о том, что власть вождя, за неимением наследников мужского пола, переходит к дочерям. О разделе власти дочерьми Крока у Козьмы Пражского уже говорилось. По Кадлубку же, после смерти Крака II, за неимением у него детей, власть приняла его сестра, дочь Крака I — Ванда.[673] Мотив этот не привлек бы особого внимания, если бы не его абсолютная уникальность в славянских преданиях о первобытном историческом периоде. Ни в преданиях, ни в иностранных источниках о женщинах-предводительницах у древнейших славян более нигде не упоминается. Мотив связан исключительно с дочерьми чешского «судьи» Крока и польского «короля» Крака. Такое удивительное совпадение не может не отражать какой-то исторической действительности. Скорее всего, у хорватов действительно разрешалось наследование власти женщиной при отсутствии у правящего князя мужского потомства. Женщина, таким образом, также признавалась носительницей «божественного» начала, свойственного роду «Крака». При этом, кстати, допускалось дробление функций княжеской власти между наследницами (чешское предание о чародейке Кази, жрице Тэтке и судье Либуше). Эти обстоятельства, приведшие со временем, естественно, к прерыванию прямой мужской линии рода, запомнились и в Чехии, и в Малой Польше. Заманчиво было бы связать эту особенность политического устройства хорватов с их происхождением от некогда «женоуправляемых» сарматов. Недаром Козьма писал о древних чешках: «В то время девушки этой страны достигали зрелости быстро: подобно амазонкам, они жаждали военного оружия и избирали себе предводительниц; они занимались военным делом так же, как и молодые люди, и охотились в лесах, как мужчины; и поэтому не мужчины избирали себе девушек в жены, а сами девушки, когда желали, выбирали себе мужей и, подобно скифскому племени, плавкам [т. е. половцам] или печенегам, они не знали различии между мужской и женской одеждой».[674] Хорватский племенной союз начал складываться на землях северной Чехии и юго-западной Силезии после 568 г. В него входили, помимо собственно хорватов, также чехи, населявшие центральные области страны по нижней Влтаве. В союз, возглавлявшийся хорватскими «Краками», влились и другие, только возникавшие тогда племена северной Чехии и Силезии. Почти наверняка в хорватский союз вошли на первых порах сербы, исторически и этнически тесно связанные с хорватами. Первоначальные места обитания «западных» сербов также помещаются в Чехии, скорее на севере страны.[675] Племенное объединение в Центральной Европе во главе с западными «белыми» хорватами имеется в виду в преданиях, сообщаемых в Х в. Константином Багрянородным. Здесь оно выступает как «Великая» или «Белая» Хорватия.[676] Причиной сплочения славянских племен северной Чехии под главенством хорватов, вне сомнения, явилась аварская угроза. Хотя основной натиск аварских орд был направлен против Империи, каган, разумеется, не забывал и о северных границах. Уже вскоре после закрепления авар в Паннонии они навязали «мир» на своих условиях славянам Поморавья. Раннее подчинение мораван каганату доказывается и переселением их на Балканы в ходе аварских войн, и тем, что именно Поморавье стало позднее центром так называемой аваро-славянской культуры Подунавья. После подчинения мораван каганат стал представлять очевидную угрозу и для северных племен. Именно непрестанное давление авар стало стимулом к выселению части богемских словен на северо-запад, в междуречье Лабы и Заале. Этот переселенческий поток усиливался на протяжении второй половины VI в. Но чехам и другим племенам под главенством хорватов удалось отстоять и свои земли, и свою независимость. Значение хорватского племенного союза в западнославянской истории, однако, этим не исчерпывается. Исторические обстоятельства сложились так, что хорватское объединение явилось прямым предшественником чешской и одним из предшественников польской средневековой государственности. Хозяйство, культура, обществоВторая половина VI в. более богата объективными сведениями о внутренней жизни славянского мира, чем предшествующий период. Из авторов письменных свидетельств, прежде всего, обязаны мы этим императору Маврикию, создавшему в конце века свой «Стратегикон». В первой половине столетия Прокопий Кесарийский, описывая нравы славян, в немалой степени руководствовался общими представлениями о северных «массагетах» и их «гуннском нраве». Маврикий более осведомлен и более практичен. Это чувствуется уже в открывающей его очерк общей характеристике нравов славян: «Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; свободные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в своей земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи».[677] В этой характеристике — ни одного лишнего слова. Маврикий дает на основе имеющейся, многократно удостоверенной в военных действиях информации памятку для своих полководцев. То, что нам представляется — и в известном смысле справедливо — лестной оценкой славянских нравов, для ромея VI в. было необходимыми данными об опасном враге. Точно так же, как необходимую информацию, необходимую уже для ромейских дипломатов, передает Маврикий сведения о славянском гостеприимстве: «К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно; так что если гостю по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него священным долгом».[678] Редкостное гостеприимство славян подтверждается позднее многократно. Оно оставалось неизменным, несмотря на все военно-политические перипетии. Несомненно, — об этом можно судить и по известию Маврикия, — гостеприимство имело прочные основания и в обычном праве, и в верованиях. Месть за чужеземца являлась «священной» для гостеприимца. Памятуя о цели наставлений Маврикия, можно не сомневаться и в том, что имперская дипломатия и разведка не избегали пользоваться наивным первобытным обычаем угождения гостю в корыстных целях. Приведенное известие убеждает, кстати, в том, что эпизод с убийством дунайцами Добряты аварских послов был крайне нетипичен для славянского общества. Характерно, что нигде (в том числе в очерке о быте и хозяйстве) Маврикий не разделяет и не противопоставляет словен («склавов») и антов. На взгляд ромея, славянские племена по-прежнему воспринимались в культурном плане как единое целое. Между тем, насколько можно судить по археологическому материалу, различия между отдельными славянскими культурами (пражской, пеньковской, ипотештинской) в описываемый период становятся четче. Славяне в изображении Маврикия — скотоводы и земледельцы. «У них, — пишет он, — множество разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды».[679] Это вполне соответствует археологическим данным.[680] О характере словенского хозяйства (правда, в областях, удаленных от границ Империи) во второй половине VI в. можно судить по материалам Бржезно. В здешнем стаде преобладал крупный рогатый скот. По костным остаткам, он составлял более половины (52 %) стада. Разводили (в гораздо меньших количествах) свиней и овец. Была в Бржезно и домашняя птица — в первую очередь куры, но также утки.[681] Коневодство играло в Бржезно крайне незначительную роль (менее 2 %).[682] Но в нижнедунайских областях во второй половине VI в. его значение возрастало, в частности, благодаря угону коней у ромеев.[683] Несомненно, что во многих славянских землях (особенно на востоке) разводили и коз, которых не было в Бржезно.  Пальчатая фибула Из злаков Маврикий упоминает «в особенности» просо и пшеницу-полбу.[684] Это также абсолютно соответствует археологическим свидетельствам. Два названных злака преобладали на славянских полях. При этом в некоторых областях предпочтение отдавалось пшенице, в других — просу. Преобладание пшеницы отмечено, например, на поселении Бржезно, причем проса в здешнем зерновом материале менее 1 % (при 46 % пшеницы). На втором месте здесь ячмень, далее с большим отрывом следуют рожь и овес — но и их здесь больше, чем проса. Жители Бржезно разводили также бобовые — горох, чечевицу, вику, а также выращивали коноплю. Садоводство представлено сливой.[685] В этот период в славянских землях все шире распространяется пахотное земледелие. В отличие от Прокопия, Маврикий ничего не говорит о частых перемещениях славян с места на места, характерных для времен подсеки и примитивного перелога. О постепенном переходе к двуполью свидетельствует сам факт длительного существования таких поселений, как Бржезно, или общинных могильников наподобие Пржитлук в Поморавье и Сэрата-Монтеору в Дакии.[686] О том же говорит и постепенное увеличение размеров словенских поселений.[687] Что касается антов, то они переходили к пашенному земледелию быстрее и почти повсеместно. У словен развитие техники земледелия сопровождалось совершенствованием пахотных орудий. Однако рала с железным наральником встречались преимущественно в зоне контактов с антами (в Поднестровье и Побужье) или германцами (в Чехии-Богемии).[688] Маврикий, в отличие от предшественников, не упоминает охоту как источник существования славян. Ее относительно малое место в хозяйстве доказывается и археологически. Во всяком случае, в Бржезно кости диких животных составляли лишь 2 % всего материала.[689] Быт славян греческие писатели второй половины VI в. описывают примерно так же, как их предшественники, что неудивительно. «Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых озер»,[690] — отмечает Маврикий. Ему вторит Иоанн Эфесский: «люди простые, которые не осмеливались [до нашествия 580-х гг.] показаться из лесов и из-под защиты деревьев».[691] Более осведомленный Маврикий обрисовал и топографию славянских поселений, в целом соответствующую нашим археологическим данным. «Хории склавов и антов, — пишет он, — расположены поочередно вдоль рек и соприкасаются друг с другом, так что между ними нет достойных упоминания промежутков, а лес, или болота, или заросли тростника примыкают к ним». Леса служили и естественной защитой, и местом укрытия на случай вражеской атаки.[692] В другом месте Маврикий отмечает различный размер «хорий», некоторые из которых могут «оказаться большими».[693] Под «хориями» Маврикий, скорее всего, имеет в виду не отдельные поселения, а «гнездовья», соответствовавшие соседской общине, «миру».[694] У Маврикия имеется еще несколько странное описание славянского жилища. Славяне, по его мнению, устраивают «много, с разных сторон, выходов из своих жилищ из-за обычно настигающих их опасностей».[695] Это совершенно противоречит предоставляемой раскопками информации о славянском жилье. В корчакских и пеньковских жилищах всегда единственный вход, закрывавшийся деревянной дверью, от которой вела лестница — спуск в полуземлянку.[696] Представляется удачным толкование, согласно которому Маврикий имел в виду не собственно жилище, а комплекс связанных жилищ.[697] Такие близко расположенные жилища принадлежали одной большой патриархальной семье, входившей в патронимию. В материальной культуре словен и антов этого времени произошел ряд изменений. В корчакской культуре усиливаются локальные особенности. К востоку от Западного Буга почти безраздельно господствуют полуземлянки, отапливавшиеся печами-каменками. На западе, по соседству с германцами и в контактной зоне с венедами, полуземлянки сочетаются с наземными избами. Здесь встречаются оба типа наземных славянских домов — наземные дома с подпольными ямами (переходный тип между полуземлянкой и избой) и чисто наземные срубы. Последние характерны для суковско-дзедзицкой культуры. Отапливались дома на западе преимущественно обычными очагами из камней или глины либо глинобитными печами.[698] Изменения, происходившие в ареале пеньковской культуры, отражают окончательное слияние составивших ее разноплеменных элементов в антскую общность. Характерная черта наступившего второго этапа антской культуры — унификация. Исчезают такие приметы разноплеменности, как различия в интерьере и конструктивных особенностях жилищ. В частности, очаги полностью вытесняются печами-каменками. Последние складываются теперь почти исключительно из крупных плит. С другой стороны, исчезает закономерность в расположении печи (раньше вход в антское жилище всегда был с южной стороны, а печь — в одном из северных углов).[699] Эта характерная черта славянской культуры была, в свою очередь, утрачена в ходе смешения антских «родов». Но общий облик антской культуры, вне сомнения, славянизировался. Среди новых культурных явлений в славянском мире нельзя не отметить распространение по антским землям во второй половине VI в. особого типа украшений, название которым дал Мартыновский клад рубежа VI–VII вв. Мода на пояса с богатыми украшениями «мартыновского» типа зародилась среди готов и кочевников в Нижнем Подунавье под влиянием как степного, так и римского искусства. Мартыновские украшения были распространены позже у авар, антов, в Крыму. Их основными «разносчиками» являлись кутригуры, смешивавшиеся и с антами, и с аварами, и с приазовскими болгарами. Но немалую роль в распространении украшений сыграли и сами анты. У них большая часть находок сосредотачивается в Поднепровье.[700] Среди находок в Мартыновском и подобных кладах — металлические элементы поясного набора, височные кольца, фибулы, ожерелья. Изготавливались все эти украшения из бронзы и серебра. Некоторые из них (пальчатые фибулы, проволочные височные кольца со спиральным завитком) можно считать характерными именно для антской культуры. В целом же мартыновские древности не являлись творением одного народа. Ремесленники разных племен, перенимая друг у друга навыки, работали в русле единой «моды», распространившейся на значительных пространствах Евразии.[701] Несомненно, из антских земель и с антскими переселенцами «мартыновские» предметы стали проникать на север, в земли днепровских балтов.[702] 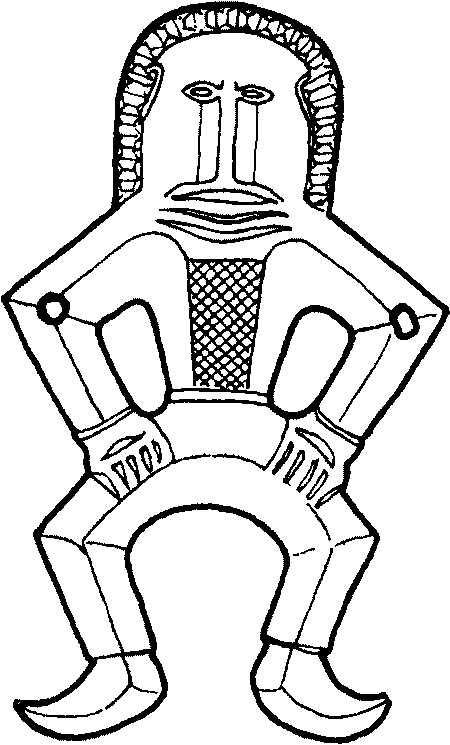 Фигурка из Мартыновского клада. Реконструкция С.В. Алексеева Яркими памятниками антского искусства являются миниатюрные литые изображения людей и животных, найденные в Мартыновском кладе и на ряде поселений. Четыре одинаковых фигурки подбоченившихся («пляшущих») мужчин из Мартыновского клада выполнены с уникальной для тех времен детальностью и позволяют судить об одежде и внешнем облике своих создателей. На поселении Требужаны найдена еще одна похожая (но не идентичная) фигурка. Пять фигурок из Мартыновского клада изображают животных. Это сильно стилизованный образ коня, причем в двух вариантах. Звери (в обоих вариантах) изображены на бегу, с разверстыми пастями, с высунутыми языками. В одном, более детальном варианте в оскаленной пасти отчетливо выполнены конские зубы, узнаваема и грива — но «копыта» оканчиваются когтями. Другой вариант более схематичен, и «конские» черты едва опознаются. Более традиционны (притом тоже стилизованны) конские изображения с поселений Самчинцы и Семенки. Наконец, на поселении Скибинцы найдено довольно точное бронзовое изображение льва. Некоторым мартыновским украшениям приданы черты изображений животных и людей.[703] Не вызывает сомнений, что фигурки из Мартыновского клада были композиционно и сюжетно связаны между собой, апеллируя к каким-то мифологемам. Перед нами изображение божества (Перуна?) с его конем — частый мотив славянского народного искусства. То, что конь бога-громовержца предстает как грозное мифологическое чудовище, едва ли должно удивлять. Подбоченившаяся поза нередка для миниатюрных идольчиков позднейшей эпохи, которые также могли использоваться в качестве оберега. Мартыновские украшения в целом в известном смысле повторили путь, уже ранее проделанный одним из элементов этой группы древностей — фибулами с пальчатыми отростками. Первоначально являясь продукцией имперских мастерских, плащи с пальчатыми фибулами вошли в моду у германских наемников Подунавья в первой половине VI в. Вслед за готами и гепидами их восприняли анты, и во второй половине VI в. фибулы этих типов стали одним из определяющих элементов антской культуры, характерным для пеньковцев украшением. Антские женщины, в отличие от германок, застегивавших плащ двумя фибулами, носили по одной застежке. Фибулы этого периода несколько проще в исполнении, чем в более раннее время. Изготавливались они уже не только в ромейских мастерских, но и в землях самих антов.[704] Так, изготовлением пальчатых фибул занималась мастерская на поселении Бернашевка в Поднестровье.[705] Являясь характерной чертой антской культуры, пальчатые фибулы в то же время оставались предметом вывоза — прежде всего, торгового. Именно так попадали они из Империи к антам; так же — от антов к соседним племенам. Пальчатые фибулы «днепровских» типов известны у балтских и финно-угорских племен севера Восточной Европы, позднее — и в Крыму.[706] Не исключено, что они играли роль первобытных денег, своеобразного «всеобщего эквивалента». Такое в «варварском» мире происходило со многими разновидностями престижных для племенной знати товаров. Вторая половина VI в. отмечена рядом изменений в погребальной обрядности славян. Для этого периода характерно увеличение различий в погребальном обряде между отдельными группами славянского населения. Вместе с тем сохраняется и много общих черт. Наиболее значительным погребальным памятником придунайской ипотешти-кындештской культуры является могильник Сэрата-Монтеору.[707] Первые погребения в нем относятся еще к началу VI в., но основной период функционирования могильника датируется позднейшим временем — до начала VII столетия включительно. На могильнике более 1500 грунтовых захоронений, принадлежащих членам ряда больших семей. Захоронения отдельных большесемейных коллективов образовывали группы. Все захоронения в могильнике — трупосожжения. Но при этом конкретные детали обряда могли варьироваться. Отмечены как безурновые, так и урновые захоронения. Иногда лишь часть пережженных костей помещалась в урну, тогда как остаток просто ссыпался в могильную яму; иногда ссыпанный прах накрывали сверху горшком. Инвентарь в Сэрата-Монтеору довольно разнообразен. Здесь отмечены пальчатые фибулы из бронзы и серебра, ножи, бусы, поясные пряжки и т. д. Кремация явно производилась в одежде. Среди погребенных были и весьма богато одетые люди. Одно, явно женское, погребение сопровождалось особенно щедрыми подношениями. Помимо украшений при нем найден ромейский сосуд для хранения благовоний. Также намеренно положенным в погребение инвентарем являлись найденные в другом месте наконечники стрел. Среди дунайских славян бытовало поверье о полезности инвентаря в загробном мире — но пользоваться им давалось право немногим и в исключительных случаях. В ареале пеньковской и ипотештинской культур безусловно господствует в этот период обряд захоронений в грунтовых могильниках с кремацией умерших. Отмечены урновые и безурновые захоронения; у антов в урновых иногда встречается крайне бедный инвентарь. Немногочисленные погребения с трупоположением в пеньковском ареале отражают изначальную разноплеменность культуры. Некоторые из них убедительно датируются ранним периодом ее существования и едва ли принадлежат славянам.[708] Другие отражают процесс взаимного проникновения болгар и славян, особенно в дунайских землях. С другой стороны, на востоке пеньковского региона, в Поднепровье, потомки аланских кочевников сохраняли ритуал трупоположения долгое время, уже вполне ославянившись.[709] Ритуал ингумации умерших, как уже говорилось, с самого начала преобладал у славян, осевших в приальпийских областях, будущей Словении. Здесь его утверждение объяснялось тесными контактами и смешением с германцами и романцами, а также ранним проникновением христианства. Славяне здесь хоронили своих покойников в грунтовых могилах со сравнительно скромным инвентарем (ножи, глиняные сосуды), ориентируя тело головой на запад или на восток.[710] Широтная ориентировка позднее характерна для славян и, должно быть, являлась традиционной уже при трупосожжении. Это связано с древнеславянской мифологической картиной мира. У словен (корчакской культуры) в описываемый период возникает новое явление в погребальной обрядности — над захоронениями в некоторых местах начинают насыпать курганы (праслав. *mogyla). «Могилы» появляются в двух довольно удаленных друг от друга регионах — на Волыни и в Припятском Полесье с одной стороны, и в подкарпатских областях Словакии, Поморавья и юго-западной Польши с другой. Курганы явно наследуют многие черты обрядности ранних грунтовых погребений. Высота их не превышала метра, чаще полуметра, они насыпались над могильными ямами (в других случаях захоронение в основании кургана) и окружались ровиком. Диаметр кургана мог достигать 10 м. Кремация умерших совершалась на стороне; погребения как урновые, так и безурновые, с характерным для пражско-корчакской культуры крайне скудным инвентарем или без такового. Перед захоронением в основании кургана разжигался костер. Позднее в кургане могли делать впускные безурновые захоронения. Курганы использовались большими семьями на протяжении нескольких поколений, иногда дольше столетия.[711] По всей вероятности, могильные насыпи естественным образом развились в двух славянских регионах из обычая как-то отмечать место захоронения. Преобладающим типом захоронений при этом оставались грунтовые, почти всегда безынвентарные (кроме чехо-моравских земель, где нередко встречается скудный инвентарь). Они характерны для большей части западного региона пражской культуры. Трупосожжение могло совершаться не только на стороне, но и на месте (ряд могильников Польши[712]). Согласно известию греческого историка Феофилакта Симокатты, погребение по «обычаю» сопровождалось поминальным пиром с обильными возлияниями[713] (в V в. он носил название «страва»). Судя по известию Феофилакта, если человек умирал в пути, например в походе, но среди соплеменников, погребение и поминки совершались на месте кончины. В этом случае дух покойника, даже сгинувшего на чужбине, считался удовлетворенным. Опасными же считались лишь те мертвецы, которые не были должным образом погребены сородичами. Маврикий Стратег — первый автор, сообщающий о принятом у славян (словен и антов) обычае самоубийства вдовы после смерти мужа. По его словам, славянские женщины «целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существование во вдовстве».[714] С одной стороны, это чрезвычайно древний обычай. С другой — у славян, в отличие от гуннов, например, он до того не засвидетельствован. В известии Маврикия обращает на себя внимание подчеркивание сугубой добровольности происходящего, а также то, что этот мрачный ритуал не был в его время обязателен («многие из них» — не все). В то же время он к 580-м гг. распространился среди словен и антов достаточно широко, чтобы попасть на страницы «Стратегикона» как важная бытовая деталь. Распространение самоубийств жен после смерти мужей отражало укрепление патриархальных устоев в славянском обществе. Мужчина начинал восприниматься как единственная и незаменимая опора семейного уклада. Но стоит отметить, что при всем том высокий общественный статус вдов, переживавших мужей, остался общеславянской традицией. Описываемый период ознаменовался немаловажными переменами в общественно-политическом устройстве славянских племен. В целом они были направлены на усиление расслоения в обществе и укрепление оснований протогосударственности. В обществе, описываемом Маврикием Стратегом, явно немалую роль играет частная (точнее, семейная) собственность. По его словам, словене и анты на случай опасности «все ценное из своих вещей зарывают в тайнике, не держа открыто ничего лишнего».[715] Известие «Стратегикона» находит прямое подтверждение в антских кладах наподобие Мартыновского. Одновременно клады эти свидетельствуют и о высокой степени имущественного расслоения. Семьи племенной элиты, которыми и были зарыты клады с мартыновскими драгоценностями, по уровню достатка значительно превосходили сородичей. Наиболее стремительными темпами шли обогащение и общественное расслоение в придунайских (прежде всего, нижнедунайских) и антских областях. Этому способствовали и набеги на Империю, и активная меновая торговля с различными соседями. Свидетельство возросшего достатка — богатый сравнительно с Волынью, Полесьем и Польшей инвентарь ипотештинских, отчасти пеньковских и чехо-моравских захоронений. В могильнике Сэрата-Монтеору отмечены, как говорилось, несколько богатых погребений. Находка в женском захоронении сосуда для благовоний в этой связи весьма показательна. Задунайская роскошь служила примером для подражания славянской знати. Богатые женщины следили за собой, перенимая бытовые привычки ромеев. Во время набегов на Империю славяне захватывали не только рабов, скот, оружие — но также золото и серебро, прекрасно осознавая их ценность.[716] В то же время с правовой точки зрения общество расслаивалось гораздо в меньшей степени. Во времена Маврикия Стратега у антов и словен каждый мужчина был равноправным воином[717] и, соответственно, имел возможность обогатиться во время войны. Исключительно богатые люди, имевшие возможность следовать ромейской моде, являлись редкостью.[718] Что касается северо-восточных земель пражско-корчакской культуры, то здесь, как уже упоминалось, не отмечены сколько-нибудь богатые и вообще инвентарные захоронения; нет здесь и кладов, подобных «мартыновским». Эти края были отрезаны от торговых связей с цивилизованным югом и западом, редко доходила сюда и задунайская добыча. Именно в южных областях резко возросло число рабов-пленников. О захвате и содержании дунайскими словенами огромного количества рабов не раз сообщают греческие авторы.[719] Мы не встречаем более упоминаний о ритуальных убийствах пленников — пленник превратился в высокоценную добычу, и убивали его только в случае опасности. Рабы, несомненно, наряду со скотом и драгоценностями являлись важнейшим признаком достатка в славянском обществе. Однако Подунавье было прифронтовой полосой, и рабы нередко бежали от своих хозяев;[720] могли они стать и подмогой для вражеской армии. Славянское общество того времени явно не могло поставить под действенный контроль огромные массы рабов. Именно этим вызвано некоторое изменение в их статусе. Судя по известию довольно подробно рассматривавшего этот вопрос Прокопия, в его время рабство у словен и антов было пожизненным, хотя и не слишком тягостным. Единственными возможностями освободиться тогда были выкуп и случайное возвращение на «свою» территорию. Во второй половине VI в. положение изменилось. Маврикий пишет: «Пребывающих у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как свободные люди и друзья».[721] Выбор при этом бывал отнюдь не столь однозначен, как может подуматься. В руки славян, конечно, попадали люди самого разного достатка, нрава, религиозных убеждений. В славянском обществе, где положение рабов мало отличалось от статуса младших членов семьи, многие могли завести дружеские и даже родственные связи. Число оставшихся, вне сомнения, было достаточно велико. Новые «друзья» становились полноправными членами общины, к тому же под защитой славянских законов гостеприимства. Община получала рабочие руки и воинов-защитников, подчас весьма преданных. Во всяком случае, предостерегая от доверия к так называемым перебежчикам, Маврикий с прискорбием отмечает: «Ведь есть и ромеи, переменившиеся со временем и забывшие своих; они предпочитают благосклонность к врагам».[722] На правах «друзей» в славянских общинах жили люди самого разного происхождения. Среди них могли быть как бывшие рабы, так и беглецы либо торговцы из сопредельных стран. Феофилакт Симокатта упоминает в дружине «Мусокия» гепида христианского вероисповедания.[723] Несколько иными были основания для совместного проживания со славянами в рамках единых общин целых иноэтничных групп (германцев, романцев и др.). Политическое устройство славянских племен Маврикий сначала характеризует почти так же, как Прокопий. По его словам, склавы и анты при всей своей многочисленности «не знают порядка и власти», что существенно ослабляет их перед лицом внезапного нападения.[724] Ниже он еще раз подчеркивает: славяне пребывают в «анархии и взаимной вражде».[725] Говоря о «взаимной вражде», Маврикий без сомнения имел в виду — в том числе — межплеменные распри и непрочность племенных союзов. Далее он упоминает о несогласиях славянских вождей друг с другом.[726] Но подразумевает он также и внутриплеменные разногласия, с легкостью обнаруживающиеся на вече и могущие проявиться даже в бою. Славянский политический строй ромеи по-прежнему воспринимали как анархию. Теперь уже удавалось время от времени вступать в «соглашения» с отдельными приграничными племенами, и это свидетельствовало о значительном развитии самого славянского общества. Но, — предупреждает Маврикий, — «они вообще вероломны и ненадежны в соглашениях, уступая скорее страху, нежели дарам». Виной тому, впрочем, не какая-то злокозненность славян, а та самая «анархия»: «Так как господствуют у них различные мнения, — поясняет император-стратег, — они либо не приходят к согласию, либо даже если и соглашаются, то решенное тут же нарушают другие, поскольку все думают противоположное друг другу и ни один не желает уступить другому».[727] Здесь перед нами — описание решения политической проблемы на славянском вече. Коллективная власть племени заключает, например, союз с Империей. Для принятия решения требуется «согласие» подавляющего большинства, если не всех участников веча. Но при этом другое племя — даже того же союза — соглашением ни к чему не обязывается, и с легкостью может открыть военные действия сразу после его заключения. С другой стороны, Империя могла использовать и использовала межплеменные раздоры и в собственных интересах. Маврикий рекомендует «некоторых из них прибрать к рукам с помощью речей или даров, в особенности тех, кто ближе к границам, а на других нападать, дабы враждебность ко всем не привела бы к объединению или монархии».[728] Итак, с одной стороны, у славян, по мнению Маврикия, царит безвластие. C другой — многочисленных вождей, которые «не согласны друг с другом», он определяет термином «рикс». Слово это со второй половины VI столетия на время закрепилось в качестве одного из ромейских обозначений предводителей славян. Феофилакт, тем не менее, определяет этот термин как слово из «языка варваров».[729] Поскольку в данном случае историк излагает сведения о словенском вожде, полученные ромеями от перебежчика-гепида, можно заключить, что «риксами» славянских вождей стали называть германцы. У самих славян этот термин совершенно не засвидетельствован. В политическом лексиконе и Империи, и германских племен «рикс» (???, rik, латинское rex) — король, наследственный и пожизненный правитель. Во второй половине VI в. власть антских и словенских вождей, по крайней мере, на сторонний взгляд, соответствовала этому понятию. Тем не менее «риксов» еще очень много, отдельные племена не сплочены в «монархию». Как «рикс» может определяться один из значительного числа мелких правителей, племенной вождь. В арабском сочинении IX в. говорится о десятках славянских «царей» во времена Маврикия.[730] В то же время термин приложим и к вождю крупного племенного объединения, каким, несомненно, выступает Мусокий у Феофилакта. Едва ли стоит сомневаться, что «рикс» передает славянское понятие «князь». В первом случае речь идет о каждом из множества «малых» князей (или владык), во втором — о великом князе. Власть князей (владык) у славян в описываемое время укрепилась. На всех уровнях она уже стала передаваться по наследству в пределах одной семьи. Одни и те же вожди предводительствовали дунайскими словенами на протяжении десятилетий — надо думать, пожизненно. Скорее всего, обычай ритуального убийства откровенно «несправившегося» князя у славян применялся все реже. По крайней мере, никаких свидетельств о нем нет. Маврикий, живописуя славянскую «анархию», ни словом не обмолвился о столь характерной детали. Славянские вожди (в том числе и с титулом князя-«рикса») выступают как представители племени во внешних сношениях и, надо полагать, носители сакральной и судебной власти. Они — и военные предводители, как Мусокий у Феофилакта. Еще одна любопытная деталь — Феофилакт впервые применительно к славянам упоминает «страну, подвластную» конкретному вождю.[731] Он же впервые говорит о «Склавинии» как особой территории за Дунаем.[732] Это свидетельствует, что славянские племена уже имели довольно четкие границы. Общая их территория признавалась у соседей особой, им принадлежащей страной. «Рикс» — не единственное обозначение вождя славянского племени в это время. Судя по труду Феофилакта, некоторые вожди, в том числе самостоятельные, весьма высокого ранга, «риксами» не числились. Один из таких предводителей у греческого историка назван «филархом», а ниже — «таксиархом».[733] Первый термин обозначает предводителя «филы», родоплеменной группы и одновременно военной единицы. «Таксиарх» — воинское звание и может служить довольно точным соответствием для славянского слова «воевода». Надо думать, в это время у славян, как у позднейших влахов или черногорцев, племенной вождь мог зваться и князем, и воеводой. При этом титул воеводы подразумевал изначально некоторое ограничение полномочий военной сферой. Отсутствие упоминаний об убийствах правителей, о ритуальных зверствах на захваченной территории знаменует некое умаление изначально большой (особенно у словен) роли воинских братств. То, что традиции, связанные с древними союзами «людей-волков», продолжали существовать долго, особых сомнений не вызывает. Однако конкретное значение союзов бойников-«волкодлаков» неизбежно падало. Они должны были отказываться от любых форм конфронтации с общиной и племенем (в том числе от свирепых воинских обрядов). Либо — превращаться в безродных изгоев, «разбойников» в современном смысле слова. Первый путь с очевидностью вел к трансформации военного «тайного» союза во вполне открытую обществу княжескую дружину. Но в описываемое время процесс этот оставался еще в начальной стадии и был довольно далек от завершения. Во всяком случае, насколько можно судить по скупым сведениям греческих источников, отборные отряды словен («из отборных и опытных воинов», «избранный цвет всего народа»[734]) не связаны с каким-то конкретным предводителем. Их следует считать скорее племенной, чем княжеской «отборной» дружиной — то есть членами воинского союза. «Отборные и опытные» воины опознаются ромеями по внешности и боевому кличу.[735] Следует помнить, что во времена Прокопия часть воинов у славян сражалась полуобнаженными — именно «волкодлаки», считавшие себя неуязвимыми в битве, подобно скандинавским берсеркам. Псевдо-Кесарий же упоминал, что словене используют в качестве клича волчий вой. Членов воинских братств имел в виду и Маврикий, когда говорил об «отчаянных юношах, имеющихся среди них [склавов и антов]» и атакующих ромеев из засад.[736] Нельзя не заметить, что праславянское слово *junakъ («юнак») со значением ‘юноша, герой-воин’[737] вполне могло обозначать членов воинских союзов. Большую часть бойников, вне сомнения, всегда составляли молодые люди. Итак, воинские союзы продолжали существовать и сохраняли известную автономию от княжеской власти. По крайней мере, так обстояло дело у словен. Есть, однако, основания считать, что у антов, где их роль всегда была меньше, произошли уже важные перемены. Распространение «мартыновских» древностей свидетельствует о зарождении в антских землях культуры нового типа — дружинной, интернациональной по происхождению, характерной для большинства народов на сходной стадии развития. Во властную элиту антского общества вливались воины, чей профессионализм сформировался не в воинских братствах, а на службе Империи. Там же были заложены основы их материального достатка, а также сложилось своеобразное «культурное лицо». Этот новый общественный слой включал выходцев из разных этносов (как антов, так и словен, болгар, аланов). Для них естественно было группироваться вокруг военных предводителей — воевод или князей. Таким образом, упрочивая власть вождей, антские племена совершали важный шаг вперед, к ранней государственности. Описание Маврикия дает нам сведения о славянских племенах юга — антах и словенах (в первую очередь, дунайских). Культура и общество северных славян, носителей суковско-дзедзицкой культуры, имели некоторые выразительные отличия. Судить о них мы можем почти исключительно по археологическому материалу. Единственный современный событиям автор, упоминающий о северных славянах и сообщающий кое-какие данные об их образе жизни — Феофилакт Симокатта. Его сообщение основано при этом на информации, полученной от захваченных императором Маврикием славянских послов к аварскому кагану. Едва ли эта информация соответствует действительности во всех своих деталях.[738] Особенности суковско-дзедзицкой культуры в немалой степени предопределились особенностями ее предыстории. Венеды представляли собой совокупность разрозненных общин или крайне небольших племен, довольно пестрого в этническом плане происхождения. Разбросанные по почти безлюдной стране, они были вынуждены вести суровую борьбу не столько с враждебными соседями, сколько с природой. Расселялись «суковцы» немногочисленными группами, и наиболее распространенный тип их поселения — небольшая весь. Ее население представляло собой патронимический коллектив, объединение нескольких близкородственных больших семей. У венедов преобладало подсечно-огневое земледелие. На давно освоенных землях, в Великой Польше или Силезии, оно могло сменяться перелогом. Там, где расселявшиеся славяне встречали германцев, продолжалось использование старых пашен.[739] При этом земледелие, скорее всего, являлось основным источником существования.[740] Но можно не сомневаться, что в этих лесистых краях намного большую роль, чем на юге, играли охота и рыбная ловля. О скотоводстве данных мало, но ранние находки шпор свидетельствуют о наличии (едва ли широком распространении) коневодства.[741] Преобладает (если не безраздельно господствует) кучевая застройка поселений.[742] Это также свидетельствует о большесемейно-патронимическом характере общественной структуры. Характерной особенностью суковско-дзедзицкой культуры, связанной с климатическими условиями, является строительство ее создателями исключительно наземных домов — изб. Сам термин «изба», впрочем, своим происхождением связан с югом и принесен на север словенскими переселенцами. Немногочисленные полуземлянки на землях Польши оставлены ими же. В суковско-дзедзицком ареале отмечены два типа наземных жилищ — наземные срубы и жилища с подпольными ямами. Последние, естественно, лучше прослеживаются археологически. Они отмечены также у словен и появились отчасти под их влиянием. Подпол устраивался посредине жилья, имел различные формы и площадь от 3 до 5,9 м2, глубина его до 0,4 м. Очаг располагался рядом с подполом, на полу самой избы. Это одно-двухъярусная каменная кладка или углубление размером примерно 2,5 м2. Печи-каменки, иногда встречающиеся в суковско-дзедзицких избах, — следствие миграции с юга. Наряду со срубами отмечены дома столбовой конструкции — свидетельство участия ославянившихся германцев в сложении культуры.[743] Послы приморских славян утверждали перед Маврикием, что «их страна не знает железа».[744] Это представляется неким лукавством или преувеличением. Во всяком случае, металлические предметы на суковско-дзедзицких поселениях, в том числе самых ранних, отмечены. Другое дело, что среди них практически нет орудий земледельческого труда, оружие же встречается крайне редко. В основном это детали одежды и украшения, чаще всего привозные.[745] Можно думать, что металлообработка была развита крайне слабо. Лепная керамика довольно близка пражско-корчакской.[746] Суковские и пражские горшки сближаются наибольшим расширением в верхней части — что резко отличает их от пеньковских. Но горло суковских горшков шире, днище невелико. На суковской посуде чуть чаще, и все же очень редко встречаются простейшие узоры — ногтевые или волнистые. Наряду с близкими к пражским отмечены также горшки биконической формы. Биконическую форму имеют и суковские миски.[747] Значительно отличались суковские племена от южных сородичей своей духовной культурой. Это проявляется, прежде всего, в особенностях погребального обряда. Могильники суковцев нам почти совсем неизвестны. Сохранились следы разбрасывания остатков кремации умерших на поверхности, в определенных местах.[748] Единичные грунтовые могильники Повисленья — еще один след переселения словен с юга. Именно в суковском ареале отмечено длительное сохранение жестоких обычаев, регулирующих численность населения. Потомки венедов в Восточной Германии и Поморье еще в средние века убивали новорожденных девочек и расправлялись с немощными стариками.[749] Сохранение или возрождение этих явлений надо связывать с крайне тяжелыми условиями жизни суковских общин. Следует отметить, что для суковцев было характерно особое поклонение богу загробного мира Велесу и, должно быть, иное отношение к смерти, чем у большинства славян. Это каким-то образом находит отражение и в их погребальном обряде. Изменения в религиозной сфере, связанные с воздействием других славянских племен, происходили медленно и не у всех венедов. Любопытная деталь, связанная с культурой славян Севера, — именно у них, а не у более знакомых антов или словен, греческий автор впервые упоминает музыкальный инструмент. Захваченные Маврикием послы не имели при себе никакого оружия, зато несли «кифары»[750] — широко известные у славян гусли. Если верить их словам, то музыка («безыскусные мусические упражнения», в трактовке ромейского автора) была весьма развита у славян Поморья. Очевидно, что венеды дольше сохраняли архаику и в своем общественном строе (например, значительное влияние автономных от общин воинских союзов). Княжеская власть, основанная на представлении о происхождении вождей от Сварога-Перуна, была принесена с юга и сначала воспринималась как «рабство». У ободричей, в отличие от соседних велетов, двусоставные «княжеские» имена не были в ходу еще и в конце VIII в. О том, каков был политический строй венедов в Поморье, позволяет отчасти судить Феофилакт. Правителей их он определяет как «этнархов».[751] Слово «этнарх» может обозначать «старейшину», мелкого варварского вождя. «Этнархи» племени принимают совместные решения, в частности, по внешнеполитическим вопросам, отправляют от имени племени послов — но от «монархии» эта ситуация отстоит весьма далеко. «Этнархи» соответствуют зажиточным «господам», панам — старшинам отдельных патронимий, объединенных в соседские общины-миры и далее в племя. Едва ли можно предполагать в это время наличие у венедов Полабья и Поморья крупных племенных союзов. О крайней дробности их политического деления свидетельствует большое число равных по значению городищ, возникающих здесь в конце VI в.[752] «Этнархи» обладали частной собственностью. Известно, что лично они принимали дары от аварского кагана, а клады (результат тех самых даров) найдены в Поморье археологами.[753] Нет, однако, никаких оснований полагать, что до начала прямых контактов с каганатом имущественное расслоение у венедов Поморья или полабского региона зашло сколько-нибудь далеко. Не было им известно и денежное обращение — но драгоценный металл использовался в качестве эквивалента. Развитие общественных и экономических отношений в северном славянском регионе происходило по мере расширения контактов с Аварским каганатом и особенно с Франкским государством. Но определялось это развитие, конечно, внутренней потребностью славянского общества. Военное делоДлительные войны славян против Империи дали в рассматриваемый здесь период богатый материал ромейским авторам, описывавшим вооружение и тактику противника. Специальное внимание боевым характеристикам «варваров» уделяют, разумеется, Маврикий и Военный Аноним. Но и другие писатели сообщают ценные сведения о военном деле у словен. Антам, не являвшимся постоянными противниками Империи, естественно, уделяется меньше внимания. По Маврикию, каждый славянский воин (и «склав», и ант) «вооружен двумя небольшими копьями».[754] По словам Иоанна Эфесского, это было основное, чаще всего единственное оружие словен, предназначенное для метания.[755] Нередко встречались у славян сделанные из дерева луки с небольшими отравленными стрелами. Наконец, некоторые воины прикрывались щитами — как говорит Маврикий, «крепкими, но труднопереносимыми».[756] Эти сведения о славянском оружии полностью соответствуют археологическому материалу, в котором отмечены металлические наконечники стрел и копий. Ножи и топоры, также засвидетельствованные археологами, для боя не предназначались. Однако этим арсенал славянского воина не исчерпывался. Во время войн и набегов в виде трофеев славянам доставалось самое разное оружие.[757] В частности, высоко ценились мечи, наличие которых у славян косвенно засвидетельствовал Менандр.[758] Примерно в описываемое время из древневерхненемецкого языка было заимствовано слово «броня».[759] Насколько можно судить по свидетельствам современников, славяне сражались преимущественно пешими. Однако при набегах на Империю в руки им попадало достаточное количество коней, чтобы создать конницу.[760] К концу VI в. она у дунайских словен уже имелась.[761] У антов же, судя по устойчивым мотивам их искусства, коневодство всегда играло немалую роль. Следует отметить, что верховая езда отмечена археологами и для чрезвычайно удаленных от имперских границ племен — у венедов на землях нынешней Польши. Маврикий оставил красочное, но несколько противоречивое описание боевой тактики славян. Сперва[762] он повествует, что «они ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремятся, ни показываться в местах открытых и ровных не желают». Последнее совпадает со свидетельствами более ранних и современных авторов, которые единогласно свидетельствуют, что славяне предпочитали для войны места лесистые и гористые. «Если же и придется им отважиться на сражение, — продолжает Маврикий, — они с криком все вместе понемногу продвигаются вперед. И если неприятели поддаются их крику, стремительно нападают; если же нет, прекращают крик и, не стремясь испытать в рукопашной силу своих врагов, убегают в леса». Там славяне имеют «большое преимущество, поскольку умеют сражаться подобающим образом в теснинах» — еще один отмеченный уже Прокопием факт. Более того, по описанию Маврикия, славяне нередко бежали в леса, будучи застигнуты с добычей. Но как только противник скапливался у брошенного обоза, славяне внезапно обрушивались на него. Судя по «Стратегикону», подобную хитрость они применяли не раз. 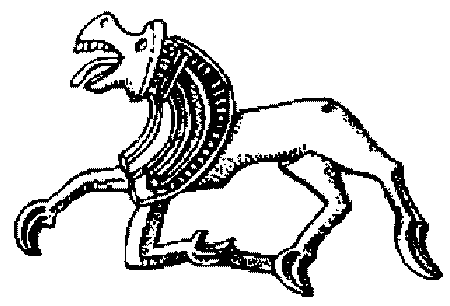 Стилизованная фигурка коня из Мартыновского клада В другом месте — и здесь-то можно увидеть некое противоречие — Маврикий описывает достаточно правильное сражение со славянской ратью. Славяне здесь уже имеют некий строй. Во всяком случае, «занимая более укрепленное место и будучи защищенными с тыла, они не допускают возможности, чтобы подвергнуться окружению или нападению с флангов либо с тыла». Император предлагает в таком случае завлекать славян в засаду притворным бегством.[763] Скорее всего, противоречие кажущееся. В первом случае описывается славянская атака, действительно выглядевшая на взгляд ромея беспорядочной. Хотя можно предположить, что в первых рядах сражались члены воинских братств — их боевой клич и внешний вид должны были повергнуть противника в страх. Далее говорится о славянах, застигнутых на марше — причем стоит обратить внимание, что добычу они держали в одном месте строя, так что она могла служить зримой приманкой для противника. Во втором же описании характеризуется славянская оборона, удерживание занятой позиции (например, в тех же «теснинах»). Разбить ее можно было, по мнению Маврикия, спровоцировав славян на анархическую, по их обыкновению, атаку. И Маврикий в данном фрагменте, и Военный Аноним[764] говорят об эффективности применения засад в войне со славянами. Но если автор трактата «О засадах» относится к славянам довольно пренебрежительно и не говорит об опасности засад с их стороны (в отличие от болгар), то Маврикий более осведомлен. Он не раз подтверждает известный уже Прокопию факт — славяне и сами чрезвычайно искусны в военных хитростях, внезапных нападениях, засадах.[765] Маврикий приводит любопытный пример военных хитростей славян. По его словам, они «мужественно выдерживают в воде, так что часто некоторые из них, оставшиеся дома и внезапно застигнутые опасностью, погружаются глубоко в воду, держа во рту изготовленные для этого длинные тростинки, целиком выдолбленные и достигающие поверхности воды; лежа навзничь на глубине, они дышат через них и выдерживают много часов, так что не возникает на их счет никакого подозрения. Но даже если тростинки окажутся заметными снаружи, неопытные посчитают их растущими из-под воды».[766] Уже во времена Прокопия, при нашествии 550–551 гг., славяне впервые стали захватывать укрепленные города. Тогда еще неизвестно о применении ими каких-либо сложных технических средств. Но славяне учились — и у самих ромеев, на службе им, и у имеющих немалый опыт кочевников. Во всяком случае, при осаде Фессалоники в 586 г. славяне уже имели немало разнообразных осадных приспособлений.[767] Греческие авторы отмечают особые способности славян в наведении переправ через водные преграды. Так, Маврикий пишет: «они опытнее всех людей и в переправе через реки».[768] Феофилакт Симокатта отмечает, что авары пользовались руками славян для переправы через Дунай.[769] Для переправы, как и для движения по рекам, славяне использовали плоты и челны-однодеревки. На славянском челне умещалось два десятка воинов.[770] Во второй половине VI в. славяне впервые спускают свои суда на море. Первым подобным примером, как уже говорилось, была попытка проникнуть морем за стену Херсонеса Фракийского в 559 г. Тогда «гунны» (а вернее, надо думать, словене из гуннского войска) построили примитивные транспортные плоты. При этом они не слишком умело подражали ромейскому кораблестроению. О том, что представляли собой эти первые морские суда славян, можно судить по сообщению Агафия Миринейского: «Они собрали огромное количество тростника, самого длинного, крепкого и широкого и, окропив стебли и увязав их веревками и шерстью, изготовили множество плотов. Сверху поперек они наложили прямые деревянные бревна, как скамьи для гребцов, но не везде, а только по краям и посередине. Скрепив их самыми крепкими узами, они соединили и связали между собой как можно прочнее так, чтобы три или четыре образовали один плот, имеющий достаточное пространство для помещения четырех гребцов, и чтобы они способны были выдержать тяжесть помещенного там груза и не затонули вследствие недостаточной величины… Чтобы увеличить их плавучесть, передние их части немного округлили и загнули назад наподобие носа и, подражая бортам корабля и парапетам, они приладили с каждой стороны колки для весел и устроили нечто вроде передней и задней частей корабля, где не было весел и скамей для гребцов».[771] Мы помним, что первая попытка морского боя кончилась для славян неудачно. В 586 г. под Фессалоникой они строили «широкий деревянный плот» — вновь не добившись в морском штурме успеха.[772] Впрочем, уже спустя год после осады Фессалоники славяне успешно вторглись на остров Эвбею. Негативный опыт учитывался, и в VII в. греческий автор уже признавал, что славяне «приобрели большой навык в отважном плавании по морю с тех пор, как они начали принимать участие в нападениях на Ромейскую державу».[773] Навык этот обретался не только на южных морях. В последних десятилетиях VI в. славяне на севере достигли Балтики. Уже в следующем веке они оказались в состоянии совершить переселение через ее воды на остров Рюген. Военное дело славян развивалось и совершенствовалось в борьбе с ромеями и кочевниками. Слабые стороны славян — первобытный характер общества, отсутствие централизации, известная стихийность войн и набегов — были в то же время и сторонами сильными. Они делали невозможным, прежде всего, насильственное подчинение славянских земель, организацию на населенной славянами территории постоянного чужеземного управления. Силы славян и Империи были несопоставимы — но славяне начали с ромеями войну на измор в условиях, когда Константинополю противостояли и более сильные враги. Глава третья. Второй штурм имперских границВторое нашествиеОтносительно мирная передышка в отношениях между дунайскими словенами и Империей продлилась до середины 570-х гг. Но она не означала прекращения расселения славян — как словен, так и антов, — на землях Империи. Всю вторую половину VI в. шло постепенное просачивание славян в провинцию Скифия. Оседание их здесь не сопровождалось никаким сопротивлением имперских властей. Более того, важнейшим центром славянского присутствия еще с начала века оставалась крепость Диногеция — опорный пункт ромеев на Дунае. Здесь анты и словене жили на правах федератов Империи, сохраняя при этом все черты своей культуры.[774]  Могильник Сэрата-Монтеору. Современный вид Если Империя, надеясь защитить границы от других врагов, сквозь пальцы смотрела на занятие славянами Малой Скифии, то новое положение дел едва ли устраивало всех местных жителей. Археология фиксирует постепенную «варваризацию» культуры области. Та часть местных жителей, которая уцелела после набегов кочевников и тех же словен, либо покидала Скифию, либо должна была смешаться с пришельцами. С другой стороны, избравших последний путь было не так уж мало. По крайней мере, пришлые «варвары» смогли перенять и развить навыки прежних обитателей в действительно важных для себя областях — в добыче и обработке металлов, в земледелии.[775] Словене, конечно, не всегда приходили с миром. После ухода авар на запад мелкие набеги, сопровождавшиеся грабежами и захватом пленных ромеев, возобновились. Они не прекращались в течение всей первой половины 570-х гг.[776] Эти предприятия, однако, носили локальный характер и не нашли никакого конкретного отражения в источниках. Основной причиной, побуждавшей словен искать новых мест к югу от Дуная, несомненно, являлась возраставшая численность населения. Судя по масштабам развернувшегося в 578 г. славянского нашествия, накануне его к северу от Дуная скопилась огромная масса безземельных словен. Именно это и разрушило долгий, хотя ненадежный и негласный, мир между основной их массой и Империей. Причина могла быть только одна — внезапный и почти одномоментный приток нового населения. Материалы могильника Сэрата-Монтеору показывают, что переселения с севера в земли дунайских словен происходили периодически на протяжении второй половины VI в. Источником для этих миграционных волн служил «пражский» ареал.[777] Первую из них, проложившую путь последующим через ранее принадлежавшее антам поречье Прута и Сирета, следует отнести к 560-м или 570-м гг., времени после разгрома антов аварами. Не будет, скорее всего, ошибочным предположение, что именно эта волна сдвинула с места массы словен около 577 г. Источником миграции стали дулебские земли по Западному Бугу. Проходя через Верхнее Поднестровье и нынешнюю румынскую Молдову, дулебы покорили или увлекли с собой местные антские племена. В VII в. такие антские племена, как северы и сагудаты, уже считались словенами. В миграции, вызванной, скорее всего, нехваткой пахотных земель в Полесье, участвовали самые северные дулебские племена — дреговичи и берзичи с далекой Припяти. Миграция имела своим непосредственным итогом установление непосредственной границы и прямых связей между дунайскими словенами и дулебским племенным союзом под предводительством Мусокия-Маджака. Любопытно, что только с 580-х гг. мы имеем определенные сведения об употреблении у дунайцев двусоставных княжеских имен. Антские племена, оставшиеся на своих местах, влились в один из словенских союзов. Некоторые из них были увлечены переселением дулебов и переместились в их числе в Мунтению. Граница между Империей и условно-союзными ей антами в последующий период ограничивалась дельтой Дуная. Переселение родственных дулебов не привело к серьезным столкновениям даже с антами, тем более с родственными дунайскими племенами. Дунайцы приняли дулебов с миром. Лучшее свидетельство тому — сохранение структуры дунайского союза. Его в конце 570-х гг. возглавлял все тот же Добрята. Но вожди дунайцев должны были решать проблему расселения пришельцев — тем паче, что за этими шли другие, не только из дулебских, но и из «ляшских» земель. Самым лучшим, если не единственно возможным вариантом была переправа через Дунай. Мы лишены данных о непосредственном начале вторжения, хотя Менандр в утраченной части труда что-то сообщал.[778] Обстановка складывалась благоприятно для словенского нашествия. Держава ромеев, казалось, агонизировала. В 573 г. лангобарды, авары и персы почти одновременно разгромили имперские войска в Италии, Фракии и Сирии. Император Юстин, полностью отчаявшись, сошел с ума, к тому же его разбил паралич. Императрица София добилась в 574 г. назначения кесарем — фактическим правителем Империи — полководца Тиверия. Тиверий, за год до того разбитый аварами, поспешил заключить с ними мир. Перемирие удалось было заключить и с персами. Но в 576 г. военные действия на восточной границе возобновились. Тиверий попытался обратиться за помощью к тюркам, с которыми Империя с 568 г. поддерживала союзные отношения. Но их каган к тому времени сам заключил мир с Ираном и не собирался его нарушать ради ромеев. Имперские послы получили от Турксанфа, сына Истеми и правителя западной части каганата, резкую отповедь, смешанную с угрозами. Турксанф небезосновательно обвинил Империю в двуличии, в заигрывании и с ним, и с Баяном. К этому времени тюрки уже разгромили и покорили Аланию и утигур. Ромеи лишились последних возможных союзников в Степи. Ответом на посольство Тиверия стала война. Турксанф двинул свою орду к Боспору — опорному пункту Империи в Приазовье. Когда под ударами тюркютов и утигур Боспор пал, Турксанф атаковал ромейские границы в Крыму и Закавказье.[779] В этой-то обстановке на фракийскую границу обрушились словене. Нашествие началось на рубеже 577/578 г.[780] Славяне, как и в 559 г., могли перейти замерзший Дунай по льду. После этого огромная масса «варваров» атаковала ромейские земли во Фракии. Менандр оценивает число вторгшихся словен в 100 000.[781] Даже если цифра эта преувеличена, скажем, вдвое, она о многом свидетельствует. Во-первых, речь идет о нашествии, многократно превосходящем по своим масштабам все предыдущие. Вторглось не просто войско — целый «народ» шел с семьями в поисках новых мест поселения. Словене рассеялись по диоцезу Фракии, проникнув в сопредельные земли, действуя во многих местах одновременно. Это посеяло панику и создало преувеличенное представления об их численности. Между тем Империя не могла организовать должного отпора. На востоке велись затяжные переговоры с персами, и снять оттуда войска у Тиверия не было возможности. Воевать приходилось и в Африке с берберами, и в Приазовье с тюркютами. Балканские провинции оказались предоставлены сами себе. Сильнее всего пострадала, конечно, Фракия, подвергшаяся первому и наиболее сильному удару. Она была разграблена, причем «многие города римлян», захваченные словенами, оказались полностью опустошены и заброшены.[782] Словене пока не оседали на новых местах, стремясь полностью очистить и обезопасить их для себя. Нашествие очень быстро выплеснулось за границы диоцеза. Словене не решились двинуться к Константинополю, и направились главным потоком на запад, в Иллирик. Причем целью их стали не придунайские земли, прилегающие к рубежам Аварского каганата, а пределы Эллады. Вскоре основные силы словен уже опустошали Грецию.[783] На этот раз Фермопилы не остановили вторжения. Насколько велик был ущерб, неясно. Кажется, что в тот год словенам еще не удалось захватить ни одного крупного города. Тиверий весной 578 г. оказался в крайне затруднительном положении. Войск, чтобы защитить Европу, ему не хватало. Главная угроза, с его точки зрения, исходила все же от персов. Приходилось для защиты Запада искать союзников вне границ Империи. Между тем союз с антами никак себя не проявил. Он мог использоваться лишь против авар, врагов антов. В настоящее же время Империя находилась в «дружеских» отношениях с Баяном. Анты логично должны были сократить или прервать контакты с Константинополем и искать других союзников — среди общих врагов ромеев и авар. Можно не сомневаться, что отдельные антские отряды участвовали в боях как тюрок и болгар, так и словен с ромеями. Ромейские офицеры времен Тиверия — Маврикий и Военный Аноним — в своих руководствах по военному делу однозначно считают антов врагами или потенциальными врагами, о чем уже говорилось. Итак, на антов Тиверию надеяться не приходилось. Единственной возможностью — хотя кесарь не мог не сознавать опасности этого шага — оставалось в сложившихся обстоятельствах обращение к Баяну. Аварский каган умело разыгрывал роль «друга» ромеев. Как бы хорошо ни понимали в Константинополе неискренность кагана, положение было слишком тяжелым. И надо признать, что Баян оправдал надежды Тиверия. Кесарь обратился к кагану с просьбой — «поднять войну против славян, чтобы те, кто разоряет ромеев, отвлекаемые своими бедствиями и желая помочь отчизне, скорее бы прекратили разорение ромейской, а другие приняли на себя опасности своей [земли]».[784] Баян с готовностью откликнулся. Он давно ждал повода и возможности расплатиться с Добрятой за гибель своих послов. Не последним (а может, и главным) аргументом была для аварского кагана и возможность захвата богатой добычи: «издавна ромеи опустошались славянами, их же собственная земля каким-либо другим из всех народов — никоим образом».[785] Кроме того, помощь Империи усыпила бы бдительность Тиверия в условиях, когда Баян уже подумывал о нарушении мира. Ромейский военачальник Иоанн организовал переправу войск Баяна через Саву в Иллирике. Переправилось, по данным Менандра (впрочем, как отмечает он, так «говорят»), огромное войско — около 60 тысяч всадников. Это шесть «туменов» по счету самих кочевников. Во всяком случае, численность армии авар и подвластных им племен была сопоставима с разбредшимися по землям Империи словенами и превосходила их в вооружении. Конница Баяна была «облачена в панцири». Основные силы напавших словен находились в Греции, и на землях Мезии и Скифии серьезных столкновений не произошло. Иоанн без каких-либо проблем провел орду Баяна по северным пределам Империи и в низовьях Дуная переправил их через реку на заготовленных для этой цели грузовых судах. Баян «немедленно» обрушился на словен. Удар его был неожидан. В условиях массового нашествия словенские вожди не могли предвидеть ответа из-за Дуная. Свидетельство Менандра подтверждает его слова о многочисленности аварского войска. Словене не осмелились вступить в битву. Подавленные, как представляется, численным превосходством кочевников, «они убежали в чащи и укромные уголки леса». Баян безнаказанно «принялся жечь деревни славян, разорять поля, все грабить и опустошать». Едва ли добыча обманула его ожидания.[786] Неизвестно, как именно отреагировали на вторжения Баяна словене, действовавшие за Дунаем. Однако разорение Балкан прекратилось, и заселения Греции славянами в эти годы еще не произошло. Словене отхлынули из Эллады назад к Дунаю. Частично они могли вернуться за реку, чтобы попытаться противостоять Баяну, частично остаться в Скифии, где прирост славянского населения не прерывался. Столкновение с аварами оказалось для словен неудачным. Нашествие было грандиозным предприятием, в которое втянулись многие племена. Земли самих дунайцев не готовились к обороне. Удовлетворив себя грабежом, Баян навязал словенам мир на своих — и Тиверия — условиях, и дунайцы вынуждены были согласиться. В числе условий было прекращение военных действий против Империи. Словене освобождали всех ромейских пленных. Как позже хвалился Баян, он «много мириад пленников из ромейской земли, у словен бывших в рабстве, снова вернул ромеям свободными». Дунайским словенам была назначена ежегодная дань в пользу Баяна.[787] С тем авары и покинули разоренную страну, — вновь пройдя по землям Империи. Судьба Добряты неизвестна. Но едва ли он пережил торжество питавшего к нему давнюю личную «вражду» Баяна. Описываемые события произошли весной — в начале лета 578 г. Тиверий добился своего. Но появление авар в Нижнем Подунавье стало крупной стратегической ошибкой кесаря. Натиск тюрок на рубежи Империи стал только сильнее. Турксанф стремился свести счеты со своими «беглыми рабами», показавшимися теперь в пределах досягаемости. С другой стороны, рейд Баяна не мог не обеспокоить антов. Они должны были охладеть к ромеям и искать себе новых сильных партнеров. Нет ничего удивительного в том, что к моменту восшествия на престол Тиверия после смерти Юстина II (сентябрь 578 г.) союз Империи с антами распался. Позже его пришлось воссоздавать.[788] Есть основания думать, что новых союзников анты на время обрели в лице тюрок Турксанфа. В подчинение к ним в ту пору попали болгарские племена — давние соседи антов, связанные с ними разнообразными узами. Своим наместником над болгарами Турксанф назначил некоего Гостуна из рода Ерми — судя по славянскому имени, как минимум полуанта. Гостун стал первым правителем нового болгарского племенного союза в Приазовье, созданного под протекцией тюрок из признавших их власть оногур, кутригур и утигур. Его приход к власти датируется 579 г.[789] Анты имели не менее оснований, чем Турксанф, быть недовольными заигрыванием Тиверия с Баяном. По сути, отношение антов и тюрок к аварам и к аваро-ромейской «дружбе» не могло не совпадать. Анты едва ли вошли в прямое подчинение Тюркскому каганату. Но личность Гостуна в таких условиях могла стать залогом и воплощением союза между антами или их частью и тюрко-болгарами. В известной степени этот эпизод являлся многозначительным прологом к появлению на этнической карте Европы славяно-болгарской народности. Начало третьего нашествияДунайские словене впервые со времен Аттилы оказались под игом иноязычных завоевателей. Но Баян не подумал о том, чтобы закрепить свое новое приобретение. Удовлетворившись назначением дани, он не остался в Нижнем Подунавье. Словене же не стали мириться с унижением. Когда в 579 г. аварские послы явились за данью, они ничего не получили и в конце концов были убиты.[790] Независимость дунайцев была, таким образом, восстановлена. Именно тогда во главе племенного союза встал вождь Радогост (Ардагаст греческих источников[791]), правивший уже к 585 г. и неплохо известный ромеям.[792] Это первый достоверно известный правитель словен с двусоставным («княжеским») именем. Он находился в союзе с могущественным словенским «риксом» на севере — «Мусокием».[793] Ища опоры в борьбе против авар, дунайцы вступили в дулебский племенной союз Маджака (Мусока). Из дулебских земель пришло в те годы на Дунай немало переселенцев. Можно предположить, что Радогост был из их числа. Можно предположить также, что он выступал как прямой представитель дулебского «царя» на юге. Но это не более чем догадки. Интересно, что Радогост именовался не князем («риксом»), а лишь воеводой.[794] Естественно было бы полагать, что последует война между словенами, теперь консолидировавшимися на пространстве от Дуная до Припяти, и аварами. Но этого не произошло. Напротив, в последующие годы обе стороны действуют против общего противника — Империи — и закономерно вступают в союз. Союз этот сложился не сразу, но в целом был предопределен. Убийство словенами аварских сборщиков дани лишь дало Баяну давно желаемый повод к войне с Константинополем. Яблоком раздора между аварами и ромеями стал Сирмий (ныне Сремска Митровица) — хорошо укрепленный город на левом, северном берегу Савы. Прежняя столица гепидских королей была передана ими Империи в 567 г., в надежде на союз против авар. Баян считал, что поскольку Империя помощи гепидам не оказала, а теперь и признала его право завоевателя, Сирмий по этому самому праву принадлежит ему. В Константинополе, конечно, считали иначе — Сирмий, помимо прочего, являлся надежным оплотом имперского присутствия в Паннонии и базой на случай войны с аварами. Отношения между Баяном и Тиверием вошли в полосу кризиса сразу после общей (по сути же, Баяновой) победы над словенами. Есть основания думать, что пребывание авар на землях Империи в 578–579 гг. уже отнюдь не было мирным и безопасным для ее граждан.[795] Получив же от императора «дань» (плату за мир и союз) 579 г., Баян окончательно сбросил маску «друга».  Монета императора Тиверия Огромное войско во главе с самим каганом уже в конце 579 или в начале 580 г. прибыло к Саве. Баян занял позицию между Сирмием и Сингидуном, главным опорным пунктом Империи в Среднем Подунавье. Часть авар прошла вниз по Саве, перерезая речной путь. Сверх того, Баян начал строить мост, чтобы переправиться на южный берег и, таким образом, полностью блокировать Сирмий, прервав его сообщение с Империей. Стратиг Сингидуна Сеф потребовал от Баяна объяснений. Баян заявил, что строит мост, дабы опять через земли Империи напасть на словен, от которых «терпит оскорбления». Каган потребовал от императора судов для переправы, но при этом настаивал, что сам будет продолжать строительство. Присягнув, что не замышляет никакого зла Сирмию, каган отправил через Сингидун послов к Тиверию.[796] В Константинополь послы Баяна прибыли в 580 г. Прием они встретили прохладный. Тиверий, не раз имевший дело с Баяном, понял его замысел. Но силы ромеев в Европе оставались слабыми — на востоке с новой силой полыхала война с персами, а Турксанф осаждал Херсонес. Тиверий решил потянуть время и сделал вид, что не понимает намерений кагана. Между тем развернулись события, по видимости, подтверждавшие правоту Баяна. Поздней осенью 580 г.[797] словене вновь вторглись в пределы Империи. Началось третье и самое мощное в VI в. словенское нашествие. События развернулись в столь удобный для Баяна момент, что можно было бы думать о сговоре его со словенами. Но это не так — дунайцы и авары пока еще оставались врагами. Начиная нашествие, словене руководствовались своими интересами. Неудача предыдущего вторжения и непрекращающийся приток людей с севера усугубляли проблему перенаселения. После же опустошительного похода Баяна ресурсы Нижнего Подунавья полностью истощились. Их можно было пополнить (а заодно найти новые места для жительства) только путем войны. Масштабы развернувшихся в 580–588 гг. событий убеждают в том, что численность вторгшихся словен была не меньшей, чем в 577–578 гг. По сути, в течение восьми лет на Балканах не осталось области, не затронутой нашествием. Военные действия вели одновременно десятки переселявшихся родов и племен, а также возвращавшихся после первых успехов за Дунай боевых отрядов. Первый удар словен на этот раз принял Иллирик.[798] Переправившись через Дунай ниже Сингидуна, словене, большей частью не задерживаясь в придунайских землях, вторглись в Элладу. Путь их лежал через гористый Эпир. Греческие области были слабо защищены. Крупные города в тот год еще не пали, но вне их стен безнаказанно хозяйничали «варвары». Словене продвигались «стремительно». Они пронеслись, опустошая все на своем пути, «через всю Элладу» (Среднюю Грецию). Коринф, однако, устоял и служил надежной преградой для вторжения на Пелопоннес. К Фермопилам же словене подошли уже не с севера, а с юга, из разоренной Ахайи. По всему пути следования отдельные группы славян оседали на имперских землях.[799] Однако даже славянское нашествие не побудило Тиверия довериться кагану. Император прекрасно понимал, — согласившись на настойчивые предложения Баяна, он лишь допустит на земли ромеев еще одного врага. Впрочем, Тиверий убеждал аварских послов, «что и сам хочет, чтобы они двинулись против славян, разоряющих многие владения ромеев». Но «время не благоприятствует намерению авар» — «тюрки уже стали лагерем у Херсона и быстро узнают, если они переправятся через Истр». Запугивание тюрками всегда казалось надежным орудием в руках ромеев. Сработало оно, по видимости, и на этот раз. Посол, по словам Менандра, притворился, что принял логику императора, и обещал отговорить кагана от похода. Возвращался он с небольшим ромейским конвоем. В Иллирике, по пути к Сингидуну, аварское посольство столкнулось с одним из словенских отрядов. Послы и их сопровождающие были перебиты. Щедрые императорские дары, с которыми был отпущен аварский посланец, достались словенам.[800] В 581 г. каган с новым посольством открыто потребовал «вернуть» себе гепидский Сирмий. Тиверию ничего не оставалось, как принимать экстренные — и все же запоздавшие — меры к спасению города. В тот год он лишился даже возможности столкнуть авар и тюрок. В Тюркском каганате разгорелась междоусобная распря. Турксанф прекратил военные действия в Закавказье, где тогда находился, и повернул на восток. Сразу после этого пала власть тюрок в приазовских степях. Наместника Гостуна сменил в качестве уже независимого общеболгарского хана воспитанный в Византии юный Куврат из рода Дуло, восходившего к Ирнику, сыну Аттилы.[801] Задачей основателя будущей «Великой Болгарии», при всех его связях с ромеями, являлась консолидация под своей властью все еще достаточно разрозненных племен, а не вмешательство в балканские дела. Итак, Баяну противостояли лишь те ничтожные силы, которые Тиверий мог держать в Европе и при этом не бросил против словен. Тюрок же аварский каган мог не бояться. Когда строительство моста было завершено, авары переправились через Саву. Война началась предсказуемо неудачно для ромеев. Авары отрезали Сирмий от остальной Империи и плотно осадили. Они также опустошили вслед за словенами Иллирик вплоть до «частей Греции».[802] Тогда-то и началось смешение отдельных аварских и словенских отрядов. Это было тем более естественно, что в войске Баяна наверняка находились среднедунайские словене — подвластные ему мораване. Сближение авар и дунайцев явилось естественным следствием военных действий против Империи, которые они разворачивали примерно на одной и той же территории. Отсутствие же в обоих племенных объединениях (но особенно у словен) твердого военного единоначалия способствовало соглашениям на уровне командиров. Такие соглашения, несомненно, заключались еще тогда, когда словен и авар разделяла формальная вражда. На севере, у Дуная и Савы, где располагалась ставка кагана, в 581–582 гг. верховодили авары, тогда как на юге, в Греции и на юго-западных подступах к Фракии, преобладали словене. Серьезного сопротивления на своем пути они не встречали. Тиверий справедливо в целом связывал главную опасность для столицы с ордой Баяна. Потому главным фронтом для военных и дипломатических усилий был Сирмийский. Отдаленные южные провинции были фактически брошены на произвол судьбы, и словене разоряли их совершенно безнаказанно. Между тем они уже подступали к границам Фракии. Из «Эллады», где они зимовали, словене столь же «стремительно» (скорее всего, в 581 г.) вступили в «пределы Фессалоники»[803] — то есть в Первую Македонию. Фессалоника была давним предметом вожделения словен и важнейшим опорным пунктом Империи на Эгеиде. Но на этом этапе нашествия словене еще не решились осаждать город, ограничившись разорением «пределов». Однако к этому времени относится попытка нападения, описанная епископом Иоанном в «Чудесах святого Димитрия Солунского».[804] К Фессалонике двинулось до 5000 словен — «отборных и опытных воинов», «избранный цвет всего народа». Это были члены воинских братств, рассчитывавшие, по меньшей мере, разграбить предместья. В виду городских стен словенское войско появилось перед рассветом 27 октября 581 г. Накануне город праздновал день своего покровителя — Димитрия Солунского, и едва ли знавшие об этом словене имели, тем не менее, все основания рассчитывать на внезапность ночного нападения. На равнине к северу от Фессалоники словене натолкнулись на укрепленный комплекс храма Святой Матроны, прикрывавший подступы к городу. Не задерживаясь под его стенами, их авангард достиг храма Трех мучениц «на кратчайшем расстоянии от города». Но здесь наступление словен внезапно для них было остановлено массой вооруженных горожан. Как раз наступил рассвет, и фессалоникийцы, раскрыв ворота, атаковали противника. Горожане оказались на стенах, по рассказу очевидца событий Иоанна, в результате серии удивительных совпадений. Той ночью в храме Святого Димитрия случился пожар, тушить который сбежалась вся городская молодежь. Огонь победили, но избавиться от добровольных помощников у служителей храма теперь не было никакой возможности — толпа не расходилась, невзирая на уговоры. Тогда один из служителей, ветеран гвардии иллирийского префекта, опасаясь, что в суматоху затешутся воры, стал кричать: «Горожане, варвары неожиданно появились у стен, все выходите с оружием за отечество!» Приблизившееся нашествие словен, разумеется, держало город в постоянном напряжении, и опытный воин справедливо рассудил, «что нет способа легко и под удобным предлогом изгнать толпу из храма, чем выставить в качестве предлога внезапное нападение варваров». Фессалоникийцы разбежались по домам, а затем, вооружившись, спешно поднялись на стены. Позже, когда служители, занятые уборкой, услышали отдаленный шум битвы и знакомые словенские кличи, ветеран признался им в обмане. Битва была упорной — горожане и словене вступали в схватку не менее трех раз, причем с переменным успехом. Однако словене не ожидали вовсе столь упорного сопротивления. К стенам они так и не пробились, станом встать не могли. Единственной возможностью для сравнительно небольшого отряда являлось отступление. Иоанн отмечает, что словене «отступили в меньшем числе, чем напали». Впрочем, конечно, не обошлось без потерь и с ромейской стороны.[805] Фессалоника отбила атаку, но македонские «пределы» словене разорили. И без Фессалоники, по словам Иоанна Эфесского, они «захватили много городов и крепостей: они опустошали, и жгли, и захватывали в плен».[806] Из Македонии словене вторглись во Фракию. Вторжение словен во Фракию из Иллирика произошло уже в последний, четвертый год правления Тиверия (осень 581 — лето 582).[807] В тот год словене опустошали и Фракию, и уже отчасти захваченные области Иллирика. Их набеги охватили «всю» Фракию (весь диоцез, а не только провинцию Фракия).[808] Военные действия начались и в Нижнем Подунавье, в Скифии. В результате активизации местных словен пала Диногеция.[809] Присутствие славянского (антского и словенского) населения в стенах города не помешало или даже способствовало этому. Крепость разрушили и сожгли. Ее уничтожение ослабило ромейскую оборону на Нижнем Дунае. Между тем в 582 г. авары, наконец, взяли блокированный Сирмий. Надежды на его отвоевание не было никакой — Персидская война поглощала все силы Империи. Смысла в продолжении военных действий императорский двор не видел. Требовалось лишь выйти из войны с наименьшими потерями. На довольно позорных условиях мир с каганом был заключен. Ромеи не только безвозмездно уступали потерянный Сирмий, но и вносили каганату оплату федератства (теперь уже неприкрытую дань) в прежнем размере 80 000 номисм и обязывались неукоснительно выплачивать ее впредь. Добившись своего, авары отошли за новые границы. Тиверий, уже тяжело больной, смог сосредоточиться на Персидской войне. Уделяя ей первостепенное внимание, он ничего не мог поделать со словенами, разошедшимися почти по всему Балканскому полуострову. Дни императора были сочтены. Своим наследником и зятем с титулом кесаря он избрал командующего восточной армией, небесталанного полководца Маврикия. 14 августа 582 г. император скончался, предварительно возведя кесаря на престол. Славяне и Сингидунская войнаСловене и не думали на этот раз покидать разоренные ими земли Империи. По словам Иоанна Эфесского, писавшего в 583/4 г., они «стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, как на своей собственной, без страха… они растеклись по земле и живут на ней, и теперь распространились на ней».[810] Иоанн имел в первую очередь в виду области придунайской Фракии. Хотя отдельные общины словен остались в Ахайе, Фессалии и Македонии, основная их масса скопилась в более знакомых и близких к родным местам землях Нижнего Подунавья. Сюда отправившиеся в поход за наживой воины могли перевезти свои семьи и роды из-за реки. А переселившиеся племена и общины имели бы отсюда постоянную связь с заречными сородичами. К тому же север Фракии уже был почти свободен от местного населения. Ромеи скрывались за стенами немногих уцелевших крепостей, а сельские жители (в основном фракийцы и влахи) погибли или бежали. Примерно в описываемое время, к концу VI в., на правобережье Нижнего Дуная сложилась новая славянская археологическая культура. Она получила название по селищу Попин в тогдашней Мезии, близ крепости Доростол (Силистрия). Культура представлена поселениями и могильниками. Основным районом ее распространения являлся придунайский север Болгарии (тогда провинция Нижняя Мезия). Здесь находятся древнейшие могильники исключительно с трупосожжениями. Из этих областей словене распространялись в течение еще и следующего столетия на юг, по всей Фракии.[811] Особенности попинской культуры были связаны с особенностями ее формирования в результате военного нашествия. Среди переселившихся словен распадались старые и возникали новые общинно-племенные связи. Поэтому неудивительно, что попинские общинные поселки представляли собой с самого начала совокупность отдельных дворов — отграниченных друг от друга жилищно-хозяйственных комплексов. Хозяйственная автономия отдельных семей в общине оценивается как весьма высокая.[812]  Монета императора Маврикия Жилища попинской культуры — полуземлянки с печами-каменками в углу. Умерших «попинцы» погребали с небогатым инвентарем, по обряду кремации, зарывая урны с прахом на глубину до 80 см в землю. В погребениях и жилищах найдено немалое количество металлических вещей — в том числе отдельные украшения «антских» типов. Лепная керамика восходила к корчакской и пеньковской, но ее немного — основную массу посуду составляла гончарная, иногда с волнистым орнаментом, напоминающая ипотештинскую.[813] Изготовителями посуды в основном являлись рабы-пленники и гончары-«волохи», пришедшие со словенами из-за Дуная. Но и сами словене, надо думать, уже начали перенимать на новых землях навыки гончарства, как происходило и в других областях. Возможно, что от местного населения был перенят метод сохранения воды в специальных «цистернах», устроенных в грунте. Такие общинные запасы найдены на ряде селищ.[814] В целом, однако, «попинцы» слабо смешивались с ромеями и фракийцами, сохраняя все основные черты словенской культуры. Возможностью спокойно обживать ромейские земли, расселяясь при этом все шире и тесня местное население, словене были обязаны Персидской войне.[815] Маврикию досталось тяжелое наследство, и из-за его вступления на престол дела на Востоке пошли только хуже. Полководцы, сменившие отбывшего в столицу кесаря, не отличались его дарованиями и вели войну неумело. Поражения и сомнительные локальные успехи чередовались друг с другом, но главное — затяжная война истощала Империю, поглощала все ее силы. Между тем остаткам италийских владений угрожали лангобарды, а мир с Аварским каганатом был более чем зыбок. Нуждалась в этом мире лишь сама Империя, кагану же (это был уже сын и наследник Баяна) мир только мешал. Сразу после восшествия на престол нового императора каган начал изводить Константинополь нелепыми и провокационными требованиями. То он требовал прислать себе императорского слона — и, добившись своего, тут же вернул дар; затем история повторилась с золотым императорским ложем. Наконец, в мае 583 г.[816] каган потребовал от Маврикия увеличить сумму выплат до 100 000 номисм. Император наотрез отказал, и в конце лета того же года война возобновилась. Каган основательно подготовился к ней. В его войске находились союзные лангобарды,[817] в ту пору теснившие ромеев и в Италии. Но самым большим его достижением стало заключение союза со словенами. Сотрудничество с ними началось еще в ходе кампании 581–582 гг. Но тогда оно не могло принять сколько-нибудь организованной формы — слишком свежи были в памяти взаимные обиды. Теперь, когда во главе авар и дунайцев стояли новые вожди, и их связывала общая вражда с Империй, тесный союз становился вполне достижимым. При этом словене, уже обосновывающиеся на землях Империи, являлись для каганата незаменимым подспорьем в борьбе с ней. С другой стороны, и словенские князья, должно быть, рассчитывали на поддержку и покровительство со стороны авар. Последние обладали тем, чего словене пока были лишены — центральной властью и единым, неплохо организованным войском. Неудивительно, что не слишком хорошо осведомленные авторы с самого начала восприняли союз дунайцев и авар как подчинение всех словен кагану.[818] Но придворный историк Феофилакт Симокатта, подробно описывающий всю совокупность событий, рисует несколько иную картину. Каган, с одной стороны, может «приказывать» словенам,[819] и, по крайней мере иногда, объявляет их своими «подданными».[820] С другой стороны, у словен где-то к северу от Дуная имеется свой «рикс», Мусокий. С ним-то и связан в политическом смысле дунайский вождь Радогост. Таким образом, «подданство» кагану повисает в воздухе — разве что и Мусок («Маджак» у Масуди) его «подданный», но это из источника никак не следует. Явная ошибочность одних свидетельств и двусмысленность других наводит на мысль, что ромеи в принципе неверно, в своих политических понятиях, истолковали аваро-словенский союз. Но возможно, что их заблуждение проистекало из того, что каган, претендуя на власть над «всяким народом», сам подпитывал подобные мнения. Разумеется, имелись и непосредственно подчиненные кагану словене — северные и южные мораване. Они входили в войско кагана и выполняли его приказы. Но в аварском войске были и иные, «восточные» словене — что однозначно воспринималось ромеями как знак покорности. 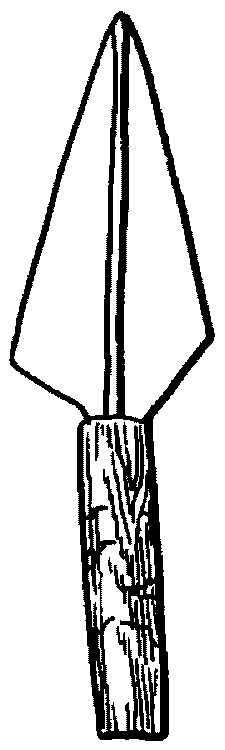 Наконечник стрелы кочевников VI–VII вв. На самом же деле суть достигнутого в 583 г. аваро-словенского соглашения состояла в следующем. Каган признавался общим военачальником («воеводой», в славянской терминологии) объединенных сил в войне против Империи. Потому-то дунайцы исполняли его военные приказания и временами входили в его войско — но при этом оставались совершенно самостоятельными политически. Какая-то координация была просто необходима рассеявшимся по Балканскому полуострову словенским отрядам — а ни у кого из вождей, включая самого Радогоста, подобных прав не имелось. Потому они и согласились на кагана, прибегнув к нему как к центру силы и независимому арбитру. Неясно, впрочем, насколько эффективным было само начальствование кагана. Ясно, что реальное военное подчинение ему выказывали лишь те вожди, которые непосредственно заключили пакт, в том числе Радогост. Все это не означает, конечно, что каганат вовсе не оказывал на нижнедунайских словен никакого политического влияния. Само вручение кагану военной власти давало ему возможность так или иначе вмешиваться в племенную жизнь словен, манипулировать ими, прежде всего, в своих сношениях с Империей. Каганат как гораздо более сильное и прочное образование, чем дунайский или эфемерный дулебский союз, неизбежно играл в партнерстве с ними ведущую роль. Тем более каганат превращался в естественный центр притяжения для мелких родов и племен, разбросанных нашествием по Балканам. Словене к югу от Дуная попадали в реальную зависимость гораздо быстрее, чем их дакийские сородичи. Авары отчасти смешивались со словенами по обе стороны реки; к словенам проникали элементы аварской материальной культуры.[821] Внезапно напав на ромеев во время сбора урожая, каган с налета захватил Сингидун. В его войске были как авары, так и союзники — словене и лангобарды. За этим последовал захват большого числа других городков и крепостей провинции Верхняя Мезия. Ромеи не ожидали столь быстрого нападения, сил для обороны и сопротивления не хватало. На стороне кагана оказались и численное превосходство, и быстрота действий. Вслед за Сингидуном пал Виминакий — столица Верхней Мезии. Продвигаясь вдоль Дуная на запад, к столичной области, каган взял Августы — важную крепость в провинции Дакия, прикрывавшую одну из переправ.[822] Перейдя границу Фракии, каган свернул на юго-восток, направившись к черноморскому побережью. В захваченных землях Верхней Мезии «варвары» не стали истреблять или изгонять местное население. Более того, завоеватели заявили: «Выходите, сейте и жните — только половину налога мы будем забирать у вас!»[823] Каган, таким образом, вдвое снижал налоговое бремя для подданных Империи, пытаясь привлечь их на свою сторону. Он был заинтересован в прочном тыле, и планы его носили далеко идущий характер. Упрочивая власть над покоренными землями, каган расселил в Верхней Мезии зависимых от себя словен — мораван, вперемешку с аварами. При этом он отселил или изгнал из окрестностей Сингидуна живших здесь ранее словен, подданных Империи, оставивших селище Апатины. Основной территорией расселения новопришлых словен стали низовья балканской Моравы (ранее Марг), которой они дали принесенное с севера имя. Какая-то часть мораван осталась к северу от Дуная, где их спустя столетия упомянет Баварский географ. Скорее всего, мораване по обе стороны реки сохраняли политическое единство — в описываемый период под верховной властью аварского кагана. Одно из ранних (конца VI в.) поселений мораван разместилось в самых предместьях Сингидуна — в Винче, на площади современного Белграда. Другое известно собственно на Мораве, в Слатине. В селищах, устроенных по правилам славянского домостроительства, преобладает гончарная керамика.[824] Словене — преимущественно пришедшие с аварами мужчины-воины — смешивались с местными жителями. При этом перенимались многие культурные традиции. Политика кагана, направленная на привлечение симпатий местных селян, приносила какие-то плоды. Основная масса словен после захвата Верхней Мезии отделилась от кагана. Лишенные возможности поживиться и массово осесть в провинции, населению которой был дарован мир, они устремились на юг, в Элладу. С ними шла какая-то небольшая часть авар, чье участие в последующих событиях не кажется значительным — источники говорят, прежде всего, о словенах. Вторгшись в Ахайю, словене и авары подступили к Коринфу — и на этот раз, наконец, город пал. Жители Коринфа спаслись бегством на остров Эгина в Эгейском море. Город был подожжен и отчасти разрушен, многие из не успевших бежать граждан погибли. Словене увозили из разграбленных храмов Греции «церковную утварь и большие кивории» целыми возами («крепкими колесницами», по словам Иоанна Эфесского). Киворий из кафедрального собора Коринфа они отправили в дар кагану — тот использовал его «вместо шатра — натянул и укрепил и под ним сидел».[825] Коринф, прежде надежный ключ к Пелопоннесу в руках Империи, теперь перешел в руки «варваров». Они не стали разрушать дотла захваченный город и сразу принялись его обживать. Следы славянской культуры в Коринфе скудны, но они есть. Известно трупоположение с «пражскими» сосудами, найдены серьги «антского» типа.[826] В городе осталось какое-то число авар и словен (в основном словен, причем обоего пола). Занятие «варварами» Коринфа вызвало панику на Пелопоннесе. Спартанцы, ожидая их вторжения, начали переселяться в труднодоступную приморскую крепость Монемвасия, основанную при Юстиниане.[827] Однако Маврикий, среди поднявшейся уже в самой столице тревоги, тем не менее попытался помочь и Элладе. Стремясь оттянуть силы словен и лишить кагана союзников, он прибег к помощи антов. С момента возобновления войн с аварами отношения между Империей и антами не могли не улучшиться. Уход тюрок на восток и затяжная война в их огромном каганате лишали антов альтернативы. Между тем аварское влияние из-за сближения авар и словен опасно придвинулось к антским границам. В первой же, еще совместной с Тиверием новелле (11 августа 582 г.) Маврикий возвращает титул «Антский».[828] Речь едва ли шла о каких-то военных успехах, которые могли бы восприниматься как «усмирение» неверных союзников. Скорее Маврикий подчеркивал, что намерен как-либо вернуть антов под «покровительство» Империи. Время для этого настало уже в следующем году, когда разразилась война с аварами. Притом, что союз в известном смысле был небесполезен для антов, их, по сложившейся имперской практике, пришлось «подкупать». Обновив союз с Империей, анты напали на словен. Земли Мунтении подверглись жестокому опустошению. Анты «подчинили» страну дунайцев, «вывезли добро ее и выжгли ее».[829] Последствия не заставили себя ждать. Словене действительно скоро узнали о разорении родных мест — но ответный удар нанесли не по далеким антам, а по ромеям, которых справедливо винили в случившемся. «Многие тысячи» словен, собравшись в единую рать, с опустошением ринулись на Константинополь. Меры, спешно принятые императором еще после начала военных действий в Мезии, помогли — словене «не смогли подняться и захватить царственный град». Отбитое от Длинных стен, словенское войско устремилось к Анхиалу. Этот приморский город во Фракии являлся важной крепостью. Неподалеку находилось место отдыха и лечения знатных ромеев — прославленные термы над горячими источниками. Туда же «тотчас» после Август пошел и каган. Таким образом, обе армии вторжения соединились в западной Фракии, на черноморском побережье.[830] Гарнизон Анхиала упорно защищался. Когда многие защитники погибли, воины кагана пробили брешь в стене и ворвались в город. Авары и их союзники предали разграблению и сам Анхиал, и его округу.[831] Было много разрушений. Знаменитые термы спасло лишь то, что в них помылись жены аварского владыки.[832] Когда-то после посещения терм жена Тиверия пожертвовала церкви в Анхиале императорские пурпурные одеяния. Найдя царский пурпур при разграблении храма, каган облачился в него со словами: «Желает этого царь ромеев или не желает, но вот, царство отдано мне!»[833] В этом дерзком заявлении имелась немалая доля истины. Авары и словене хозяйничали почти повсюду вне Длинных Стен. Не подвергшиеся нашествию Пелопоннес и Далмация, фактически отрезанные от Константинополя, могли сообщаться со столицей лишь по морю. В таком же положении находилась Фессалоника. В условиях безуспешно длящейся Персидской войны у Маврикия не оставалось иного выбора, кроме поисков мира. В конце 583 или начале 584 г. к кагану в Анхиал прибыли ромейские послы Элпидий и Коментиол. Каган отказал в перемирии и грозил «срыть» Длинные стены. Коментиол, упрекавший кагана в нарушении прежнего договора, испытал его гнев и подвергся заключению. Послам с трудом удалось избегнуть смерти.[834] В условиях длящейся войны словенские набеги и расселение почти беспрепятственно продолжались. Иоанн Эфесский так описывает ситуацию 584 г.: «И доселе, благодаря тому, что царь был занят персидской войной и все свои войска посылал на восток — именно поэтому, — они растеклись по земле и живут на ней и теперь распространились на ней. Пока Бог на их стороне, они конечно же и опустошают, и жгут, и грабят вплоть до стены до внешней: и все царские табуны, многие тысячи, и все остальное. И вот, даже и доныне… они располагаются и сидят в этих ромейских пределах. Без заботы и страха захватывают пленных, убивают и жгут. И они обогатились и приобрели золото, и серебро, и табуны лошадей, и много оружия. И они выучились воевать лучше, чем ромеи…»[835] Достойно замечания, что именно нашествие 580-х гг. сыграло важнейшую роль в обогащении дунайских словен и, соответственно, в имущественном расслоении словенского общества. Последствия этого мы могли наблюдать на материалах могильника Сэрата-Монтеору и других памятников. Отметим также слова о военном деле — при осаде словенами Фессалоники в 586 г. ромеям действительно пришлось удостовериться в их новых военных навыках. Именно в это время они овладевают передовой осадной техникой. Лишь в ходе второго посольства (584 г.) Элпидию удалось склонить кагана к миру. Мирный договор заключался, по сути, на условиях авар. Дань, выплачиваемая Маврикием, увеличивалась до 100 000 номисм. «Небрежность» в выплате автоматически влекла за собой немедленное возобновление военных действий.[836] После заключения мира каган отвел авар из пределов Империи. Однако он не освободил всех захваченных территорий. В Верхней Мезии расселялись мораване, подданные кагана. Коринф также остался за «варварами». С каганом ушла некоторая часть словен, не нашедших себе места в ромейских владениях и не желавшая возвращаться в Мунтению. Многим после разорительного набега антов было просто некуда возвращаться. Каган расселил новых подвластных словен в древнем Норике. Эти земли он подчинил себе как раз около этого времени — не исключено, что как раз их руками.[837] Воспоминания о приходе с востока после долгих поисков плодородной, пригодной для жизни земли сохранились в позднем словенском предании. Здесь вытесненным из благодатных родных мест перенаселением предкам словенцев покровительница-«богиня» дает зерно, которое прорастает лишь в Словении.[838] Отражается в словенском фольклоре и былая зависимость словенцев от авар — правда, смешивающихся в народной памяти с гуннами Аттилы. Последний рисуется как угнетатель и покоритель жителей Словении. Предания повествуют о его победе над местным правителем — «графом Коцяном» из Градища или некоей «словенской владарицей», которые оказываются бессильны оказать сопротивление превосходящим полчищам врага. Притом Аттила выступает персонажем совершенно мифологическим — то как псоглавец, то как живой мертвец.[839] В действительности завоевание почти не сопровождалось насилием или изгнанием местного романского населения. Как представляется, новые пришельцы легко пришли к соглашению со своими альпийскими сородичами и быстро смешались с ними. Приток нового населения ускорил ассимиляцию здешних лангобардов и романцев. Словене нередко подселялись на местные поселения, наследуя элементы культуры (погребения с ингумацией, гончарство). Политическими и культурными центрами складывающихся словенских племен становились старые римские крепости.[840] Но о ростках христианства, появление которых у альпийских славян возвестил в 550-х гг. Мартин Бракарский, мы более ничего не слышим. Позже проповедь в Хорутании пришлось начинать с нуля. Пришельцы с востока, враждебно относившиеся к вере ромеев, грабившие балканские храмы, положили предел трудам первых миссионеров. Впрочем, сама религиозная нетерпимость у словен возникла лишь в условиях войн с ромеями и под аварским влиянием. Там, где это влияние было меньше — в дулебских землях — даже христиане-чужеземцы мирно уживались со словенами еще в 590-х гг.[841] Радогост во ФракииМир, заключенный между Империей и каганом, едва ли распространялся на словен. Они и не думали покидать пределы державы ромеев. Словене обживали свои новые земли во Фракии и Верхней Мезии. Отдельные поселения возникли в Ахайе (Коринф) и в Македонии, куда словене приходили и из Поморавья. Отсюда они начали проникать на запад, в Новый Эпир (современная Албания с прилегающими землями).[842] После ухода кагана в балканских провинциях наступило относительное затишье. Словене ограничивались локальными набегами. Однако уже летом 585 г. война запылала с новой силой. Кагану удалось «натравить» словен на ромеев. Он убедил словенских вождей нанести удар в направлении столицы. Он все еще признавался верховным «воеводой», и само временное замирение с ромеями было согласовано со словенами. Соединенными силами словен руководил Радогост. В связи с этими событиями он упоминается в источниках[843] впервые. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, по какую сторону Дуная находился Радогост к началу событий. Вместе с тем не упоминается вообще о переправе словен через Дунай. А значит, большая часть отрядов, участвовавших в нападении, уже находилась в пределах Империи, во Фракии. Словене, опустошив «большую часть ромейской земли», «будто перелетев, лавиной» подступили к Длинным стенам. Маврикий принял экстренные меры. Усилив гарнизоны Длинных стен, он сам во главе всех наличных сил вышел из Константинополя. Присутствие императора, надо думать, вдохновляло воинов. Но сам он не вступил в битву с врагом, передоверив полевое командование Коментиолу. Под предводительством последнего ромеи вышли за Длинные стены. Словене не готовились к битве и были заняты опустошением окрестных земель. Поэтому Коментиол без особого труда «отогнал» их от Стен.[844] Словене отступили немного на запад, к реке Эргиний. Здесь они попытались организовать оборону. Но Коментиол шел по пятам и «внезапно появился» перед противником. Произошло решающее сражение, в котором словене потерпели поражение. Коментиол, по словам Феофилакта, «учинил великое избиение варваров». За победу Маврикий даровал своему полководцу высшее военное звание магистра милиции (презента).[845] 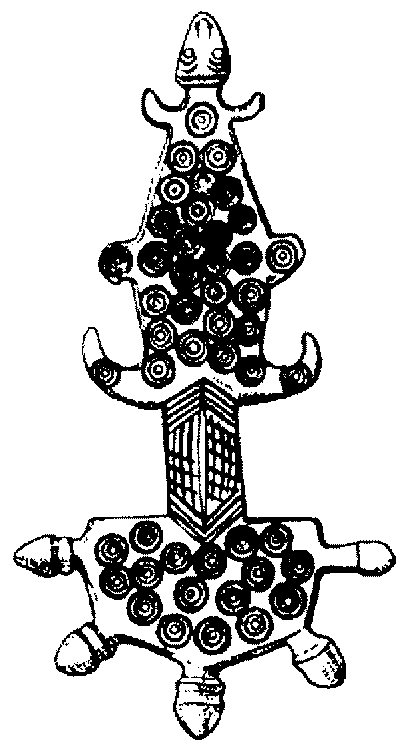 Пальчатая фибула. Ипотештинская культура Дав войскам отдых, осенью Коментиол вновь выступил против словен. К этому времени остатки словенского войска вновь разделились на отряды, небезуспешно действовавшие во Фракии. «Огромные полчища» собрались под главенством Радогоста. Он действовал в отдалении от Длинных стен, в Астике, и не участвовал в битве на реке Эргиний. Опустошение Астики, некогда богатейшей и недоступной «варварам» области Фракии, принесло ему «многочисленных пленных и великолепные трофеи». Проходя с богатой добычей через окрестности Адрианополя, Радогост столкнулся с войском Коментиола. Битва разыгралась ранним утром под стенами крепости Ансин. Коментиол атаковал и с самого начала захватил инициативу. Словене сперва начали отступать, а затем обратились в бегство. Ромейские пленники были освобождены. Преследуя противника, Коментиол выбил Радогоста из Астики.[846] Таким образом, стратиг полностью очистил подступы к Константинополю. Именно тогда сам Радогост покинул пределы Империи и ушел в свои земли к северу от Дуная. С этого времени он лично не участвовал в набегах — но организовывал их. Торжество ромеев было недолгим. Словене оставались в дунайских провинциях. Каган же, используя их для изматывания скудных ромейских сил, готовил новую войну. Сам Маврикий осознавал зыбкость достигнутых успехов и принимал спешные меры по обороне хотя бы южной Фракии. Уже той же осенью 585 г. стало ясно, насколько нелишни эти приготовления. Каган использовал в качестве повода для нарушения мира бегство своего шамана-тюрка, переспавшего с женой владыки. Когда Империя — в своих видах, но неблагоразумно, — предоставила беглецу убежище, аварские набеги немедленно возобновились. Невзирая на фактическое начало войны, каган отправил к императору посольство с требованием дани. Реакцию Маврикия нетрудно было предугадать — он не дал ничего и на полгода задержал послов под стражей. Закономерным и в каком-то смысле законным (по букве мирного соглашения) ответом кагана стала большая война, разразившаяся сразу после возвращения послов летом 586 г. Нападение произошло, как и в 583 г., в пору сбора урожая. Хотя на этот раз ромеи лучше были подготовлены, успех сопутствовал вновь их врагам. Авары совершили опустошительный рейд вдоль Дуная и далее в Нижнюю Мезию и Скифию. Они захватили и разорили ряд ромейских укрепленных городов, в том числе Бононию (ныне Видин), Доростол, Маркианополь.[847] Набег до самой дельты Дуная преследовал цель не только навредить ромеям, но и запугать антов. Судя по тому, что в дальнейшем анты не слишком активно помогали Маврикию, последняя цель была достигнута. Конечно, авары едва ли обошлись в этом деле без помощи словен — тем более что разрушение фракийских крепостей и умиротворение антов были в их интересах. Однако каган не слишком вовлекал словен в военные действия во Фракии. В качестве главной их цели в кампании этого года он определил Фессалонику. Осада ФессалоникиПосле возобновления военных действий каган вновь принял общее командование союзными войсками. Он, пишет епископ Иоанн, «призвал к себе все звериное племя славян», дабы направить их в поход против Фессалоники.[848] Основную ударную силу вторжения, несомненно, составляли прямо подвластные каганату племена Потисья и Поморавья. Но и из дунайцев многие откликнулись на призыв — последствия опустошения их страны антами не могли не сказываться. У немалого числа жителей Нижнего Подунавья не осталось крова и средств к существованию, так что они жаждали и богатой добычи, и новых мест для жительства. Наконец, каган прибавил к словенам «некоторых варваров других племен» — то есть авар, подвластных болгар, гепидов. В результате собралось огромное войско в несколько десятков тысяч человек.[849] Следует полагать, что наряду с «вооруженными людьми» в этой рати шли и семьи словенских воинов, которые надеялись осесть в захваченной стране. Фессалоника, столица Иллирика и второй по значению город Балкан, являлась ненамного менее вожделенной целью, чем Константинополь. Ее взятие парализовало бы ромейское сопротивление на западе полуострова. Каган рассчитывал, что падение Фессалоники, богатого и стратегически важного оплота Империи, сыграет решающую роль в войне. С другой стороны, сами словене давно мечтали об этом богатом городе, расположенном в плодородном краю. Обстоятельства складывались благоприятно для планов кагана. Он знал, что весной — летом 586 г. по Македонии прокатился мор, и потому в Фессалонике осталось «очень мало воинов». Словенских вождей он вдохновил сообщением об этом, заявив, что они «захватят город в тот же день».[850] Кроме того, нападение, как и в 583 г., было рассчитано на время сбора урожая. Словене двинулись из Поморавья, по отчасти обезлюдевшей или заселенной их соплеменниками стране. Движение их было стремительным, так что ромеи в Фессалонике узнали о вторжении слишком поздно. Македония была разорена чумой, и многие крепости, прикрывавшие столицу провинции, остались заброшенными. По пути «варвары», нуждавшиеся в пропитании, опустошали страну. До города дошли слухи, «что иссякали реки и источники, у которых они только разбивали лагерь».[851] Припасов у огромного войска, двигавшегося стремительно и единым целым, не распадаясь на мелкие шайки, действительно не хватало. Но, рассчитывая на быстрый захват богатейшего города, словене и их союзники не уделили этому должного внимания. В ночь на понедельник 23 сентября словене подошли к предместьям Фессалоники. Их не ждали — вести о приближении «варваров» достигли города лишь 22 сентября. На стенах держали небольшие ночные дозоры, но словен ожидали не раньше, чем через четыре дня. Между тем войско приближалось к Фессалонике под покровом ночи бесшумно, и не привлекло внимания немногочисленных дозорных. Фессалонику в ту ночь спасла череда случайностей. Словене сначала скопились под стенами храма-крепости Святой Матроны. Они решили, что это уже сам город. Лишь с наступлением рассвета они поняли, что ошиблись, и бросились на приступ стен Фессалоники. К этому времени как раз ушли дозорные — так что город остался беззащитным. Словене приставили к стенам лестницы.[852] 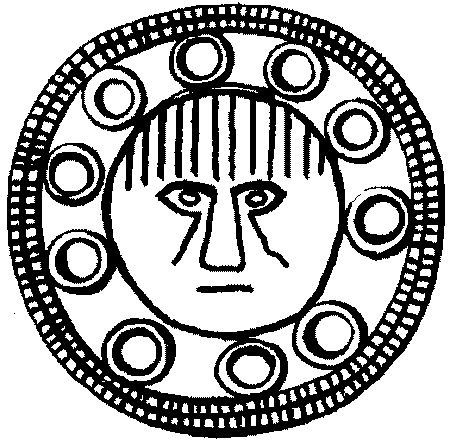 Украшение конской сбруи. VI–VII вв Первый залезший «уже перекинул правую ногу на стену», когда какой-то воин, — оставшийся неизвестным, несмотря на объявленную позже награду, — пронзил его копьем и сбросил вниз. Падающее тело увлекло за собой поднимавшихся следом. Никого другого на стене не было. Однако, как только начался штурм, по словам Иоанна, «в городе великое волнение охватило всех разом, так что все без исключения воины поднялись на стены». Словене, «охваченные вдруг безмерным страхом, отступили далеко от стены». По их собственным словам, им представилось там «столько воинов и таких, что по числу и мужеству намного превосходят наше войско». Они решили, что сведения кагана неверны и город подготовлен к обороне лучше, чем ожидалось.[853] Словене ошиблись — Фессалоника была действительно сильно ослаблена чумой. Большая часть оставшегося гарнизона отправилась вместе с префектом Иллирика «по государственным делам» в Ахайю. Кроме того, многие знатные люди со своими людьми тогда находились в Константинополе, с жалобой императору на префекта. Наконец, множество граждан собирало за городом урожай. Когда подступили словене, лучшим выходом для отрезанных сборщиков было бегство прочь от города — те, кто пытался пробиться назад, погибли или попали в плен. Оставшиеся же в городе люди были крайне напуганы нашествием. Большинство горожан не имело боевого опыта, к тому же городу на их памяти не доводилось переживать осаду.[854] Когда окончательно рассвело и наступил день 23 сентября, словене плотно оцепили город. Им благодаря огромной численности удалось взять Фессалонику в длинное полукольцо — от моря до моря. Демонстрируя свою мощь и перекрывая все выходы из города, словене выстроились сплошным строем, «фалангой» с сомкнутыми щитами. Тем не менее и это было не все войско — значительная его часть отправилась занимать крепости в предместьях (храм Матроны и другие), а также захватывать провиант. Им сопутствовал успех — предместья были захвачены, их жители и защитники бежали или попали в плен. Словенам достался весь хлеб, только что собранный на полях, плоды пригородных садов. Помимо этого они захватывали и иную добычу — загородные поместья и крепостцы не нищенствовали.[855] Вечером, разбив лагерь, словене собрали много хвороста и зажгли вокруг города огонь, напомнивший осажденным библейскую «огненную реку». Это был какой-то воинский обряд, быть может, посвящение осаждаемой твердыни покровителям и предкам словенских князей — богам грозы и огня. Во всяком случае, когда пламя поднялось к небесам, все войско издало некий громовой клич, вселивший ужас в сердца ромеев. Иоанну, свидетелю событий, пришли на ум слова из псалма: «земля тряслась и небеса таяли».[856] Ночью словене и их союзники не предались сну. Осаждавшие взялись за изготовление осадных орудий. Это первое упоминание об использовании их словенами. На приготовление орудий ушли ночь и наступивший день (24 сентября). В итоге к утру 25 сентября у словен имелось четыре вида осадных приспособлений. Это были, во-первых, передвижные осадные башни (гелеполы), во-вторых, «бараны» (тараны с железными «лбами» в виде бараньих голов). Далее Иоанн называет камнеметы («огромнейшие» и крытые сухой кожей) и «черепахи» (сплетенные из прутьев и также покрытые кожей укрытия для пехоты). Иоанн особо описывает словенские камнеметы: «Они были четырехугольными, широкими в основании и суживающимися к верхушке, на которой имелись очень массивные цилиндры, окованные по краям железом, к которым были пригвождены бревна, подобные балкам большого дома, имевшие подвешенные сзади пращи, а спереди — прочные канаты, с помощью которых, натянув их разом по сигналу книзу, запускали пращи… А четырехугольные камнеметы они оградили досками только с трех сторон, чтобы те, кто находился внутри, не были ранены стрелами со стены».[857] Словене неплохо подготовились к взятию города, однако недостаточно хорошо представляли мощь укреплений Фессалоники. Кроме того, у них был еще один повод для беспокойства — кончались припасы. Захваченного в предместьях провианта хватило только до утра 24 сентября. Словене и их союзники вынуждены были собирать «плоды деревьев и ветви, и корни их, а также овощи-корнеплоды». Впрочем, пока у них еще оставался скот, как приведенный с собой, так и захваченный — быки и разводившиеся кочевниками верблюды.[858] Утром 25 сентября начался штурм. Словене подступили к городу со всех сторон. На стены обрушился шквал стрел и огромных камней. Натиск был наиболее силен на северной и западной сторонах, к которым подступили «более мужественные и самые жестокие» из словен с большим числом «мощных орудий». Под прикрытием «черепах» они пытались ломами и топорами подрыть стену. К Кассандрийским воротам (в восточной стене) словене подвели таран. Однако при виде железного крюка, которым жители безуспешно пытались повредить «барану», словен охватила внезапная паника. Они откатились от ворот, бросив тараны и подпалив их. Усиленный штурм с севера и с запада также не дал результата. Горожане подожгли несколько «черепах» кипящей смолой и зажженными стрелами. Одновременно словене попытались проникнуть в город с юга, по морю. Для этой цели они соорудили «широкий деревянный плот». Однако горожанам сопутствовала удача, и они какой-то «хитростью» сорвали замысел словен — плот унесло в открытое море, и он погиб.[859] В стане осаждавших первые неудачи вызвали уныние. Голод все сильнее мучил словен. В тот вечер они начали забивать скот. Это, впрочем, позволило покрыть окровавленными шкурами животных «черепахи», защитив их тем самым от огня. На всех, однако, мяса не хватало. К тому же, судя по всему, отдельные племенные отряды не делились продуктами друг с другом. Скота, естественно, было больше всего у авар и болгар. Плоды, коренья и овощи заканчивались. Огромное войско вынуждено было перейти в прямом смысле на подножный корм — «выращенную зелень и дикорастущие травы, и так называемый зеленый терновник».[860] Со стен осмелевшие горожане начали насмехаться над словенами. Из города внимательно наблюдали за осадным станом, так что тяжелое положение «варваров» стало очевидно осажденным. Словен призывали перебегать в город и заполнять «неиспользуемые общественные бани». Насмешки, а также «уговоры и обещания» горожан подействовали — в последующие дни «многие» из разноплеменного войска, отчаявшись в победе и изголодавшись, переходили в город. Словене и союзники окончательно уверились, что Фессалоника скрывает свои главные силы и вовсе не истощена мором. «Мы, не надеясь захватить вас, — говорили перебежчики через толмача городским властям, — решили, обдумав, что скорее спасемся у вас».[861] Тем не менее основная масса словен была полна решимости продолжать осаду. Захват города теперь, должно быть, казался им единственным спасением от голода. 26 сентября словене вновь подступили к Кассандрийским воротам. Под прикрытием «черепах» штурмующие принялись за разрушение протейхизмы — передового укрепления, прикрывавшего стену и ворота. От стоявших на стенах защитников словене были скрыты и «черепахами», и частоколом протейхизмы. К тому же «черепахи» теперь стали неуязвимы для огня. Тогда небольшой отряд копейщиков рискнул выйти из города к протейхизме и подняться на нее. Словене не ожидали от защитников такой смелости. Неожиданное появление на укреплении воинов спугнуло их. Бросив ломы и топоры, которыми почти уже разнесли частокол, словене бежали. Когда совершивший вылазку отряд вернулся в город, одну из створок закрывавшей ворота решетки заело, и ворота оставались открытыми до вечера и часть ночи. Но словене об этом не знали или просто не осмелились воспользоваться обстоятельствами[862] (может, подозревали ловушку?). Немалая часть войска в ту ночь занималась подготовкой к бою камнеметов. Всего их было не менее полутора сотен — во всяком случае, по подсчетам обороняющихся, против восточной стены стояло «более пятидесяти».[863] Утром 27 сентября начался общий обстрел города из камнеметов крупными камнями. Но ни один из «непрерывно» летевших камней не попал в главную цель — стену. Все они либо недолетали, либо перелетали городские укрепления, оставляя при падении глубокие воронки. Наконец, горожанам удалось поджечь один из камнеметов, все еще покрытых сухой кожей и к тому же защищенных досками. Тогда словене, поняв свою ошибку, отступили, увозя орудия с собой.[864] С рассветом 28 сентября камнеметы вновь атаковали стены на всем их протяжении. Примерно до часа пополудни продолжался непрерывный обстрел. Теперь орудия вместе с защитными досками были покрыты уже влажными шкурами только что забитых животных. Под этой защитой, надежно предохранявшей от пламени, словене смогли подвезти камнеметы ближе к стенам. Однако и на этот раз атака орудий не дала ожидаемого эффекта. Горожане растянули по стене на прутьях плотную завесу из парусины и мешковины, использовав для ее изготовления подстилы городских трапезных. Завеса смягчала удары камней, и они не наносили стене ущерба. Большинство камней вновь упало перед стеной или за ней. Лишь один ударил в зубец стены, «одним ударом разрушив его до основания». Стрельба, которую вели в ответ горожане, оказалась более удачной. Посылаемые с укреплений камни часто влетали внутрь словенских сооружений и убивали тех, кто их обслуживал.[865] Не добившись успеха, словене прекратили обстрел и отступили в лагерь. Вдохновленные победой горожане, выбежав из города через западные, Золотые ворота, спустились к морю и убили нескольких купавшихся там после боя врагов. Потом, впрочем, страх побудил ромеев спешно вернуться за ворота — пока о вылазке не узнали в «варварском» лагере.[866] Утром 29 сентября, в воскресенье, вожди осады собрались на совет. Обстановка в голодающем лагере сложилась тяжелая и внушавшая опасение. Скот еще оставался,[867] но хозяева (преимущественно авары и болгары) делиться им не желали. Основной массе войска приходилось к тому времени питаться «прахом земли» — все съестное в окрестностях Фессалоники было уничтожено.[868] Штурм города всеми наличными силами казался теперь надеждой на спасение. Другим вариантом могло стать только отступление и рассеяние войска по Македонии в поисках пропитания. Осаждавшие решили — на следующий день «всем вместе напасть по окружности стены» и в результате «либо, напугав силой нападения, сбросить вниз охрану на зубцах, либо, если не достигнут цели, по крайней мере убедиться наконец в том, что не должны напрасно сражаться».[869] Далеко не все осаждавшие, однако, решились идти на смертельно опасный штурм. Иные поспешили перебежать в город, силы и ресурсы которого переоценивали. Там они рассказали о готовящемся приступе. Горожане, таким образом, узнали от перебежчиков о плане «варваров». Однако это знание большой пользы принести не могло — силы Фессалоники были на исходе. Горожан охватил «ужасный страх».[870] То, что произошло далее, лучше нас опишет непосредственный участник событий — епископ Иоанн. Не стоит прибегать к рационализирующим объяснениям происшедшего. Там, где современный скептик увидит, скажем, некий «массовый психоз» изголодавшихся воинов, религиозное сознание вправе видеть подлинное чудо. Во всяком случае, «Чудеса святого Димитрия» — наш единственный источник информации, и сопоставить его не с чем. Следует при этом помнить, что Иоанн являлся современником и очевидцем событий — и писал не столь уж долгое время спустя, также для современников и очевидцев. Отсюда следует довольно простой вывод — и он, и его читатели верили в то, что все произошло на их глазах именно так. Итак, жители Фессалоники были уверены, что утром понедельника их ждет страшный натиск «варваров». Но около двух часов пополудни их взору явилось странное зрелище — «все варвары, подняв одновременно крик со всех сторон, отступили к вершинам, поспешно покинув палатки вместе со всем приготовленным ими. И таким был испуг, поразивший их, что некоторые из них бежали безоружными и неодетыми. После того как около трех часов они оставались на вершинах ближайших гор, наблюдая… когда наконец зашло солнце, они снова спустились к своим палаткам, грабили друг друга… так что было много раненых, а некоторые погибли».[871] На рассвете 30 сентября к воротам сбежалось «весьма много» недавних врагов. Горожане опасались засады, и потому не сразу поверили перебежчикам, которые «сильно кричали и клялись, что все враги бежали бесшумно ночью». Только примерно за час до полудня горожане решились открыть ворота. Перебежчики рассказали следующее: «Мы прибежали к вам, чтобы не погибнуть от голода и, кроме того, зная, что вы победили в войне. Ибо мы убедились, что вы скрывали до сих пор в городе ваше войско и что только вчера в восемь часов [от рассвета] внезапно послали его с оружием против нас из всех ворот: тогда вы видели, как мы, побежденные, бежали к горам. Когда, спустившись вечером, мы узнали, что войско вернулось назад через ворота, тогда разделились между собой и грабили друг друга. Посовещавшись, они бежали бесшумно всю ночь, ибо заявили, что до рассвета войско опять устремиться против них. И вот, они бежали, а мы остались».[872] Горожане поразились, но не подали вида. «Воистину до вчерашнего дня мы не высылали против вас войско, — сказали городские чиновники. — Но чтобы мы знали, что вы говорите правду, скажите, кого вы видели во главе его?» Один из «варваров», как сообщает Иоанн, сказал в ответ: «Мужа огненного и сияющего, сидящего на белом коне и одетого в белую одежду — вот такую». С этими словами он коснулся хламиды одного из служащих префекта.[873] Дело, начатое таинственным разгромом, довершила распря, вспыхнувшая в голодном и отчаявшемся войске — несомненно, как раз из-за продуктов. Огромная армия вторжения превратилась в распадающуюся на мелкие родоплеменные отряды, охваченную паникой толпу. Бегство осаждавших от Фессалоники было действительно паническим и беспорядочным. За одну ночь они далеко ушли от города, не задерживаясь и бросая одежду, вооружение, даже скот и тела мертвых.[874] Воины могли гибнуть как от голода, так и во вновь возникавших стычках. Так бесславно завершилась осада столицы Иллирика — драматичная кульминация словенского нашествия на Империю 580-х гг. Вторжение в АхайюОткатившись от стен Фессалоники, разноплеменное войско рассеялось по Македонии в поисках пропитания и мест для зимовки. Особых трудов это не стоило — обе македонские провинции не пощадила чума. Сейчас, в пору сбора урожая, многие селения почти опустели. Пришельцы могли селиться в них и пользоваться плодами труда погибших от мора хозяев. Помешать им вряд ли кто-то мог — Македония оставалась почти беззащитной, кроме того, на ее землях уже селились словене. На Фессалонику же сразу после ухода осаждавших обрушилась новая беда. Голод, недавний союзник горожан, теперь перешел из брошенного осадного лагеря за стены победителей. В окрестностях не осталось ничего съестного, а припасы самого города кончились. По Империи распространился слух, что Фессалоника пала, и транспорты с хлебом подоспели буквально в последний момент, когда голодная смерть уже косила горожан.[875] Словене между тем понемногу заселяли Македонию. Они захватили и отчасти разрушили полупустой после мора укрепленный город Лихнид в пограничье Македонии Второй и Нового Эпира. На его месте возникло славянское поселение, позже известное как Охрид и ставшее важнейшим центром расселения в этих землях.[876] Большая часть словен, однако, не стремилась остаться в опустошенной войной и мором Македонии. Новые, более богатые земли они рассчитывали найти дальше на юг. С наступлением весны большая часть авар и болгар ушла из Македонии на север. Там, в Скифии и Нижней Мезии, их каган вел кровопролитную и опасную войну с ромейскими полководцами и явно нуждался во всех наличных силах. Роль авар в дальнейших событиях на юге была невелика, даже если какое-то малое число кочевников и осталось со словенами.[877] Словене, может, и действовали формально под предводительством и в интересах кагана, захватывая ромейские провинции как будто для него. Но реально они руководствовались только своими интересами — поиском новых земель для оседания. Кагану, чьи дела во Фракии шли не лучшим образом, многотысячное словенское войско пригодилось бы скорее там. Завоевание брошенных Империей на произвол судьбы южных провинций ничего не давало для большой войны. В Константинополе его по большому счету не заметили, и в общегосударственных хрониках сведений о событиях почти нет. Но после поражения у Фессалоники каган утратил реальную власть над словенами. Собрать их в единое войско и установить хотя бы подобие единоначалия теперь уже не было никакой возможности. Словене, так и не сплотившись вновь в единую рать, вторглись в греческие земли широким фронтом — через Фессалию и Старый Эпир. Серьезного сопротивления они, судя по всему, не встречали — основная часть вооруженных сил Империи на Балканах сражалась с каганом во Фракии. Повсюду на своем пути словене разрушали или захватывали города и другие греческие поселения, изгоняя жителей. Опустошив «всю Фессалию», словене вторглись в среднегреческие земли. Упоминается о захвате города Аиния на берегу Сароникского залива. Словене разорили Аттику. Именно тогда были взяты и частично разрушены Афины — хотя в этом древнем городе словене не задержались. Из Аттики или Фессалии они переправились на остров Эвбею и прошли по нему с войной. Из горного Эпира (пострадавшего сравнительно мало) завоеватели прорвались к северному берегу Патрского и Коринфского заливов — в так называемую Локриду — и разорили ее.[878] Словене повсеместно оседали на «захваченных» землях. Но основная их масса стремилась дальше на юг. Миновав Истм (в Коринфе все еще стоял аваро-словенский гарнизон), словене вторглись на Пелопоннес (осень 587 или уже весна 588 г.[879]). Их появление вызвало панику в эллинских городах, жители которых готовились к бегству с момента падения Коринфа. В числе первых словене захватили Аргос, чьи жители бежали на остров Орови в Арголидском (Навплийском) заливе.[880] На западе крайней точкой, которой они достигли, двигаясь вдоль южного берега Коринфского залива, стала важная ромейская крепость Патры. Жители ее были «изгнаны, точнее выселены народом славян» и перебрались в южную Италию, в Регий.[881] Нашествие захватило восточный и центральный Пелопоннес, причем преимущественному разорению подверглись приморские районы. Основная масса словен двигалась вдоль побережья. Когда нашествие приблизилось к Спарте, епископ и многие жители города бежали в Монемвасию. Эта неприступная крепость, подобно некоторым другим горным твердыням, устояла, тогда как сама Спарта была захвачена. Уцелевшие жители отплыли на Сицилию, где поселились в городе Деменна.[882] Завладев, по сути, большей частью полуострова, словене расселились на нем. Дальше идти было некуда — на юг простиралось море. Не исключено, что словене восприняли Пелопоннес как «последнюю» землю. Впрочем, места на полуострове хватало — словене оставили нетронутым его запад, удовольствовавшись завоеванным. Местные хроники и позднейшие источники изображают захват Пелопоннеса, на первый взгляд, как тотальное разорение, сопровождавшееся повальным бегством местных жителей.[883] Действительно, опустошение было весьма велико — погибло или бежало большое число эллинов. На враждебные отношения и недостаток мирных контактов между пришельцами и аборигенами указывает ничтожное количество общеславянских заимствований из греческого языка.[884] Но внимательное изучение как письменных, так и археологических источников восстанавливает более сложную картину. В Х в. приходилось уже подчеркивать неславянское происхождение жителей Майны, горной цитадели, прикрывавшей некогда крайний юг и юго-восток Пелопоннеса. К моменту вторжения словен обитатели этой неприступной крепости, «древние ромеи» (римляне) по происхождению, оставались «эллинами» по вере — то есть язычниками. После нашествия они вышли из повиновения имперским властям. В IX в. их пришлось подчинять заново — наравне со славянами.[885] Язычники из Майны вошли в некое соглашение с «варварами». Соглашение сохранило за майниотами не только крепость (которую словене не могли взять, как и Монемвасию), но и богатые оливой окрестные земли — главный источник существования в безводном краю. Словене громили в основном крупные города и верные Империи крепости — оплоты военной, церковной и гражданской власти. Сельское население, тяготившееся религиозной и налоговой политикой властей, пострадало в меньшей степени. Оно не вступало в конфликт с захватчиками, хотя едва ли приветствовало их. Словене могли облагать греческие общины данью (не это ли имеют в виду хронисты, говоря об «унижении» эллинов?), но не уничтожать их. Так, лаконские селяне, судя по всему, довольно мирно сосуществовали со словенами. Согласно «Монемвасийской хронике», после бегства спартанских граждан «пастухи стад и земледельцы» остались в Лаконии, «в лежащих поблизости каменистых местах». Под влиянием словен образ жизни этой группы населения претерпел серьезные изменения. С Х в. потомки древних лаконцев воспринимались уже как особое этническое меньшинство — «цаконы».[886] Помимо того следует помнить, что Эллада оставалась в рамках державы ромеев своеобразным заповедником классического рабовладения. Для немалого числа неполноправных ее жителей война сулила освобождение. Рабство же у самих словен (не стоит сомневаться, что они брали пленников) было не в пример легче, а главное — не пожизненным. Смешение со своими данниками и пленниками стало одной из причин быстрой утраты словенами восточного и центрального Пелопоннеса ряда черт своей культуры (домостроительство, погребальный обряд, керамика). Словене, несомненно, смешивались не только с эллинами, но и гораздо быстрее с союзниками — гепидами, болгарами, аварами. Процесс этот начался еще в Поморавье.[887] В то же время славянская культура сохраняла самобытность. Словене держались за свой язык.[888] Сохраняли они и этническое самосознание — потомки всех пришельцев с севера (включая авар) к началу IX в. уже считались славянами. Словене сохранили на Пелопоннесе и в других областях Эллады свои навыки земледелия, некоторые особенности домостроения — позднее воспринятые и местными жителями.[889] Завоевание греческих земель являлось частью войны, которую авары и словене вели против Империи. Поэтому эллины восприняли происшедшее, как покорение своей страны каганом. Но по сути, и греческий хронист признает, что «авары» (точнее, славяне) на Пелопоннесе, не покоряясь Империи, не были подвластны и «кому-либо другому»[890] — аварскому кагану в том числе. На землях Пелопоннеса сформировались новые славянские племена, в которые влились и союзники словен. Из словенских племен, осевших на Пелопоннесе в конце VI в., нам известны по имени лишь два. Это милинги и езеричи (????????), жившие в центральных областях южного Пелопоннеса. Они являлись сильнейшими и наиболее многочисленными славянскими племенами полуострова и дольше сохраняли независимость. Между собой они находились в тесном союзе.[891] Название «милинги» определенно германское по форме. Оно образовано с германским «отчеством» — ing от славянского имени с основой на «Мил».[892] Основой племени мог стать гепидо-словенский отряд во главе со словенским предводителем. Милинги поселились в окрестностях древней Спарты, в Лакедемоне.[893] В самом городе следы присутствия славян незначительны.[894] Одним из источников существования для племени стал сбор дани с немногочисленных вернувшихся горожан и лаконского крестьянства (будущих цаконов). «Езеричи» — результат перевода на славянский греческого названия «Элос», то есть «Озеро». Так звалась область расселения этого славянского племени — в топких низовьях реки Эврот, к югу от Лакедемона.[895] Позже местность стала именоваться также по-славянски «Езеро» (??????).[896] Восприятие местного названия — свидетельство достаточно тесных контактов первых езеричей с эллинами. Именно эти славяне могли находиться в союзе со своими близкими соседями — изменившими Империи язычниками из Майны.[897] Итак, словене добились значительных успехов, заняв без заметных препятствий обширные области Ахайи. Действия кагана на севере, во Фракии, оказались в 587 г. гораздо менее удачны. Весной смелые операции ромейских командиров свели на нет все успехи авар в Нижней Мезии и Скифии. Самому кагану, зимовавшему близ Том, пришлось спасаться бегством. Позже ему удалось, однако, разбить противника и разорить фракийские провинции, загнав ромеев за Длинные стены. Но в Астике он был застигнут Коментиолом, и лишь внезапно вспыхнувшая в рядах ромеев паника свела дело вничью, к «взаимному бегству». Каган вновь принялся разорять Фракию (именно в это время авары овладели осадной техникой). Он штурмовал Адрианополь — но безуспешно. Осенью новый стратиг Иоанн Мистакон разбил авар под стенами Адрианополя и этой победой завершил войну.[898] Каган отступил на запад и вновь попытался призвать к оружию нижнедунайских словен. Это ему удалось — во всяком случае, в 588 г., как и в 585-м, «полчища славян причинили большой вред области Фракии».[899] Но на этом волна нашествия иссякла. Словене, несомненно, устали от многолетней войны. К тому же с востока им теперь угрожали анты. Те, кто искал новых земель, обрел их — будь то во Фракии, Поморавье, Македонии или Греции. Теперь эти земли требовалось осваивать и обживать — а делать это в состоянии непрерывных военных действий с Империей, все еще мощной, и вражды с аборигенами едва ли стоило. Интересы кагана, натравливавшего дунайцев на ромеев, на время вошли в противоречие с нуждами самих словен. Ни о каких крупных столкновениях во Фракии в ближайшие годы после 588-го нам неизвестно. Основным итогом нашествия 580–588 гг. стало поселение значительных масс словен к югу от Дуная, на землях Империи. Этим было положено начало истории южнославянских народов — хотя их непосредственное формирование относится уже к следующему периоду. Дунайский лимес не стал для словен и авар непреодолимым препятствием. Тем не менее в последнем десятилетии VI в. он еще существовал. Задачей Империи стало удержание границы по Дунаю — пусть и за спиной уже прошедших ее «варваров» — любой ценой. Глава четвертая. Битва за ДунайСевер в пору аварских войнПоражение 587 г. побудило кагана к поискам новых союзников. Силы словен Нижнего Подунавья оказались недостаточны для сокрушения Империи. К тому же их племена не были склонны выполнять любые распоряжения авар и действовали исходя из собственных интересов. Каганат нуждался в увеличении численности племен непосредственно подчиненных, которые выполняли бы прямую волю кагана. Внимание авар обратилось на славянский север. Естественно было искать союзников среди тех словен, которые прибывали с севера к Нижнему Дунаю, побуждаемые недостатком пахотных земель. Выше уже говорилось, что наряду с дулебами в этих переселениях участвовали и ляшские (лендзянские) племена Юго-Восточной Польши. Часть их переселенческого потока кагану удалось перенаправить в свои земли. Он привлек лендзян мощью каганата и посулами земель, которые удастся вместе захватить у ромеев. Далматинский хронист Фома Сплитский в XIII в. передавал предание о том, что «вместе с Тотилой» (Фома смешивал готов и авар[900]) в Далмацию «из земель Полонии пришли семь или восемь знатных родов, зовущихся лингонами».[901] Это те самые славяне, которые вместе с аварами («готами») в начале VII в. захватили Далмацию и о которых писал также Константин Багрянородный. «Лингоны» обычно и справедливо толкуется как ученое искажение племенного названия лендзян.[902] Предания, передаваемые Константином, помещают этих славян близ границ Далмации, за пограничной рекой, отделявшей ее от Аварского каганата. Реку эту Константин отождествил с Дунаем.[903] Но на самом деле предания имели в виду Саву. Именно Сава отделяла в ту пору земли ромеев от аварской Паннонии, и только к Саве имело смысл высылать воинов из крепости Клис (в 4 км к северу от Салоны, столицы Далмации).[904] Фома сообщал о переселении целых славянских «племен».[905] Константин рисует славян («авар») занятыми, помимо войны, и мирным трудом, живущими с женщинами и детьми.[906] Привлеченные каганом лендзяне были действительно не просто военными отрядами неженатой молодежи, а общинами земледельцев, искавшими новых мест. На новых местах они быстро перемешались с аварами. Но Константин, писавший три столетия спустя, мог отождествить славян и «авар» просто из-за их совместных действий. Не следует преувеличивать и ту «знатность», о которой говорит Фома — для позднейшего, уже средневекового предания естественно преувеличивать родовитость предков. Благодаря привлечению на свою службу лендзян каган, должно быть, получил какие-то более или менее определенные сведения о ситуации на севере славянского мира. Во всяком случае, едва ли он действовал в дальнейшем наобум, без конкретных данных о прибалтийских землях. В скором времени после поражения осени 587 г. (едва ли позже весны 588-го[907]) каган отправил послов на север. Его послы просили у славянских племен Полабья и Южной Балтики «воинских сил», предлагая вождям «богатые дары». Это были суммы из ромейской же дани — они частично обнаружены в кладах поморских земель. Однако «этнархи» приморских славян (то есть поморян низовий Одера), «приняв дары, отказали ему в союзе». Они ссылались при этом на дальность пути. Рассчитывая на благородство кагана, «этнархи» отправили к нему посольство из трех человек с извинениями. Оскорбленный вождь авар, однако, «забыв о законе послов, начал чинить им препятствия к возвращению». Он рассчитывал таким путем либо получить назад деньги, либо добиться высылки воинов. Послы сбежали во Фракию, где попали в руки самому Маврикию, уверив его при этом, что к ромеям и бежали — те, дескать, «славятся богатством и человеколюбием». Император, «восхитившись» славянами, в то же время не слишком им поверил — и отослал во фракийскую крепость Ираклию.[908] Дальнейшая их судьба неизвестна. Неудача с поморянами не была катастрофой для кагана. Большинство подкупленных им племен откликнулось и выслало свои силы на подмогу. В лесистых землях между Одрой и Лабой места хватало явно не всем, и племена могли стремиться избавиться от части беспокойной молодежи. В результате на землях каганата появились ободричи, смоляне и стодоряне. Каган призывал в данном случае именно «воинские силы», а не общины переселенцев. Прибывали, соответственно, молодые воины, которых каган расселял и обустраивал среди своих подданных — словен и гепидов. Утрачивая при этом большинство черт духовной и материальной культуры, такие переселенцы, однако, сохраняли племенное самосознание — и племенные имена. Ободричи осели в Потисье, к востоку от Паннонии, где оставались еще и в первой половине IX столетия.[909] Возможно, что в этом же регионе, основной базе для вторжений кагана в Иллирик, или даже уже за Дунаем, в Поморавье, были сначала поселены смоляне. В первой половине IX в. это племя жило далеко к югу от Дуная, на юго-западе современной Болгарии, по реке Струме.[910] Стодоряне же были помещены существенно западнее. Их след — Стодорская долина в верховьях Дравы,[911] на подступах к Истрии и ромейским владениям в Италии. 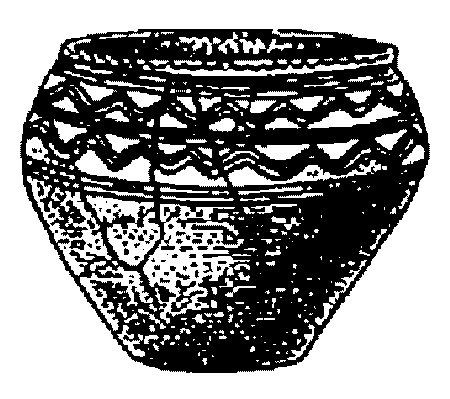 Фельбергский сосуд Установление связей с каганатом способствовало обогащению племенной знати венедов и, как следствие, — усилению ее власти над соплеменниками. С другой стороны, должно было усилиться давление каганата на единственных своих врагов в северном регионе — хорватский племенной союз. Хорваты и союзные им племена, занимая Чехию и частично Силезию, являлись естественным препятствием на пути прямых контактов между каганом и венедами. Связь с последними могла осуществляться лишь в обход хорватских земель, через территорию лендзян. Именно ляшские племена и явились союзниками каганата в натиске на чешских и верхнесилезских славян. С этим напором можно увязать не только продолжавшуюся миграцию из Чехии в бассейн Лабы — Заале, но и движение из Силезии на север, приведшее к сложению новой, фельдбергской культуры. В Силезии к концу VI в., как полагают, строятся уже первые оборонительные грады.[912] Носителями фельдбергской культуры признаются славянские племена велетов (вильцев).[913] Их миграция могла быть вызвана аварским нашествием на обжитые прежде земли. С другой стороны переселение предстает скорее как целеустремленное военное вторжение. Это заставляет думать и об иной возможности. Не была ли миграция велетов сознательной военной акцией враждебных аварам племен — дабы нанести удар по северным союзникам каганата и всемерно ослабить противника? Основным толчком к началу завоевательных войн явилось само возникновение племени (или уже небольшого союза «родов») велетов. Костяком его, давшим общее имя, стали, как уже говорилось, переселенцы из Юго-Западной Прибалтики, где племя вельтов известно во II в. н. э. В Верхней Силезии они быстро ославянились, переняли традиции суковско-дзедзицких племен в домостроительстве и погребальном обряде.[914] Главной культурной особенностью «фельд бергцев»-велетов является керамика — изготовленная на гончарном круге, с хорошим обжигом и богатым орнаментом (горизонтальные линии, ряды волн, реже штампы и налепка). Керамика эта представлена невысокими сосудами с широким горлом, выпуклыми боками и суженым низом.[915] Как уже говорилось, появление гончарной керамики указывает на еще один компонент сложения велетского племени — бродячих гончаров германского происхождения. Скорее всего, гончары совместно с балтийскими пришельцами вошли в элиту нового объединения. Быть может, основу племенной дружины составили члены бойнических братств, происходившие из разных племен. Это объяснило бы прослеживаемую даже археологически повышенную агрессивность велетов. В велетской элите можно выделить и еще один, несколько неожиданный компонент. В конструкции известных уже с VII в. (Фельдберг) и уникальных для славян велетских храмовых зданий явственно ощущается кельтское влияние. Верхняя Силезия издавна являлась местом встречи праславянской, германской и кельтской культур, и кельтские традиции храмового строительства могли уцелеть именно здесь.[916] Кельтский друидизм был, пожалуй, наиболее развитой из языческих религиозных систем «варварской» Европы. Нет ничего удивительного в том, что он оказывал воздействие на местных жителей, даже когда кельтский этнический элемент в Силезии полностью стерся. Далекие потомки кельтских жрецов-друидов, сохранившие некоторые их традиции, влились в велетскую знать. Точная датировка событий невозможна, но вторжение в венедские земли велеты начали в конце VI в.[917] К этому моменту они уже продвинулись в Нижнюю Силезию, где и завершилось формирование племенной общности. Первый удар пришелся на стодорян в бассейне Шпрее — Хафеля.[918] Велеты передвигались большими организованными группами, ударную силу которых, несомненно, составляли мужчины-воины. Вторжение встревожило местные племена. Повсеместно, сначала в землях стодорян, а потом и дальше на север, начали возводиться укрепленные грады. На рубеже VI–VII вв. были основаны крепостцы Бранибор (Бранденбург), Кепеник, Шпандау, Бланкенберг.[919] Однако само количество этих городищ-убежищ свидетельствует о слабой (по сравнению с велетами) черте политической организации стодорян и их сородичей. В отличие от врага, венедские племена были крайне раздробленны политически. До создания единого «княжения» даже в рамках сравнительно небольшого региона они дошли не сразу. В то же время велеты, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, не стали в массе задерживаться в земле стодорян. Присоединение стодорян к велетскому союзу произошло уже позже. По крайней мере, массового разрушения градов не отмечено, и главный очаг фельдбергской культуры сложился дальше к северу. Велеты, сперва двигавшиеся вдоль Лабы, отклонились затем на северо-восток, к Одре. По пути они существенно потеснили ободричей. Под давлением завоевателей суковские племена на рубеже VI/VII вв.[920] сдвинулись на север и осели на берегах Балтики, в срединной части междуречья Лабы и Одры. Именно здесь ободричей позже знают письменные источники. Основную же тяжесть велетского натиска приняли на себя племена Западного Поморья. Вторжение велетов отмечено группой невскрытых кладов с имперскими монетами в низовьях Одры, о которых уже говорилось. Брежане и поморяне, жившие к западу от Одры, были частично изгнаны за реку. Эта часть земель Южной Прибалтики превратилась в главный район расселения велетов. На западе велеты потеснили жившее здесь (по реке Варне) древнее германское племя варнов. Варны были вынуждены влиться в ободричский племенной союз, тем более что ободричи уже начали расселяться на их землях. Главной побудительной причиной образования венедского союза во главе с ободричами как раз и была борьба против велетов. Позднее варны, проживавшие на границе между ободричами и велетами, ославянились. На пути своего движения и в отдельных военных акциях велеты уничтожали венедские грады, истребляя или изгоняя жителей. На захваченных территориях они возводили собственные укрепленные поселения. В каждом велетском граде имелось несколько десятков дворов, на которых проживало в общей сложности от 600 до 1000 человек.[921] Численное превосходство, несомненно, стало наряду с лучшей организацией одним из залогов велетских успехов. С другой стороны, постоянное проживание в укрепленных градах свидетельствует о том, что велеты на захваченных землях жили в условиях постоянной угрозы — будучи сами, впрочем, едва ли склонны к вечному миру. В то же время основная масса венедов осталась на прежних местах. Велеты в первую очередь уничтожали грады — центры сопротивления — и враждебную племенную элиту. Остальная же часть побежденного племени включалась в велетский союз на условиях даннической зависимости. Со временем велеты стали обильно смешиваться с покоренными племенами, а фельдбергская керамика распространяется на суковских поселениях.[922] Собственно велеты, жившие в градах, составили элиту нового союза. В эту своеобразную аристократию входили племенные князья, дружинники, ремесленники-гончары и жрецы. Велетское общество было гораздо в большей степени иерархично, чем венедское. Велетские вожди (в отличие от ободричей) в VIII в. носили двусоставные «княжеские» имена. Память о велетских завоевательных войнах сохранилась в средние века не только в молве об особой свирепости велетов (позже — лютичей). В норвежской «Саге о Тидреке», которая представляет собой перевод германских эпических сказаний, выделяется так называемая «Вильцина-сага», то есть сага о вильцинах (вильцах, велетах-лютичах).[923] В ней заметны некоторые элементы уже не немецкого, а славянского эпоса. Повествование о вильцинах открывается рассказом о завоевательных войнах «конунга» Вильцина (то есть Велета), разорившего и покорившего многие страны, в том числе Польшу и Русь. По его имени и названы будто бы вильцины.[924] В дальнейшем, после смерти Вильцина, его народ побеждают и покоряют обложенные ранее данью русские.[925] В последующем повествовании о русских и вильцинах давно и не без оснований видят первую запись русских былин «Владимирова» цикла. Это наводит на парадоксальную, на первый взгляд, мысль — не из Руси ли, через Новгород, была воспринята вся канва «Вильцина-саги»? Новгородские словене были выходцами из Южной Прибалтики.[926] Их предки, скорее всего, имели дело с велетами и были ими подчинены. Память об этом факте сохранилась в предании, а освобождение трактовалось спустя века как конечная победа над противником и его покорение. Велет, точнее «Волот Волотович» (в северорусских преданиях волоты — мифические великаны), действительно обнаруживается и в русском эпосе. Но в эпических песнях XIX–XX вв. царь Волот — уже не воитель, а мудрец, восприемник и хранитель сокрытой мудрости. Этот персонаж (смешиваемый с былинным Владимиром) — главный в т. н. «духовном стихе» о Голубиной книге. Здесь он вопрошает библейского царя Давида о смысле «выпавшей» с небес «книги Голубиной», скрывающей знание об устройстве мира.[927] «Голубиная книга» — произведение, родившееся в атмосфере «народного христианства», а по сути многоверия — сочетает самые разные по происхождению элементы. В основном она восходит к переводному апокрифу «Беседа трех святителей». Сложился памятник не позднее XV столетия.[928] Присутствие в «Голубиной книге», наряду с чертами «христианских» ересей, частиц языческой мифологии признается многими специалистами.[929] Итак, до нового времени сохранилась не только (а затем — и не столько) память о велетских войнах, сколько о велетах и их «царе» как носителях некоей сакральной «мудрости». В связи с этим, восходящим к языческим временам представлением нельзя не вспомнить о «кельтской» составляющей в религиозной культуре велетов. Как уже указывалось, кельтский друидизм являлся наиболее развитой из «варварских» религиозных систем Европы. Велеты, надо полагать, наследовали не только внешние проявления, но и отдельные космологические доктрины этой сложной религии, хранителем которой являлось замкнутое жреческое сословие. Кельтское «знание» было не только частично воспринято велетами, но и навязано ими покоренным племенам. В связи с этим язычество в сфере велетского влияния обрело некую цельность и связность, «философскую» подоплеку, незаметную в других славянских землях. Недаром именно полабско-поморский и северорусский регионы стали позже главными оплотами языческого сопротивления христианизации. В то же время велетской традиции оказалась чужда такая черта друидизма, как главенство жрецов в духовной сфере. Верховным носителем священного «знания» считался князь — сакральный и военный вождь одновременно. Он являлся одновременно главой игравшего большую общественную роль дружинного союза, связанного с культом волка (ср. позднейшие названия велетов — «вильцы», «лютичи»[930]). Все это отразилось в славянских преданиях о князе Велете — великом завоевателе и приобретателе «глубинных» знаний. Завоевательные войны велетов привели к образованию на славянском северо-западе двух противостоявших позднее друг другу веками племенных объединений — велетского и ободричского. В исторической ситуации VI в. эти события отрезали Аварский каганат от северных венедских союзников и сковали силы последних. Но решающего значения для аваро-ромейских войн эти далекие события иметь не могли. Судьбы Империи решались не на Балтике, а на Дунае. Возобновление аварских войнРазгром кагана во Фракии в 587 г. позволил Маврикию сосредоточить на Персидской войне все свое внимание. В 588–589 гг. ромеям удалось создать против персов новую коалицию, в которую вошли, помимо кавказских владетелей, также отвлекшиеся от своих междоусобиц тюркюты и хазары. Персы разгромили вторгшихся кочевников. Но вслед за тем удача улыбнулась императору. В Иране внезапно вспыхнула гражданская война, стоившая трона шаху Хормизду. Сын свергнутого царя, Хосров, в итоге нашел убежище у Маврикия. Теперь Империя вела на востоке совсем другую войну — войну за восстановление законной власти, при поддержке влиятельной партии в среде самих персов. Как только стало возможно, Маврикий начал переброску частей с Востока в Европу. Угроза аварского вторжения во Фракию сохранялась, и сведения из-за пределов Астики с трудом доходили до Константинополя. В октябре 590 г.,[931] стремясь предупредить возможное вторжение, Маврикий предпринял со всеми наличными силами военную демонстрацию во Фракии. Он обошел с войсками всю реально подвластную Империи часть диоцеза — собственно говоря, его юго-восточную часть вплоть до Анхиала. Именно в этом походе, по пути к Анхиалу от побережья Мраморного моря, в руки Маврикию попали послы поморских славян, о которых речь шла выше. То, что они беспрепятственно прошли в глубь Фракии, почти до самых Длинных стен, ясно свидетельствует о слабости ромейского контроля над территорией. Но акция Маврикия достигла цели — нападения авар не последовало. Каган на какое-то время удовлетворился возобновлением договорных выплат. К тому же император обрел нового союзника. Король Австразии Хильдеберт,[932] стремившийся укрепить свои восточные рубежи и опасавшийся возрастающей мощи авар, сам предложил Маврикию заключить против них союз. 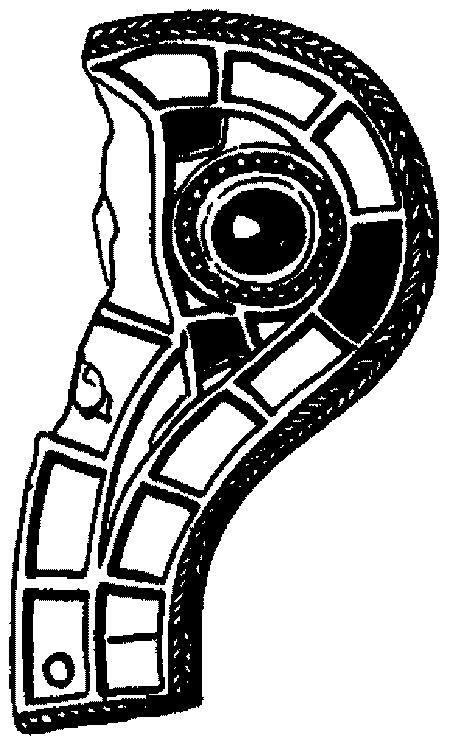 Скоба для ножен. VI–VII вв. Результатом мер, предпринятых императором, стало восстановление ромейского контроля во Фракии и отчасти на севере Иллирика. Во всяком случае, в 592–593 гг. граница по Дунаю функционировала. Путь к фракийским переправам шел по более или менее контролируемой ромеями территории. Ромеи удерживали — хотя и во враждебном окружении словен — даже Сингидун. Каган же удалился в Паннонию. Тогда же были восстановлены некоторые позиции и на юге, в Ахайе. В 591 г. Коринф и его окрестности уже снова принадлежали Империи.[933] Тогда же отчасти вернулись жители в города на севере Пелопоннеса — Аргос и Патры. В результате осевшие на полуострове словене оказались заперты там. В начале 591 г. Хосров II Парвиз при поддержке ромеев вступил на отцовский престол. Персидская война, наконец, завершилась, и осенью стороны подписали выгодный для ромеев мир. Теперь у Маврикия были окончательно развязаны руки. Войска спешно перебрасывались из Азии в Европу. Каган, вне сомнения, быстро осознал сложившуюся ситуацию. Он решил ускорить события, пока противник еще не успел набрать сил. В 592 г.[934] каган потребовал от Маврикия снова увеличить «даннические» выплаты. Не последовало даже ожидаемого отказа. Осмелевший император попросту проигнорировал «речи варвара». В ответ каган «немедленно» двинул войска к границе Мезии. Он приказал словенам, жившим по обоим берегам Дуная близ Сингидуна, «построить множество челнов» для переправы аварской орды.[935] Мораване не слишком хотели ввязываться в новую войну с Империей. Но они боялись кагана и решительно приступили к делу.[936] При этом они столкнулись с ожесточенным сопротивлением горожан. «Частыми набегами» сингидунцы «сводили на нет труды славян и предавали огню все, заготовленное ими для переправы». Отсюда следует, что работа шла преимущественно на южном, сингидунском берегу Дуная. В конце концов, раздраженные словене подступили к городу и осадили его. Осада длилась неделю. Давно потерявший связь с Империей, отрезанный от подвоза продовольствия Сингидун был «доведен до крайней степени несчастья». Горожане, казалось, готовились к сдаче — когда недовольный промедлением каган отозвал словен. Он решил переправляться дальше на запад, не через Дунай, а через менее полноводную и протекающую по его владениям Саву. Словене ушли от Сингидуна, не преминув, впрочем, взять с горожан откуп — 2000 золотых, «инкрустированный золотом стол и одежду».[937] Вместе с «полчищами» словен каган прошел вверх по Саве к давно захваченному Сирмию. Здесь он разбил лагерь и велел словенам снова взяться за строительство. Словене спешно принялись за работу. Когда они построили необходимое количество «судов», каган со своим войском переправился через реку.[938] В развернувшейся далее кампании словене сколько-нибудь заметного участия не приняли. Каган, должно быть, отметил их недовольство и решил не привлекать к военным действиям в глубине имперской территории. Дела авар сперва шли достаточно успешно. Каган без сопротивления миновал земли Верхней Мезии и Дакии, вступил во Фракию. Лишь на перевалах, ведущих к Астике, ромеи попытались дать ему отпор. Но авары в конечном счете прорвались через горы и дошли с войной почти до самых Длинных стен. Разгромленный каганом стратиг Приск был осажден поблизости от них, в крепости Цурул. Маврикию, однако, удалось хитростью отвести угрозу от столицы. Он подбросил аварам дезинформацию о том, что ромейский флот готовится к удару по аварам. Обеспокоенный каган поспешил заключить перемирие с Приском и удалился из Фракии за Дунай.[939] Тревогу кагану внушили и события на западе. Здесь франки вели уже активные действия близ самых границ каганата. В 592 г. Хильдеберт покорил баваров и посадил на баварский престол своего ставленника — Тассило из рода Агилольфингов. Первым действием нового короля стал грабительский набег на «страну славян» — земли альпийских словен. Разгромив их в битве на холме Фикторибюэль близ Иннихена (ныне Сан-Кандидо), Тассило «возвратился с величайшей добычей».[940] Набег Тассило на славян был призван поднять авторитет поставленного франками короля среди подданных. Но помимо этого он отвечал и политическим целям Хильдеберта, врага авар и их союзников. Таким образом, возобновившаяся Аварская война теперь приобретала почти что общеевропейский масштаб, и в нее оказались втянуты самые разные славянские племена. Экспедиция ПрискаВторжение авар немедленно привело к активизации славянских набегов на Фракию. Теперь они диктовались уже не столько поиском новых мест, сколько жаждой наживы племенной знати. Набеги организовывал лично Радогост, посылавший за Дунай племенные дружины дунайцев. При этом сам он в военных действиях участия не принимал. «Роды славян», судя по всему, нанесли в 592 г. серьезный ущерб северным землям диоцеза. Они беспрепятственно переправлялись через Дунай, используя слабость здесь ромейской власти и нашествие кагана.[941] Свою лепту в разор внесли и единоплеменники дунайцев, уже осевшие в Скифии и Нижней Мезии.[942] Раздраженный происходящим на севере Фракии, Маврикий решил использовать образовавшуюся в аварской войне передышку для расправы над словенами. К весне 593 г. в Европе было уже достаточно сил для масштабного военного предприятия. Маврикий вверил их Приску и отправил стратига к границе — прикрыть переправы через Дунай, «чтобы роды славян… против воли оставили Фракию в покое». «Варвары не уймутся, — наставлял император полководца, — если ромеи не будут усердно охранять Истр».[943] Ранним летом Приск достиг Доростола. Здесь к нему явились послы кагана, обвинившие его в нарушении договора о перемирии. Судя по всему, авары уже воспринимали чуть ли не все Нижнее Подунавье как свою территорию. Приск ответил на претензии авар сдержанно. Он заявил, что «война начата против славян: ведь соглашения и договоры с аварами не отменяют войны с гетами».[944] Таким образом, он мягко дал понять кагану, что не признает его притязаний на все задунайские «варварские» земли. Аварские послы, казалось, удовлетворились ответом. Осмелевший Приск стал готовиться к переправе через Дунай и вторжению непосредственно в словенские земли, — строго говоря, вопреки данным ему полномочиям. Наступательная война казалась ему эффективнее оборонительных действий. Между тем Радогост тоже готовил войну — вернее, обычный «поход за добычей» племенного ополчения дунайцев.[945] Можно не сомневаться, что о Приске он знал — если слух дошел даже до кагана. Но словенский вождь рассчитывал на заступничество сильного союзника. К тому же он чувствовал за собой прочный тыл. Где-то между Прутом и Сиретом расположился в ту пору станом сам Мусок — «рикс» словен. Он со своими воинами объезжал тогда южные дулебские земли. Как уже говорилось, гощение главы дулебского союза, скорее всего, падало на теплый сезон. Собрав большое войско, Радогост отправил его к Дунаю. Еще не знавший об этом Приск тем временем переправился через реку близ Доростола. Получив известия о начале набега, стратиг решил не медлить. Радогост явно не ожидал нападения. Подготовка ромеев к переправе была скорой и скрытной. Основные силы словен готовились к набегу в ставке Радогоста (в пределах дневного перехода от Дуная, южнее Яломицы). В первую же ночь за Дунаем Приск внезапно атаковал врага. Радогост был захвачен врасплох. Разбуженный шумом начавшегося боя, он «вскочил на неоседланного коня и обратился в бегство». Но ромеи, для которых словенский вождь был желанной добычей, перехватили его. Радогост спешился и вступил в схватку. Враги, однако, превозмогли, и Радогост бежал вновь — теперь уже пешим. В бегстве через «непроходимые места» он налетел на древесный ствол и едва не попал в руки врага. Но в конечном счете Радогост ушел от погони, переплыв близлежащую реку.[946] Разгромив ставку Радогоста, Приск принялся за опустошение страны. «Полчища», отправленные словенским вождем к Дунаю, ромеи «сделали добычей меча» — ударив в тыл той же ночью. Вся округа подверглась разграблению. В руки ромеев попала «великолепная» добыча, в том числе пленные словене. Из-за дележа захваченного в войске чуть не вспыхнул мятеж. Приску с трудом удалось убедить своих солдат расстаться с большей частью добычи в пользу императорского семейства. Пленники, забитые в колодки, и выделенная для Маврикия львиная доли добычи были отосланы в Константинополь под охраной трехсот воинов во главе с Татимером.[947] Первое поражение сделало невозможным организованное сопротивление дунайцев. Они применили свою старую тактику — бегство в труднодоступные лесные укрытия. Во всяком случае, разведчики Приска, отправившиеся на поиски врага после замирения бунта, за два дня не обнаружили признаков словен до самой Яломицы (Иливакия). Кто-то за минувшее время успел добраться до стана Мусока за Сиретом и донести до него известие о разгроме Радогоста. Дулебский вождь поспешил, в свою очередь, выслать к Яломице разведывательный отряд, который должен был оценить силы ромеев. Не доходя до реки, разведчики натолкнулись на ромеев.[948] Приск, ничего не зная о словенском «риксе», не собирался останавливаться на достигнутом. Выяснив, что в окрестностях разоренной ставки Радогоста словен не осталось, он приказал одному из своих таксиархов, Александру, переправиться через Иливакий. Именно с Александром и столкнулась разведка Мусокия на северном берегу Яломицы. К битве словене не готовились, и потому обратились в бегство, скрывшись в «близлежащих болотах и дикой чаще». Устремившиеся в погоню воины Александра едва не погибли в трясине поголовно. Александр приказал поджечь топь, чтобы выкурить словен из зарослей либо спалить вместе с ними. Но эта попытка окончилась ничем — влажность пересиливала огонь. Ромеям помогла измена. Находившийся среди словен (в качестве толмача?) крещеный гепид перебежал к единоверцам и указал проход через болото.[949] Воины Мусока, попав в руки Александра, мужественно выдержали допрос с бичеванием. По словам Феофилакта, «варвары, впав в предсмертное безумие, казалось, радовались мукам, как будто чужое тело испытывало страдания от бичей». Впрочем, большой нужды в этом дознании у Александра не было — он, скорее, рассчитывался с пленниками за свои трудности. Гепид без всякого принуждения рассказал ромеям о «риксе» Мусоке, о местонахождении его походного лагеря и намерениях. Более того, перебежчик «убеждал ромеев совершить дружное нападение и взять варвара неожиданностью атаки». Александр вернулся к Приску с новостями и пленниками. Стратиг приказал убить захваченных словен. Гепида же, вызвавшегося «с успехом обмануть» словенского «рикса», Приск наградил и обещал ему еще более щедрые дары.[950] Пока Приск переправлялся через Яломицу, гепид вернулся в лагерь Мусока. Он попросил у князя «множество однодеревок, чтобы переправить» беженцев из владений Радогоста через Сирет (Паспирий). Мусок с готовностью и радостью согласился выручить соплеменников и передал гепиду 150 лодок с 300 гребцами.[951] Словене переправились через Сирет и разбили лагерь на южном берегу, ожидая придуманных гепидом беженцев. Приск между тем уже двигался к реке. Ночью после переправы гепид скрытно выбрался в лагерь ромеев и попросил у Приска сотню воинов. Стратиг, чтобы действовать наверняка, дал две сотни во главе с Александром. Неподалеку от реки гепид скрыл Александра и его воинов в засаде, а сам вернулся к словенам. В лагере царила беспечность. Гребцы предались пьянству, а гепид им как будто в шутку «грозил гибелью». Когда сон сморил всех, гепид вывел из засады Александра и указал ему дорогу. Затем, вернувшись в лагерь и убедившись, что спутники все еще спят, он пропел «аварскую песню» — условный сигнал. Ромеи, напав, перебили спящих гребцов и захватили лодки. Александр послал Приску извещение об успехе, призывая его торопиться с нападением. Погрузив на лодки три тысячи воинов, Приск переправился через Паспирий.[952] Мусок тем временем, в ожидании беженцев, перенес стан ближе к Сирету. На беду для словенского князя, у него как раз в эти дни скончался брат. Пока Приск переправлялся через Сирет, Мусок и его воины справляли тризну. В полночь ромеи обрушились на отягощенных трапезой и возлияниями словен. Приск устроил в лагере «варваров» бойню, не встретив серьезного сопротивления. Мусок попал в плен. Его воинов ромеи убивали до самого рассвета. Лишь с восходом солнца стратиг остановил своих солдат. Два дня он оставался на месте разгрома дулебов. Но затем Приск переправился обратно вместе со всей захваченной добычей.[953] Он счел, что пленение «рикса» ожесточит славян, а сам он зашел слишком далеко в глубь едва изведанных земель. Однако осторожности Приска не разделяли его солдаты. Богатая добыча (легко объяснимая, если Мусок действительно объезжал подвластные племена) позволила ромеям «впасть в роскошь». Затем, в довершение, войско «погрязло в пьянстве». Дозорами стали пренебрегать. Это позволило словенам «отплатить ромеям за набег». Словене напали ночью, «собравшись вместе», — ополчение дунайцев и пришельцы из-за Сирета, включая уцелевших воинов Мусока. Феофилакт довольно скуп в описании этого боя. Но все же греческий историк вынужден был признать, что возмездие словен едва не оказалось «еще страшнее нападения» Приска на них. Потери ромеев явно были очень серьезны. Словен удалось отогнать лишь благодаря решительным действиям Генцона, командующего пехотой. К утру ромеи отбились. Приск велел посадить на кол начальников караула и выпороть их подчиненных.[954] Разорение земель Радогоста взволновало не только Мусока, но и словен, осевших за Дунаем. Татимеру, посланному, как мы помним, в Константинополь, не удалось достичь столицы без боя. Поскольку «полчища» Радогоста за Дунай переправиться не успели, можно не сомневаться, что ромейскому офицеру пришлось иметь дело именно с фракийскими словенами.[955] Главной целью словен было отбить пленных соплеменников. Татимер беспрепятственно переправился через Дунай где-то в окрестностях Доростола. Шел он со своим небольшим (300 человек) отрядом без всяких опасений. На шестой день после выступления, однако, его стоянка была посреди дня атакован словенами. Ромеи только разбивали палатки и устраивали палисад, отпустив пастись лошадей. Атака на собственной земле застала их врасплох. Началась паника. Татимер и некоторые другие успели вскочить в седло и приняли первый бой — но словен было гораздо больше. Татимер обратился в бегство и едва избежал гибели — «его настигли несколько шальных стрел». Подоспевшие пешие ромеи закрыли командира, и началась настоящая битва. В конце концов, верх одержали ромеи. Многие словене погибли, а 50 было захвачено в плен. Отогнав остатки врагов, ромеи вернулись в лагерь.[956] Когда раны начали заживать, Татимер приказал сняться с лагеря и двигаться дальше. Вскоре он уже прибыл в Константинополь. Первая за долгие годы внушительная победа в Европе привела Маврикия в восторг. Он приказал отслужить в честь разгрома словен всенощную в Святой Софии, а затем «вместе со всем народом вознес молитвы, прося Бога дать еще большие трофеи».[957] Знатнейших пленников гордый успехом император отправил в позолоченных цепях в дар своему персидскому союзнику, шаху Хосрову.[958] О победе над «Мусокием» Маврикий еще не знал. Но уже разгром Радогоста достаточно вдохновил его. Император отправил Татимера обратно с приказом для стратига — зазимовать на словенских землях.[959] Войско, однако, оценивало свои достижения иначе, чем император. Когда Татимер доставил приказ, солдаты зароптали и отказались повиноваться. «Они говорили, что не станут лагерем на варварской земле, что морозы здесь невыносимы, а толпы варваров неодолимы». Вновь Приску пришлось пустить в ход красноречие. Он сумел заглушить голоса недовольных, и бунт стих, толком не начавшись. Наведя порядок, стратиг обустроил зимний лагерь за Дунаем.[960] Однако зимовку не удалось довести до конца. Солдаты вскоре вновь начали роптать. В войске нарастал страх за свою богатую добычу (известно, что в руках ромеев было 5000 пленных). Все ждали внезапного нападения словен. В конечном счете Приск, не желая иметь дело с мятежом, вывел войско обратно за Дунай. За рекой его встретили посланцы кагана — тот любопытствовал, почему ромеи внезапно снялись со стоянок. Основную причину ухода — избыток добычи и недовольство воинов — Приск, разумеется, постарался скрыть.[961] Но уже на третий день после переправы стратиг узнал, что интерес кагана был отнюдь не праздным. Разгром словен в целом был на руку аварам. С поражением Радогоста и пленением Мусока каган получал реальную власть над дунайцами, оставшись для них на какое-то время единственной организующей силой. Теперь, когда речь шла о добыче, размеры которой каган и без Приска хорошо представлял, он мог использовать обстоятельства в своих интересах. Пылавшим жаждой мести и стремившимся освободить пленных сородичей словенам каган «приказал» переправиться через Дунай. Кроме того, он сам готовился атаковать Приска. Впрочем, алчность кагана встретилась с недовольством аварской знати. Аристократы под главенством Таргития — второго лица в каганате — заявили кагану, что «он несправедливо гневается на ромеев». Они, таким образом, не считали дунайцев «подданными» каганата и не хотели нарушать мир ни ради них, ни ради личных прихотей вождя. Именно эта группировка, скорее всего, и известила о происходящем Приска.[962] Приск отрядил к кагану в качестве посла лекаря Феодора. Переговоры начались трудно. Каган заявлял, что является «владыкой всякого народа» (в том числе и дунайских словен) и грозил своей непомерной мощью. Но ловкий и красноречивый Феодор смягчил кагана древней притчей о гордыне фараона Сесотриса. Поучительный пример произвел на кагана впечатление. Он умерил притязания и ясно сформулировал, чего хочет: «Да не останется каган лишенным доли в добыче: он [Приск] напал на мою землю, причинил зло моим подданным. Пусть и плоды успехов будут общими». В этом случае Приск мог стать кагану «хорошим другом».[963] Иными словами — в возмещение за разорение земель дунайцев ромеями каган требовал себе часть имущества, награбленного у его «подданных». Домогательства кагана, которые Приск склонен был поддержать, вызвали ярость в ромейском войске. Стратигу с трудом удалось убедить вновь забунтовавших солдат поступиться хоть чем-то. Ромеи решили отдать всех пленников — наиболее обременительную часть добычи. Тем самым невольно в буйстве мятежной сходки они нашли довольно удачный ход. Каган не получал ничего, поскольку удержать «подданных» (в том числе славянского «рикса») у себя в тех условиях едва ли осмелился бы. Зато удовлетворялись пересекшие Дунай словене, которые и были главной угрозой на пути к Константинополю. И действительно, после передачи пленников кагану ничего не оставалось, как выказать «радость» и «обеспечить ромеям проход».[964] Ослабленные войной словене и без того возвратились бы за Дунай, добившись свободы для соплеменников. Замирившись с каганом, ромеи беспрепятственно прошли балканские перевалы и вернулись в окрестности столицы, встав лагерем в Дризипере. Приск отправился с докладом в Константинополь. Здесь его ждал неприятный сюрприз — император еще до обратной переправы отправил стратига в отставку. Маврикия раздражала неспособность Приска жестко пресечь буйство солдатни. Во главе европейской армии теперь был поставлен Петр — брат императора. Уступка пленных кагану также вызвала гнев Маврикия — так что вместо благодарностей за действительно значимый успех Приск снискал лишь попреки.[965] Пирогостова войнаПосле похода Приска за Дунай мы не находим в источниках никаких упоминаний о славянском вожде Радогосте. О судьбе его после бегства из разгромленной ставки можно лишь строить предположения. Причем догадки эти могут быть прямо противоположными. Не исключено, что с Радогостом в итоге расправились сами соплеменники, поставив ему в вину бесславный разгром. С другой стороны, с пленением (пусть временным) Мусока освобождалось место главы дулебского союза. Не исключено, что Радогост отправился на север, и его статус в дулебском объединении каким-то образом возрос.[966] Так или иначе, но в следующем, 594 г. дунайцев возглавлял уже новый предводитель — Пирогост.[967] Феофилакт определяет его как «филарха» и «таксиарха», что соответствует славянскому «воевода». Пирогост, таким образом, считался не общим князем, а общим военачальником дунайцев. Совпадение второй составной части имен прежнего и нового вождя («-гост»), скорее всего, свидетельствует об их родстве.[968] Уже говорилось, что удар, нанесенный словенам Империей, сыграл на руку аварам. Их влияние распространялось все дальше вниз по Дунаю. Жившие в соседстве с каганатом племена попадали в зависимость от него. Подвластные аварам болгары уже в 594 г. «беззаботно» передвигались по словенским землям в Олтении.[969] Это было знаком резкого ослабления дулебского союза. Возможно, именно после пленения ромеями Мусока начались усобицы, ставшие предвестием конечного упадка.[970] Тем не менее Пирогост действовал против ромеев еще вполне самостоятельно. Как только ромеи покинули словенские земли, беженцы вернулись в свои дома и стали готовиться к отмщению. Неясно, хватало ли реально сил для масштабного вторжения — его так и не последовало, хотя слухи о нем тревожили Константинополь.[971] Но небольшой отряд словен все-таки вторгся в пределы державы ромеев. Дерзость и жестокость этих напавших указывает на состав дружины. В нее могли войти как члены бойнических братств, так и кровники, чьи родные погибли или были уведены в рабство ромеями. Словене переправились через Дунай на крайнем западе Олтении, близ самой границы с каганатом. Отсюда их набегов не ждали. Первым делом они захватили крепость Акис, которая менее десятка лет назад пережила аварское разорение. От Акиса словене двинулись на юг и дошли до окрестностей Сердики (ныне София), столицы провинции Дакия. Здесь они взяли одну из близлежащих ромейских крепостей — Скопис. Из Дакии они с полоном и добычей перешли во фракийские земли. Все эти территории слабо контролировались Империей. Хотя о маршруте отряда ромеям было известно, серьезного сопротивления словене не встретили. Пройдя через всю Нижнюю Мезию, они разорили крепость Залдапа в пограничье с Малой Скифией, а уже отсюда повернули к Дунаю, намереваясь переправиться где-то близ Доростола. К этому времени в отряде насчитывалось около 600 человек. На «огромном множестве повозок» они везли «большую добычу», а кроме того, гнали с собой пленников.[972] Так они и были застигнуты ромеями. В начале лета 594 г. новый стратиг Петр прибыл к войску, расположенному в Одиссе (ныне — Варна). Имея некоторые сведения о словенах, он намеревался сперва перехватить этот отряд, а затем переправиться за Дунай. Из Одисса Петр привел войско в расположенный западнее, недалеко от Залдапы Маркианополь. Отсюда он выслал авангард — тысячу конников. С ними словене и столкнулись.[973] Словене заметили ромеев первыми. Поняв, что также замечены, словене перебили из числа пленников всех боеспособных мужчин. Детей и женщин они согнали в середину спешно возведенного круга из повозок. Взойдя на возы, словене стали кидать дротики в коней приблизившихся ромеев. Командовавший ромейским авангардом Александр отдал приказ спешиться и идти врукопашную. Ромеи пешими ринулись на заграждение, стреляя в ответ на дроты. Словене упорно защищались. Но, наконец, одному из солдат Александра удалось заскочить на воз и сойтись с противниками лицом к лицу, пустив в ход меч. За ним последовали и другие. Когда ромеи разрушили кольцо повозок, словене, потеряв всякую надежду, перебили оставшихся пленников. Затем все они погибли в бою с ромеями, причем те одержали верх «с трудом».[974] На следующий день Александр известил о происшедшем Петра. Стратиг лично прибыл на место боя. Осмотрев все, он наградил солдат, не поставив никому в вину трагических последствий. Охотясь по соседству, Петр получил травму от клыков вепря. Это задержало его на какое-то время в окрестностях Залдапы. Но Маврикий выразил резкое недовольство промедлением брата, добиваясь скорейшего выступления к Дунаю. «Не вынеся упреков», стратиг 2 августа 594 г. выступил в поход, еще страдая от раны. 6 августа передовые части ромейского войска начали переправу через Дунай.[975] Между тем до Маврикия дошли от границы слухи, будто «полчища славян готовы обрушиться на Византий». Обеспокоенный император немедленно отправил Петру новый приказ — остаться на правобережье и защищать Фракию. Получив приказ 16 августа, стратиг вернулся на ромейскую территорию.[976] Следующие дни армия провела в блуждании вдоль Дуная, по приграничным крепостям. Петр бесплодно ожидал нашествия словен, но его не последовало.[977] Словенские вожди нарочно распускали подобные слухи и предпринимали демонстрации силы. Они рассчитывали, что таким путем смогут навязать ромеям оборонительную войну и предотвратить новое вторжение. И тем не менее, вторжение произошло. Кульминацией «похода» Петра по южному берегу Дуная явилась ссора с горожанами Асима — крепости на одноименной реке (ныне Осым), правом притоке Дуная. Стратиг разбил лагерь под стенами 29 августа. Восхищенный парадом городского гарнизона, Петр попытался присоединить его к своему войску. Горожане наотрез отказались, ссылаясь на дарованное императором Юстином I право защиты. Попытка силой мобилизовать солдат вылилась в грандиозный скандал с участием епископа, давшего им убежище. Петр был готов осаждать Асим, но в конце концов понял, что превращается в посмешище, и удалился под издевательства горожан.[978] Именно эта позорная ситуация, должно быть, побудила стратига немедля переправиться через Дунай и тем реабилитировать себя. Переправа произошла неподалеку от Асима, то есть в восточной Олтении.[979] От переправы Петр 5 сентября отправил вперед тысячный разведывательный отряд. Словен ромеи не обнаружили — это лишний раз доказывало, что реальные силы вторжения готовы не были. Зато авангард ромеев натолкнулся на «десять сотен» болгар. Кочевники не ожидали нападения со стороны ромеев, полагаясь на мир между ними и каганом. Последний к тому же находился тогда неподалеку. Ромеи внезапно забросали болгар дротиками. Те в ответ призвали не нарушать мира. Тогда командир отряда отправил гонца к стратигу, разбившему лагерь в 8 милях (11,84 км) от места стычки. Петр, желавший воинской славы, «велел… предать варваров мечу». Болгары, однако, разгромили равный по числу ромейский отряд и ушли к кагану.[980] Вскоре к Петру явились аварские послы, обвинявшие императорского брата в нарушении мирного договора. Петр заявил, «что он не знал об этой ошибке». Он отправил кагану «блестящие дары» и посулил в будущем возместить нанесенный ущерб за счет «трофеев». Каган встретил предложение стратига с «благосклонностью». Он вновь был готов все простить ромеям, если те поделятся с ним добром, захваченным у словен.[981] Стратиг спешно, невзирая на усталость, повел войско дальше, за Олт. На четвертый день после переговоров с каганом, — видимо, еще в сентябре, но теперь мы не можем твердо судить о хронологии, — Петр подошел к некоей реке (Арджеш?).[982] Пирогост, зная о его приближении, привел войско к восточному берегу. Не подозревая о присутствии врага, Петр послал за реку двадцать разведчиков. Но разведчики, обессиленные долгим переходом, перед рассветом уснули в прибрежных зарослях. Здесь их и застали словене, проезжавшие мимо верхом и также захотевшие отдохнуть в тени. Ромеев взяли в плен и допросили. Те, «отчаявшись в спасении, рассказали все». Пирогост стал готовиться к битве, скрыв своих воинов в лесах вдоль берега реки.[983] Не дождавшись возвращения разведки, Петр, тем не менее, отдал приказ к переправе. Впереди вновь двинулся тысячный авангард. Когда он оказался на том берегу, Пирогост вывел войско из засады. Ромеев перебили поголовно. Стратиг, поняв свою ошибку, перестроил переправу. Он слил отряды и направил к лодкам все войско сразу. Поняв, что повторить операцию не удастся, Пирогост тоже вывел всю рать на берег и выстроил ее вдоль реки. Это был просчет — ромеи обстреляли и забросали словен копьями с лодок, посеяв панику. Словене обратились в повальное бегство, когда пал сам Пирогост — воевода был смертельно ранен стрелой в бок. Ромеи высадились на берег и пустились в погоню. Они «учинили большую резню». Однако, поскольку кони еще не переправились, преследование быстро прекратилось. Ромеи разбили лагерь на отбитом берегу.[984] На следующий день они выступили в путь. Шли они при помощи проводников (влахов? беглых от словен ромеев?). Однако те заплутали — или заявили, что заплутали.[985] К тому же Петр двигался без должной разведки местности, периодически подвергаясь нападениям мелких славянских отрядов. Известно, что, если ромеи разбивали лагерь близ леса, словене «легко отваживались на нападения» и угоняли коней. Они также могли нападать на арьергард, отставший из-за спешки передовых частей.[986] Ромеи не могли найти питьевой воды и начали утолять жажду вином из своих фляг. Так продолжалось три дня, пока, наконец, в плен не попал какой-то «варвар». От него узнали, что до Яломицы всего «четыре парасанга» (то есть 18,5 км). К утру следующего дня ромеи добрались до реки и жадно набросились на воду. Но пленник недаром вывел их на реку. Из густого леса на противоположном берегу в воинов Петра полетели стрелы и копья. Множество ромеев погибло. Оставшиеся принялись спешно сооружать плоты, чтобы сойтись с врагом в ближнем бою. Но беспорядочно начавшаяся переправа уставшего войска кончилась плачевно. На другом берегу «варвары все разом обрушились на ромеев». В завязавшейся битве те потерпели сокрушительное поражение.[987] Ромеи в панике бежали на юг, где Петр сумел переправиться с остатками армии через Дунай. Произошло это в конце сентября — начале октября 594 г. Император, вполне убедившись в бездарности брата, был вынужден отозвать его в Константинополь. На должность командующего европейскими войсками вернулся Приск.[988] Однако и словене, несмотря на победу у Яломицы, больше не беспокоили Фракию. Потери в боях с ромеями были слишком велики. Пленение Мусока и гибель Пирогоста не могли не вызвать некоторой внутренней смуты. Поэтому неудивительно, что натиск дунайцев на границы Империи ослаб. Как иногда полагают, именно под влиянием неудачного похода Петра Маврикий писал «славянскую» главу своего «Стратегикона».[989] Это весьма подробная рекомендация по ведению боевых действий против славян. Маврикий, как уже говорилось, характеризует образ жизни «склавов и антов», их военную тактику и способы противостояния ей. Император советует при вторжении в земли славян подготовить преимущественно легковооруженное войско и запастись всем необходимым для переправ (ведь реки там «многочисленны и труднопреодолимы»). Нападения следует «производить больше в зимнее время, когда они не могут легко укрыться», страдают от мороза, а реки покрыты льдом. Для прикрытия ромейских провинций за Дунаем необходимо оставить часть конницы. Это подразделение должно, кроме того, запугивать славян возможностью вторжения на другом участке. Первым делом после переправы следует захватить языка. При следовании через вражескую территорию, особенно летом, остерегаться лесистых мест; расчищать их за собой на случай отхода.[990] Летом военные действия вести также необходимо — «грабить места более открытые и обнаженные и стремиться задержаться в их земле», способствуя бегству ромейских рабов.[991] Желательно не обременять себя в лесах многочисленной конницей, обозом, тяжелым вооружением.[992] Переправы через реки Маврикий рекомендует производить как можно быстрее, силами пехоты. Под ее прикрытием можно уже наводить мосты. Главную ставку в борьбе со славянами император советует делать на внезапность.[993] Добытые припасы не скапливать при войске, а переправлять на Дунай по его левым притокам.[994] Против славян Маврикий предписывает применять крайне жесткие меры — как военные, так и дипломатические. Он считает необходимым стравливать словенских вождей, подкупая, прежде всего, тех, чьи владения расположены «ближе к границам». Перебежчикам, даже ромейского происхождения, император призывает не доверять. «Благонамеренных из них, — пишет Маврикий, — подобает благодетельствовать, творящих же зло — карать».[995] В прошедших экспедициях, по свидетельству Маврикия, войско обычно задерживалось в первой захваченной «хории» (гнездовье славянских весей). Благодаря этому жители соседних получали возможность бежать и «избегали им предназначенного». Впредь, — указывает император, — следует брать славянское племя в клещи. Два отряда должны двигаться с двух концов группы «хорий» и грабить их, гоня друг на друга беженцев. Если из-за расположения местности это невозможно, то сделать ставку на стремительность, оставляя для грабежа каждой «хории» по пути следования небольшие отряды из авангарда. Позднее их будет собирать стратиг, идущий следом за авангардом с главными силами. «Всех встречных», особенно способных к сопротивлению, следует убивать на месте.[996] Неясно, насколько все эти предписания были претворены в жизнь. Они не могли не учитываться в будущих экспедициях за Дунай. Но ромейские полководцы после 594 г. уже не заходили так далеко, как раньше, в глубь словенских земель в низовьях реки. Впрочем, дипломатические указания императора могли сыграть свою роль в относительном затишье на этом участке в следующий период. Аварские войны 595–599 гг. и славянеЭкспедиции ромеев за Дунай только способствовали усилению Аварского каганата. Каган, конечно, так и не получил доли в словенской добыче. Однако обстоятельства складывались так, что после каждой ромейской акции перед ним открывались новые возможности для подчинения словен. Дунайцы были ослаблены и охвачены междоусобицами. Их распри разжигала к тому же ромейская дипломатия. Ни о каких значительных вождях — «риксах» или «таксиархах» — на этой территории источники больше не упоминают. В Константинополе понимали перспективу усиления авар за счет словен. С каганатом Маврикий хотел рассчитаться давно. К тому же в 595 г. возобновились дипломатические контакты с тюрками, у которых завершалась гражданская война. Император получил хотя бы зыбкую (так и не оправдавшуюся при нем) надежду на возвращение сильного союзника. В начале весны 595 г. Приск принял командование поредевшей армией Петра. Подсчитав потери, стратиг хотел сперва обвинить незадачливого преемника перед Маврикием, но его отговорили. Не тратя времени на придворные интриги, Приск двинулся к Дунаю, и на пятнадцатый день разбил лагерь на северном берегу. Судя по дальнейшему, переправился он где-то в западной Олтении. Любопытно, что не сообщается не только о каких-либо столкновениях со словенами, но и о захвате добычи.[997] 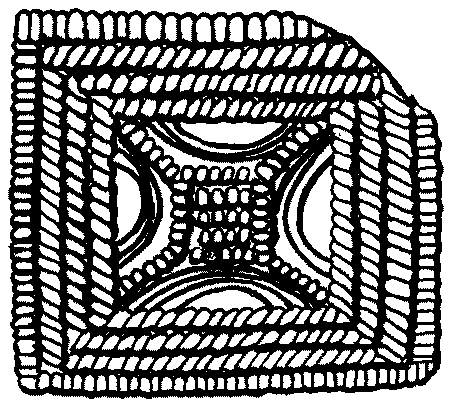 Украшение пояса. VI–VII вв Приск шел по этой редконаселенной земле четыре дня, не встречая никаких препон в движении к западу. Местные словене, судя по всему, были замирены дарами — как и советовал Маврикий. Их вожди могли счесть, что теперь их черед быть сторонними наблюдателями в борьбе ромеев и авар. То же, что Приск решил испытать силы именно каганата, вскоре стало очевидно. Следует помнить, что и далее на восток, в землях, уже бесспорно относившихся к «Склавинии», воины кагана «беззаботно» бродили уже год назад. Теперь же Приск подступил к самым рубежам собственно каганата. Он прошел вдоль реки до самых Катаракт (Железные Ворота, где Дунай проходит через горы), перешел их и переправился на южный берег близ Верхних Нов. Эта крепость располагалась в провинции Верхняя Мезия, которую ромеи едва контролировали. Каган воспринял действия Приска как провокацию и потребовал объяснений. Приск издевательски ответил, что прибыл поохотиться. Каган обвинил стратига в нарушении мира. Приск резонно заметил, что стоит на ромейской земле. Но каган стал утверждать, «что она отнята у ромеев оружием, согласно законам войны». Строго говоря, полевое соглашение 592 г. давало почву для любых толкований. В споре с послами кагана Приск обозвал его «беглецом с востока».[998] Каган понял, что ромеи начинают войну. Не желая оставлять у себя в тылу оплотов противника, он подступил к Сингидуну, срыл его стены и приказал тамошним гражданам выселяться в Паннонию. Любопытно, что охрану занятого города каган поручил не жившим в его окрестностях словенам, а болгарам.[999] Он не слишком полагался на мораван. В связи с дальнейшими военными действиями словене тоже ни разу не упоминаются. Это подтверждает, что они решили остаться в стороне от противостояния Империи и каганата. Каган не мог или не хотел принудить к участию в войне даже непосредственно подвластных ему обитателей Потисья. Приск прибыл для переговоров с каганом в его ставку (Константиола на северном берегу Дуная, против устья Моравы). Стратиг потребовал отказаться от уничтожения Сингидуна, но вернулся ни с чем. Тогда началась открытая война. Заместитель ромейского командующего Гудвин подошел к полуразрушенному городу на кораблях и выбил болгар. В ответ каган вторгся во внутренние области Далмации, доселе не страдавшей от его набегов. Гудвину, однако, удалось настигнуть авар и истребить крупный их отряд, охранявший добычу. Каган свернул военные действия против ромеев и отвел войска за Дунай.[1000] Причиной этому стало не только поражение в Далмации. Тревожные вести пришли с западных рубежей каганата. Бавары Тассило в 595 г. решили повторить удачный набег, совершенный их королем за три года до того. Примерно двухтысячный отряд вторгся в земли альпийских словен. Целью разорителей стали верховья Дравы, где жили стодоряне. Не исключено, что набег инспирировали ромеи, пытавшиеся прикрыть собственные владения в Истрии. Узнав о происшедшем, каган поспешил на запад, оставив на Дунае силы, достаточные для сдерживания Приска. В битве с баварами каган, чьего появления они никак не ожидали, поголовно истребил всю вторгшуюся шайку.[1001] Ближайшие полтора года, до лета 597-го, каган посвятил войне на западе, против франков и их союзников. На Дунае противостоящие армии бездействовали. Летом 597 г. каган вновь прибыл к ромейским рубежам и возобновил войну. Форсировав Дунай, он вторгся в Нижнюю Мезию. Похоже, перешел Дунай он именно в этой провинции. Значит, авары беспрепятственно миновали «Склавинию», покорив или склонив к союзу племена ее западной части. Слух о помощи, оказанной каганом их соплеменникам, возродил симпатии к нему у многих словен. Зимой 597 г. каган осаждал Томы (ныне Констанца) — важнейший порт провинции Скифия. Приск пришел от Сингидуна на подмогу осажденному городу, но осаду снять не смог. С началом весны 598 г. в ромейском лагере начался голод. В Великую Субботу (29 марта) каган внезапно предложил Приску перемирие. Сверх того, на Пасху он благородно снабдил ромеев продовольствием. Полководцы обменялись дарами. По окончании же пасхальной недели каган снял осаду с Том и удалился.[1002] Но, проявив великодушие к Приску, с которым у него сложились некие личные отношения, каган вовсе не намеревался прекращать войну. Узнав, что Маврикий послал в Мезию с войском Коментиола, каган выступил навстречу. В устье реки Янтра, правого притока Дуная, 20–21 апреля 598 г. произошло сражение, решившее исход кампании. Ромеи были разбиты наголову. Коментиол позорно бежал. Его небезосновательно винили в том, что он намеренно, чуть ли не по императорскому приказу, предал кагану постоянно бунтующее войско. Каган вновь разорил окрестности столицы. Лишь вспыхнувшая в войске чума и смерть семерых сыновей вынудила его остановиться. В Дризиперу к убитому горем кагану отправился ромейский посол Гарматон с предложением мира.[1003] Каган согласился на мирный договор и продиктовал его условия, возложив всю вину за развязывание войны на ромеев. Дунай признавался границей между ромеями и аварами. При этом, однако, оговаривалось, что «против славян реку можно будет переходить».[1004] Очевидно, что условие было на руку ромеям. Но обоюдный характер договоренности четко указывает на причины согласия кагана. Страх ромейского вторжения неизбежно толкал дунайцев в объятия каганата. С другой стороны, на племена, союзные ромеям или стремившиеся сохранять независимость, каган получал право напасть сам. Каган потребовал выкупить у него всех ромейских пленных. Однако император отказался уплатить запрошенную сумму. В ответ каган поголовно перебил пленников. Это еще более усугубило подозрительность и ненависть войска к Маврикию. Каган же все равно добился своих денег, повысив по условиям договора «дань» с Империи.[1005] Только тогда авары ушли за Дунай. Итак, война завершилась со страшным позором для ромеев и их императора. Маврикий, конечно, не мог смириться с таким поражением. К миру он отнесся лишь как к временной передышке и сразу начал готовить новую войну. За Империей остались все придунайские провинции, включая Верхнюю Мезию. Здесь, в районе Сингидуна, стоял на зимовке Приск. Сюда же весной 599 г. была переброшена восстановленная армия Коментиола. Двинувшись к востоку, ромеи начали переправу через Дунай в районе разрушенного Виминакия. Коментиол сказался больным, и Приск принял общее командование. Каган, оставив охранять северный берег четверых сыновей, сам вторгся в пределы Империи. Но отвлекающий маневр не подействовал — Приск переправился и разгромил сыновей кагана в трех битвах подряд. Погибло более 35 000 авар. Пали и сыновья кагана. Сам он, подтянувшись было им на поддержку, бежал к Тисе.[1006] Здесь каган быстро собрал новое войско. Потисье было заселено гепидами и отчасти словенами. Несомненно, всех их обеспокоило ромейское вторжение. Не могло оно не вызвать тревоги и у словен ниже по Дунаю. В дальнейших сражениях словене составляли почти половину аварского войска.[1007] Многие племена — как в Потисье, так и с востока — прислали своих ополченцев на помощь каганату. Военные действия разворачивались не только на дунайском фронте. Они охватили всю границу Империи с каганатом. В мае 599 г. альпийские словене (стодоряне?) через «истрийский вход», то есть по римским дорогам в Истрии, атаковали ромейские владения в северо-восточной Италии. Но экзарх Равенны (имперский наместник в Италии) Каллиник разбил словен в нескольких сражениях.[1008] В то же время ромеи начали войну на Саве, служившей рубежом Далмации.[1009] Подходы к столице Далмации — Салоне с севера прикрывала крепость Клис (название от обозначения пограничного укрепления — клисура). Отсюда тысячный отряд ежегодно отправлялся к Саве. Каждую Великую Субботу в Салоне происходила встреча и смена пограничников. Клис служил для них перевалочным пунктом и главной базой. Местность за Савой была уже занята словенами (лендзянами), подвластными аварам и отчасти смешанными с ними.[1010] Салонские «римляне», до сих пор в войне не участвовавшие, в тот год перешли Саву. Все словенские мужчины тогда «находились в военном походе» (на войне в Потисье?). Внезапное нападение застало в приречных селах лишь женщин и детей. Захватив их в плен и разграбив страну, салониты безнаказанно вернулись к себе.[1011] Между тем на Тисе продолжались бои. Приск развивал успех. Спустя месяц после гибели сыновей кагана он вновь сошелся в битве с врагом — и снова победил. Каган ушел за Тису, оставив весь восточный берег в руках Приска. Тогда стратиг отрядил 4000 воинов за реку. Те во время народного праздника захватили врасплох три гепидских поселения и устроили в них страшную резню. Среди убитых и пленников оказались как гепиды, так и «другие варвары» — жившие бок о бок с германцами славяне. С полоном и добычей ромеи вернулись к Приску.[1012] Спустя двадцать дней каган, оправившись от поражения, вновь вывел свои войска на левый берег. Основную силу составляли подвластные и союзные племена — словене, гепиды, болгары. «Большой отряд славян» играл главную роль среди них. Приск, к тому времени отошедший от Тисы, вернулся к реке для решающей битвы. В ней авары потерпели последнее в кампании этого года поражение. «Варвары, — пишет Феофилакт, — разбитые, так сказать, наголову, захлебнулись в речных потоках». Многие словене, пришедшие помочь кагану, погибли. Других захватили в плен. Пленных словен было 8000 — почти половина общего числа пленников. Приск в цепях отослал пленных «варваров» в Томы.[1013] Каган, однако, предпринял решительную попытку вернуть пленников. Он отправил в Константинополь послов. Аварам удалось опередить вестников Приска. О происшедшем, таким образом, Маврикий узнал от кагана. Тот, конечно, всячески преуменьшал ромейские успехи. В его предложениях обычные угрозы смешивались с лестью по адресу императора. В итоге Маврикий отправил Приску приказ — вернуть кагану пленников, но лишь авар. Так император, не представлявший себе реальных достижений ромеев, рассчитывал поссорить кагана с подданными — прежде всего, со словенами. Уже из Том аварские пленники были возвращены. Ромеи отошли за Дунай, и военные действия завершились.[1014] Падение ЛимесаВесной 600 г. европейская армия Империи вернулась во Фракию и бездействовала там более года.[1015] Каган между тем сложа руки не сидел. На западе он укрепил союз с лангобардами. Они в том году возобновили войну с ромеями, мстя за захват экзархом Каллиником дочери короля Агилульфа. С помощью лангобардских мастеров каган начал строить на Дунае собственный флот. На востоке каган расширил сферу влияния среди словен. По большому счету условия мира 598 г. не оставляли словенам с их политической раздробленностью выбора. Они должны были подчиниться либо каганату, либо Империи. В противном случае обе стороны имели право на карательную экспедицию в их земли. Ромеи, несмотря на все ухищрения, оставались для массы словен давними и кровными врагами — особенно после разрушительных походов Приска и Петра. Каган же на протяжении почти двух десятилетий числился, пусть не слишком надежным, союзником. Выбор был предсказуем. С этих пор нам уже неизвестны никакие самостоятельные от авар действия дунайцев против Империи. Авары же в первые годы VII в. свободно и без участия словен действовали в низовьях Дуная.[1016] Таким образом, под их влияние попали словене не только Олтении, но и Мунтении. Формально между Империей и каганом сохранялся мир. Но то, что он не распространялся на в разной степени подвластных кагану словен, создавало двусмысленную ситуацию. Весной 600 г. военные действия развернулись в Далмации.[1017] Начало их описано в предании, сохраненном Константином Багрянородным. Когда словене Посавья обнаружили разорение своих земель ромеями, то рассудили: «Эти римляне, которые переправились и взяли добычу, отныне не перестанут ходить против нас войной. Поэтому сразимся-ка с ними». Действительно, пришедшие на смену предыдущим салонские пограничники «то же самое… держали в помыслах». Переправившись за Дунай, они внезапно для себя столкнулись с соединенными силами противника. Одни из тысячного отряда погибли, другие попали в плен. Не спасся никто.[1018] Допросив пленных, словене («авары» по Константину) узнали о достоинствах приморской Далмации и восхитились ими. Узнали они и о времени, назначенном для возвращения пограничной стражи. В урочный день «авары» переправились через Дунай в захваченной форме и с трофейными значками римской кавалерии, подражая ее маршевому строю. «Основная масса войска» скрытно следовала за авангардом — тысячей в ромейских доспехах. Таким образом, они беспрепятственно прошли в глубь Далмации и овладели Клисом, где их приняли за своих.[1019] Хотя Константин называет вторгшееся войско аварами, реальное участие кочевников было крайне незначительно. Максим, епископ Салоны, писал в Рим лишь о словенской угрозе.[1020] Константин ошибается и еще в одном — Салона, вопреки его легенде, пала не сразу. Здесь более прав другой поздний историк, Фома Сплитский, также использовавший далматинские предания. По словам Фомы, во вторжении «готов» (под ними следует разуметь авар) участвовали семь или восемь племен «лингонов» (лендзян). Когда внутренняя Далмация была разорена и в ней «остались редкие обитатели», лендзяне «истребовали и получили ее от своего вождя», надо думать — аварского кагана. «И так оставшись там, — продолжает Фома, — они начали теснить местных жителей и силою порабощать их». Они постоянно нападали на приморье, где еще держались местные «латиняне», «прежде всего на Салону».[1021] Об этом, собственно, и сообщал Максим, говоря, что «народ славян» «сильно угрожает» салонитам. Крушение далматинской границы сказывалось и на Италии — тем летом словене вновь беспокоили Истрию.[1022] Во всех этих событиях, происходивших далеко от Константинополя, Маврикий предпочел не увидеть нарушения мира. Тем более, авары не принимали в набегах словен непосредственного масштабного участия. Но осенью 601 г. каганский главнокомандующий Апсих явился к Катарактам и попытался занять перевал. Захват этого стратегического пункта решал аварам две задачи. С одной стороны, ромейский речной флот переставал быть угрозой для основной территории каганата. С другой — сами авары получали возможность беспрепятственно плавать по реке. Ни того ни другого ромеи допустить не могли. Назначенный в августе и стоявший на Дунае стратиг Петр подвел к Катарактам войска и обвинениями в нарушении мира вынудил Апсиха отступить. Авары отошли в Константиолу, а армия Петра вернулась во Фракию. До войны дело не дошло.[1023] Наступил 602 год. Ситуация для Империи становилась все более непростой. На западе каган еще в минувшем году скрепил клятвой «вечный» союз с лангобардами и принудил к миру франков. После этого Истрию атаковали соединенные силы. Лангобарды вторглись с запада. Авары и словене (стодоряне?) напали с северо-востока. Вместе они прошли по стране, «опустошили все огнем и грабежами».[1024] В результате пал и этот участок имперской границы. Вторжение открыло дорогу для заселения Истрии словенами, которое начинается как раз в эти годы.[1025] 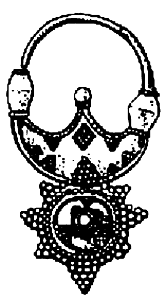 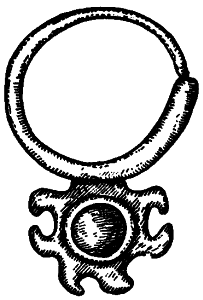 Славянские женские украшения Маврикий заподозрил, что каган дожидается лишь роспуска уставшей ромейской армии — и тогда атакует Фракию. Летом 602 г. он отдал Петру приказ: «покинуть Адрианополь и… переправиться через Истр». Для организации переправы ему в подчинение был дан один из высших чинов придворной гвардии Вонос. Согласно распоряжению Петра, Вонос должен был «доставить ромейские плавучие средства, чтобы войско могло переправиться». Целью Петра было атаковать подчиненные кагану «войска Склавинии», собравшиеся, по его данным, за Дунаем. Тем самым, не нарушая буквы мирного договора, ромеи рассчитывали спровоцировать кагана на преждевременные действия.[1026] Сам Петр не спешил лично выполнять приказ о переправе. Для руководства заречными действиями он назначил своим заместителем — ипостратигом — Гудвина. Тот форсировал Дунай в районе Паластола и нанес словенам поражение. Он «погубил острием меча полчища врагов» и захватил множество пленных. Солдаты, получив в руки пленников и добычу, стремились как можно скорее вернуться за реку. Но Гудвин, следуя замыслу императора, удержал их на левобережье.[1027] С другой стороны, он недалеко отошел от Дуная — об этом свидетельствует свобода, с которой авары тем же летом прошли в низовья. Узнав о разгроме союзников, каган не поддался на провокацию — но решил дать адекватный ответ. Апсих вновь выступил с войском на запад. Ему был дан приказ — «уничтожить племя антов, которое было союзником ромеев».[1028] Анты не принимали никакого заметного участия в кампаниях 590-х гг. Но Гудвину удалось добиться их содействия в своей операции против словен. Антов и дунайцев все еще разделяла — не без содействия ромейской дипломатии — вражда. Не желая открыто сталкиваться с Империей, каган наносил удар по последнему оставшемуся у Маврикия в Европе союзнику и помогал своим новым подданным. Но фактически война началась. Апсих по пути взял Катаракты, и выстроенный лангобардскими корабельщиками аварский флот занял низовья Дуная.[1029] Поход на антов планировался как предприятие грандиозное и должен был нанести смертельный удар по остаткам их союза. Но внезапно он был сорван. В войске кагана начался мятеж, и «полчища авар» откочевали, причем «поспешно», под власть Маврикия.[1030] Не вызывает сомнения, что мятеж устроила аварская партия мира, давно поддерживавшаяся (и подпитываемая) Константинополем. Экспедиция Апсиха закончилась, по сути не развернувшись.[1031] Казалось, Империи вновь улыбнулась удача. Ее войска стояли на северном берегу Дуная, в разоренной стране «Склавинии». Каган был занят возвращением непокорных авар. Обессиленный мятежом, он только и делал, что «умолял и придумывал множество способов» для восстановления ускользавшей власти.[1032] И здесь Маврикий совершил последнюю и роковую для себя ошибку. Приведенный в эйфорию успехами, император-стратег решил проверить, наконец, на практике свою мысль о кампании против словен в зимнее время. С началом осени он потребовал от Петра задержать армию за Дунаем на зиму.[1033] Когда императорский приказ пришел в армию Гудвина, в ней начался ропот. Солдаты лучше императора понимали свое положение. Ромейские кони изнемогали. Словене были побеждены, но не сломлены, и продолжали беспокоить ромеев. «Полчища варваров, словно волны, покрывают всю землю по ту сторону Истра», — считали в войсках. Наконец, самой важной причиной брожения было стремление как можно скорее отправить домой добычу. Ромейское войско справедливо опасалось потерять ее за зиму во враждебном окружении. Император, не понимая, что войска совершенно не настроены воевать, продолжал настаивать. Это только ускорило открытый мятеж. Гудвин потерял контроль над армией, и она покинула «Склавинию», «с марша» форсировав Дунай. Войска явились в Паластол, причем «души их были опьянены величайшим гневом».[1034] Петр, прибыв к мятежному войску, предпочел держаться от лагеря на расстоянии и общаться с солдатами через Гудвина. Последнему удалось было успокоить страсти и даже убедить армию выполнять приказ. Ромеи снялись с лагеря и начали строить лодки близ крепости Куриска (к востоку от Паластола). Но, на беду для Петра и его брата, на войско обрушились ливни, а затем наступили заморозки. Теперь никто не мог убедить солдат переправляться. В довершение Маврикий прислал письмо, где велел, «чтобы Петр, переправив войска через реку, вступил на варварскую землю и чтобы ромеи там добывали пропитание для войска и тем дали казне передышку в снабжении их». Открыто высказанная идея сэкономить на армии возмутила даже Петра. Тем более в ярость пришли мятежные солдаты, когда слух об императорских требованиях дошел до них.[1035] Дальше события развивались стремительно и катастрофически. Солдаты открыто выступили против Маврикия. Возглавил их Фока — один из зачинщиков бунта, младший офицер, еще в 598 г. прославившийся дерзостью перед лицом императора. Под предводительством Фоки войска двинулись на Константинополь, оголив дунайскую границу. 23 ноября 602 г. армия вошла в город, приветствуемая восставшими против Маврикия жителями. Маврикий и многие его сторонники (в том числе Петр и Коментиол) были убиты по приказу Фоки. Глава мятежа поспешил объявить себя императором, еще глубже ввергая Империю в водоворот гражданской войны. Переворот Фоки, по сути, нанес прежней Ромейской Империи смертельный удар. В Европе он открыл границы для масштабного вторжения авар и словен. Можно только догадываться, сколь неожиданной удачей явилось для тех и других это событие. Но надо думать, что ни каган, ни его словенские союзники не промедлили. В ближайшие годы властительные ромеи, занятые гражданской распрей, даже не обращали внимание на то, как поток «варваров» захлестывает одну европейскую провинцию за другой. Словене не только выстояли в продолжавшейся несколько десятилетий и на последнем этапе оборонительной борьбе с Империей. Они оказались — пусть и невольно — в числе победителей. Сохранили они известную автономию и от Аварского каганата. Последующий период стал временем славянского завоевания и заселения Балкан. Войны, стоившие крайнего напряжения сил каждой из сторон, полные взаимной жестокости, продолжились. Однако была у происходившего и другая сторона. Открывшийся для славян в 602 г. путь на Балканы явился в то же время дорогой к античному наследию и христианской культуре, к тогдашней европейской цивилизации. Последствием войн конца VI — начала VII в. могло бы стать крушение последнего ее оплота. Но произошло иначе, и рядом с обновленной Империей из хаоса «темных веков» позже поднимутся молодые славянские государства. Примечания:1 Подробную характеристику ситуации в Западной Европе в конце IV — начале V в. см. в книгах: Jones A. H. M. The Later Roman Empire. Vol. I–III. Oxford, 1964; Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение германских королевств. М., 1984. См. также: История Европы. Т. 1–2. М., 1990–1992. 2 Альтернативная точка зрения (см.: Дёрфер Г. О языке гуннов.// Зарубежная тюркология. Вып. 1. М., 1986) приводит к предположению о появлении буквально ниоткуда многочисленного кочевого народа с абсолютно изолированным (неалтайским, неиндоевропейским, неуральским) языком. Это при том, что этноязыковая карта евразийских степей благодаря античным и китайским источникам для II–IV вв. хорошо известна и практически не имеет белых пятен. Вопреки высказывавшейся критике, отождествление гуннов с несомненно тюркоязычными сюнну (ху) Дальнего Востока не имеет ни одной убедительной альтернативы, что в данных условиях весьма симптоматично. Археологический материал (как и письменные источники, и данные языкознания) надежно связывает европейских гуннов с позднейшими болгарами, несомненными тюркофонами. Наличие же в гуннской культуре заимствованных у аланов, германцев и других покоренных племен элементов, взаимное смешение народов в пределах гуннской державы не является аргументом против ближайшего родства гуннов и тюрок. Ср. выводы А.К. Амброза (Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 10 след.): археолог, отметив отсутствие прямой преемственности между азиатскими хуннами и европейскими гуннами при наличии у последних отдельных «азиатских элементов», объяснял это малой изученностью древностей Центральной Азии. Между тем связь гуннской культуры с позднейшей тюркской (тоже не имеющей прямых древних соответствий!) специалист отнюдь не отрицал. Представляется, что для определения этнической принадлежности гуннов основанием должна быть, прежде всего, преемственность по отношению к ним позднейшей болгарской и тюркской культуры. При этом культура западных тюрок формировалась из сложного сплава разноплеменных элементов (в первую очередь, иранских), что и отражает археологический материал. О кочевниках IV–V вв. см. также: Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху. СПб., 1994. 3 О возможном тождестве акацир с позднейшими хазарами см.: Dunlop D. M. The History of the Jewish Khazars. Princeton, 1984. S. 7, 20, 33. 4 Присутствие романизированных потомков древних даков в Дакии после эвакуации провинции в 271 г. обосновывается известиями греческого автора VI в. Псевдо-Кесария о данувиях («фисонитах», рипианах) (См.: Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (далее — Свод I). М., 1991. С. 254 след.) и средневековыми русскими и венгерскими сказаниями о древнем пребывании «волохов» («влахов») в прикарпатских областях. Имеются и археологические следы такого пребывания даже с середины V в., после расселения славян в Прикарпатье. Но существует также точка зрения о позднем (в начале II тысячелетия) приходе восточных романцев за Дунай. Общую характеристику обеих теорий см.: Краткая история Румынии. М., 1987. С. 17–19; Краткая история Венгрии. М., 1991. С. 16–17. 5 Дата основана на наиболее подробном и достоверном известии Прокопия Кесарийского. Предлагались и другие — от 505 (Тъпкова-Заимова В. Нашествия и этнически промени на Балканите през VI–VII вв. София, 1966. С. 54) до 512 г. (Mullenhof K. Deutsche Alterstumkunde. B., 1875. Bd. 2. S. 368). Последняя дата исходит только из того, то именно в 512 г. герулы короля Оха перешли Дунай и стали федератами Империи. 6 О Византийской (Восточно-Римской) Империи в V–VI вв. см.: Jones 1964; История Византии. Т. I. М., 1967. 7 О походе Фроди имеется несколько версий в «Деяниях данов» Саксона Грамматика и краткое упоминание в «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусона. Из других упоминаний восточных мероприятий скандинавов стоит назвать известие «Саги о гутах» о переселении готов в Причерноморье по Западной Двине. Это имеет мало общего с готской «переселенческой сагой» по Иордану и связано, вероятно, в большей мере с позднейшими плаваниями гутов с острова Готланд в Восточную Европу. 8 «Вари» Кассиодора (ответное письмо Теодориха на посольство эстиев), «О происхождении и деяниях гетов» Иордана (упоминание о расселении эстиев и родственных, видимо, им видивариев в Южной Прибалтике). 9 История Европы. Т. 2. С. 35. 10 Бирнбаум Х. Праславянский язык. М., 1987. С. 321. 11 Lehr-Splawinski T. O pohodzeniu i praojczyznie Slowian. Poznan, 1946. S. 137–141; Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 43 след. Ср.: Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. 12 Об этих и других археологических культурах, связываемых со славянским этногенезом, см.: Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э. М., 1993. 13 См.: Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изоглоссы.// VIII международный съезд славистов. Доклады. Минск, 1978. 14 Аргументация против славянства венедов в отечественной историографии представлена, прежде всего, Ф.В. Шеловым-Коведяевым в комментариях к известиям Плиния, Тацита и Птолемея (Свод I). Он предлагает считать все известия о центральноевропейских венедах книжной легендой, восходящей к общему древнегреческому источнику, говорившему о венетах италийских. Именование славян венедами в финских (да и в германских) языках в таком случае сколько-нибудь убедительного объяснения не находит (ср. указание на это в Предисловии Л.А. Гиндина и Г.Г. Литаврина: Свод I. С. 15). Далее, целый ряд моментов в концепции общего источника внушают большие сомнения. Античные упоминания венедов в Центральной Европе имеют между собой только одну общую черту — само имя венедов. Плиний называет соседями венедов сарматов, скиров и хирров и локализует их всех близ Вислы. Тацит называет по соседству с венедами певкинов (бастарнов) и феннов, а также, видимо, свевов и сарматов. Локализует он их в «лесах и горах между певкинами и феннами». Птолемей помещает венедов в «Сарматии» у Сарматского океана («Венедский залив»). По соседству с ними он называет гитонов на юге, выше по Висле, галиндов, судинов и ставанов на юго-востоке, вельтов на востоке. Итак, этногеографическая среда венедов совершенно различна, общего мало. Тацит даже не связывает венедов с Вислой, что не мешает Ф.В. Шелову-Коведяеву упрекнуть его в том, что он, упоминая венедов, отвел Повисленье германцам (Свод I. С. 42). Но Вислу с венедами связывал не Тацит, а Плиний и Птолемей. Если Тацит отвел Повисленье германцам, значит, он не пользовался гипотетическим общим источником (весьма сомнительным, как видим, и для них), а полагался на иную информацию о венедах. Кстати, довольно подробное этнографическое описание Тацита Ф.В. Шелов-Коведяев предлагает считать «риторической фигурой» (Свод I. С. 40–41). А между тем речь шла о не столь удаленных от Империи землях, и самые «риторизованные» описания Тацита все же всегда содержат реальное зерно. Других «полуреальных» народов на страницах его трудов, кажется, нет. Можно еще отметить, что на Певтингеровой карте венеды локализованы не только на дальнем севере, но и между Днестром и Дунаем, что сопоставимо с титулом Волусиана. Последний Ф.В. Шелов-Коведяев считает возможным соотнести с «полулегендарными» венедами (случай едва ли не уникальный в имперской практике!) и тут же предполагает, что римляне приняли за них «германский элемент, локализуемый в нижнем Подунавье в составе в основном сарматской черняховской культуры» (Свод I. С. 43). Остается неясным, германцев или сарматов считает специалист «полулегендарным» и «малоизвестным» для римлян народом. Во всяком случае, этот «германский элемент» надежно соотносится с готами (гитонами Птолемея), которых римляне называли или собственным их именем, или «скифами». Как бы то ни было, в настоящее время Ф.В.Шелов-Коведяев считает «венетов» уже не литературной фикцией, а реликтовой «балто-славянской общностью», существовавшей до готского вторжения IV в. (см.: Шелов-Коведяев Ф.В. Литва: история соседства.// Литературная газета. 2007, № 17–18. С. 4). Очевидно, это закрывает дискуссию. 15 Свод I. С. 51. Обоснование старой (со времен П. Шафарика) концепции см.: Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах.// Славянские древности. Киев, 1980. С. 14. Ф.В. Шелов-Коведяев признает, что «вставное t (th) при передаче неприемлемого в греческом звукосочетании sl… могло бы выглядеть убедительным». Но он считает, ссылаясь на разночтения, что «труднообъяснимо выпадение корневого *l» (Свод I. С. 59). Не бесспорно; текстология знает примеры общих и изначальных описок во многих памятниках. Для опровержения славянства ставанов требовались бы более убедительные аргументы. Но единственный — соседство их с судинами и галиндами. По этой логике Ф.В. Шелов-Коведяев вслед за К. Мюлленхофом предлагает и ставанов считать балтами. Но о таком балтском племени ничего неизвестно. «На границе степи и лесостепи в Поднепровье, где локализуются ставаны, имели место контакты балтов и иранцев в начале христианской эры [дается ссылка на данные гидронимики]. О славянах же здесь в это время решительно ничего неизвестно». Но гидронимика не имеет абсолютных датировок. О балтах здесь именно в это время известно не больше, чем о славянах. О.Н. Трубачев предложил считать *stavana ‘хвалимый’ индоарийской калькой названия «словене» (Трубачев О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999). Присутствие «индоариев» в Крыму и на Кубани в работах ученого обосновано вполне убедительно. Но мог ли «индоарийский» (синдский) элемент, растворившийся в сарматской среде, донести название славян до Птолемея? К тому же — почему это тогда именно славяне? Старая теория П. Шафарика, поддерживаемая многими современными исследователями, пока представляется надежной. 16 Свод I. С. 51. Ф.В. Шелов-Коведяев отрицает славянство вельтов. При этом он вполне справедливо критикует теорию З. Голомба, связывающего этнонимы «велеты» и «венеты» через гипотетическую форму *vetъ (см.: Свод I. С. 59–60). Однако для доказательства славянства вельтов нет нужды прибегать к таким построениям. Слово veletъ/volotъ ‘великан’ реально засвидетельствовано у славян. И, как отметил в том же фундаментальном издании источников В. К. Ронин (Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2 (далее — Свод II). М., 1995. С. 471), «велеты» — предполагаемое самоназвание вполне реального славянского племени вильцев (лат. Wilzi, Wilti). Этот основной аргумент в пользу славянства вельтов Ф.В. Шеллов-Коведяев, к сожалению, не только не опровергает, но и не приводит. На основе «фонетического оформления этнонима» он без дальнейших пояснений предлагает «думать, скорее, о балтах». А. В. Назаренко, признавая связь между вельтами Птолемея и позднейшими вильцами, сомневается в славянской этимологии и предполагает неславянское происхождение этнонима (Назаренко А… Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993. С. 16–17). Это более аргументированная точка зрения, и она, возможно, более соответствует действительности. В то же время ясно, что вельты (будь они и балтами) были предками какой-то части славянских велетов (вильцев). 17 Iord. Get. 247.: Свод I. С. 114/115; о родстве со славянами: Get. 34, 119.: Свод I. С. 106/107, 110/111. 18 Proc. Bell, Goth. VII. 14: 22–29.: Свод I. С. 182–185. 19 Свод I. С. 159. Прим. 254 (комментарий А. Н. Анфертьева к известию Иордана об антах): вслед за Я. Гримом и А. Н. Веселовским, развившими эту теорию в XIX в., указывается на слова antisc ‘древний’ (др.-в. — нем.) и ent ‘великан’ (англ. — сакс.; восстановлено из прилагательного entisc). 20 По мнению О.Н. Трубачева (Трубачев 1999. С. 54–55, 225), этноним восходит к индоарийскому (синдскому) субстрату и происходит от anta ‘конец, край’. При этом концепция Я. Рудницкого, согласно которой этноним считается (с тем же значением) иранским, отвергалась на основании «исключительно древнеиндийского характера anta. Нельзя, однако, не отметить, что в «Этимологическом словаре иранских языков» (Т. 1. М., 2000. С. 173–175) дается большое количество производных от праиранского *anta— ‘край, кромка, предел, конец’. Среди них, в частности, осетинские слова со значениями «снаружи», «наружу», «наружный», «внешний», «чужой». Прямые производные от древней основы сохранил только осетинский (аланский) язык, что симптоматично. 21 Iord. Get. 245–251. 22 Amm. Marc. Hist. XXXI. 3–4. 23 Об этническом составе черняховцев см.: Славяне и их соседи 1993. С. 162–170. 24 Обзор этимологий см.: Свод I. С. 159–160. Сближение со славянским *vodjь ‘вождь’ сомнительно и становится вовсе невозможным, если отождествлять Боза с Бусом из «Слова о полку Игореве»: «Се бо готьскыя красныя девы въспеша на брезе синему морю, звоня руским златомъ, поють время Бусово, лелеють месть Шаруканю». Ряд авторов отвергает такую идентификацию, желая видеть в «готских девах» дев с острова Готланд, а не из готского Крыма. М.А. Салмина истолковала «бусы» как северные суда. «Время бусово» — время морских походов готландских готов (Салмина М.А. Из комментария к «Слову о полку Игореве».// Труды отдела древнерусской литературы. XXVII. Л., 1981). А.Н. Анфертьев считает, что готы здесь «скорее» жители Готланда; обоснование: «место в целом очень темное и связь отдельных элементов в нем неясна». Это, видимо, аргумент против резонного возражения — зачем готландским готянкам мечтать об отмщении за половецкого хана XI в. Шарукана? Объяснения этому нет. В то же время А. Н. Анфертьев указывает на сочетание «босуви (бусови?) врани» как на содержащее это же слово, при этом отмечая слабость построения К. Менгеса, видевшего в обоих случаях тюркизм, но не объяснявшего семантику «времени бусова». Представляется, что именование воронов-падальщиков «Бусовыми» вполне может представлять метафорический оборот, связанный с преданием о повешенном готами короле антов. Что касается этимологии имени, то с учетом алано-сарматских связей антов нельзя ли все же связывать Бус/Boz с осетинским buz/boz ‘благодарный’? Вообще, следует помнить, что имя дошло в двух однократных (не считая явного и весьма показательного искажения «босуви врани» в тексте «Слова») поздних иноязычных передачах. Качество подобной передачи всегда отнюдь не бесспорно, а здесь особенно. 25 Древность славянского mirъ в значении ‘сельская община’, сохраненном русским языком, удостоверяется общеславянским mirъ ‘весь мир’. Значение ‘община’ — промежуточное между этим и первоначальным ‘согласие’ (ЭССЯ. Вып. 19. С. 55–57). 26 Так, в частности, именовалась патронимия в позднейшей Белоруссии, состоявшая из 5–10 и более родственных больших или малых семей (Этнография восточных славян (далее — ЭВС). М., 1987. С. 173). 27 См.: ЭССЯ. Вып. 7. С. 197–198. 28 ЭССЯ. Вып. 13. С. 200–201. 29 См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996. С. 112–145; Криничная Н.А. Русская народная историческая проза. Л., 1987. С. 171–185. 30 История первобытного общества. М., 1988. Вып. 3. С. 237–241. 31 Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 102. 32 Иванов П. И. О знаках, заменявших подписи в Древней Руси.// Известия Русского археологического общества. М., 1861. Т. 2; ЭВС. С. 486–487, 491. 33 Славяне и их соседи 1993. С. 161–162. 34 См.: общую характеристику индоевропейской, балтийской, славянской мифологии и пантеона: Мифы народов мира (далее — МНМ). М., 1980–1982. Т. 1–2; Славянская мифология. М., 1995. 35 Или алано-болгарским. Ср. в этой связи точку зрения о заимствованном (тюркском) происхождении славянского *divъ (с не вполне оправданным толкованием смысла ‘злой дух’) — ЭССЯ. Вып. 5. С. 35. Гипотезу В.В. Иванова и В.Н. Топорова о вероятном развитии и значении образа см.: МНМ. Т. 1. С. 376–377 («Див»), 378 («Диевас»). 36 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 2000. Т. 2. С. 24. 37 См., прежде всего, работы В.В. Иванова и В.Н. Топорова (Славянские языковые моделирующие семиотические системы М., 1965; Исследования в области славянских древностей. М., 1974). См. также: Славянская мифология 1995. 38 Славяне и их соседи 1993. С. 118, 151–152. 39 Славяне и их соседи 1993. С. 122. 40 Свод I. С. 85–86, 161–169. Первым серьезным аргументом в пользу общения Приска с праславянами является упоминание им термина medoz (мед) — «туземного» названия напитка, подносившегося римским послам оседлыми «скифами» Паннонии вместо вина. Приск упоминает и славянскую форму речного названия «Тиса». В связи с похоронами Аттилы Приск (по Иордану) обозначил погребальное пиршество словом strava (праслав. *jьztrava ‘поминки, еда’ — Этимологический словарь славянских языков (далее — ЭССЯ). Вып. 9. С. 80–82). Стоит, впрочем, отметить, что Приск называет «скифов» «смешанными» (букв. «намытыми волнами»), а пассаж о «собственном варварском языке», в дополнение к которому они учат гуннский, готский или латинский. Как верно отмечают Л.А. Гиндин и А.Б. Иванчик, двусмыслен. Он может означать (скорее и означает), что разноязычные подданные Аттилы используют названные языки как средства общения. 41 Бирнбаум 1987. С. 321. Этот язык, очевидно, изначально соответствует западной группе диалектов в схеме А. Е. Супруна (Языки мира. Славянские языки. М., 2005. С. 17–18). Сложение ее соотносимо со временем так называемой второй палатализации в славянских языках (переходы k > c, g > z перед гласными e, i). Она протекала в западной группе диалектов несколько иначе, чем в восточной. У антов, насколько можно судить, вторая палатализация несколько задержалась. Восточная группа диалектов должна соответствовать антам и смешавшимся с ними восточным словенам — дулебам. 42 Богухвал (Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. М., 1984. С. 52) со ссылкой на «древние книги» выводит славян из Паннонии, где помещает Пана, эпонима страны и отца Леха, Руса и Чеха. Далимил говорит только об исходе из «Хорватии» Чеха (Staroceska kronika tak receneho Dalimila. Praha, 1988. Sv. 1. Kap. 2: 1 — 10). 43 См. вводную часть ПВЛ по Лаврентьевской (Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 1), Ипатьевской (ПСРЛ. Т. 2), Радзивилловской (Т. 38) летописям. Перевод наш. К теме волохов, «насилящих» славян в придунайских землях, летописец возвращается позднее еще дважды — в связи с нашествием кочевников VI–VII вв. («белых угров», прогоняющих волохов) и в связи с вторжением мадьяр («черных угров») в конце IX в. Налицо очевидное совмещение разновременных пластов традиции. Именно это предание, очевидно, послужило причиной для соотнесения в летописи славян и «нориков». Стоит отметить, что подлинный Норик большей частью не входил в Венгерское королевство. Это лишний раз указывает на вторичный и литературный характер данного соотнесения. 44 Армянская география VII в. СПб., 1877. С. 21–22. В Свод II давно переведенное на русский язык и введенное в научный оборот известие «Армянской географии» не включено, вероятно, по причине спорности ее датировки (VII–IX вв.). 45 См.: Нидерле Л. Славянские древности. М., 2001. С. 56; Свод I. С. 242; Proc. DA. IV. 4: 3.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. М., 1996. С. 237–240. Всего таких названий, по максимальному счету Л.Нидерле, девять: Стредин, Долебин, Брациста, Дебри, Беледина, Зернис, Берзана, Лабуца, Пезион, Кабеца. 46 Об археологических свидетельствах (вещевые находки в Опово-Баранде, Нови Саде, Сомборе, деревянное городище в Хоргоше) см.: Седов В. В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 29. 47 Славяне и их соседи 1993. С. 177–178, 181. 48 Славяне и их соседи 1993. С. 169–170; там же обзор точек зрения на проблему. Ср.: Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 27. 49 Их роль в сложении пеньковской культуры оценивается археологами весьма по-разному (ср.: Седов 1982. С. 27–28; Обломский А.М. Днепровское лесостепное левобережье в позднеримское время. М., 2002. С. 75–80). Сторонники обоих подходов оперируют одинаковыми, довольно ограниченными материалами. Представляется, что прямой и конкретной преемственности между «киевскими» и пеньковскими памятниками сторонникам «киевского» происхождения черняховской культуры установить не удается. К тому же территориально ранние пеньковские памятники тяготеют, за редким исключением, к Днестровско-Прутскому двуречью, а не к Киевскому Поднепровью. 50 Iord. Get. 119.: Свод I. С. 110/111. 51 Кассиодор писал историю готов после 526 г., но информация о Скифии восходит у него, очевидно, к первому десятилетию VI века, когда он был личным секретарем короля Теодориха (Свод I. С. 134–135). На рубеж веков указывает и сопоставление с археологическим материалом. 52 Iord. Get. 34–35.: Свод I. С. 106–109. 53 Свод I. С. 134–135. Иначе: Скржинская Е.Ч. О склавинах и антах, о Мурсианском озере и городе Новиетуне// Византийский временник. 1957. Т. 12 — малоизвестный Новиетун в Дакии. Возражения А.Н. Анфертьева (Свод I. С. 135) вполне резонны. Это паннонский Новиетун, едва ли вообще знакомый Кассиодору, не мог быть, конечно, его ориентиром. Проблема с «Мурсианским озером» (см. далее) не является аргументом в пользу паннонского городка. Новиодун Скифский был, конечно, лучше известен Кассиодору, Иордану и их читателям. Его местонахождение (что важнее) гораздо лучше соответствует и археологическому материалу, и самой логике повествования. Кассиодор явно ограничивал славянскую территорию с северо-запада верховьями Вислы. 54 Седов, 1982. С. 13. 55 Единственная вполне убедительная интерпретация, учитывающая то, что говорится о «Морсианском болоте» в Iord. Get. 30 (Свод I. С. 107; ср. там же: С. 122. Прим. 59; С. 134. Прим. 106). Она восходит еще к Ф. Таубе (1778 г.), а в отечественной традиции — к Н.М. Карамзину и связана с названием римского города Мурса. Другие, гораздо менее вероятные варианты перечислены у Е. Ч. Скржинской (Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 210; см. еще Свод I. С. 122, 134). 56 Седов, 1982. С. 12, 16, 18; Славяне и их соседи. С. 178; Седов, 1995. С. 23; Седов В.В. Славяне: историко-этнографическое исследование. М., 2002. С. 312; Theodor D. Conceptul de cultura Costisa-Botosana.// Studia Antiqua et Archeologica. I. Iasi, 1983; ср.: Комша М. Проникновение славян на территорию РНДР и их связи с автохтонным населением.// VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1970. 57 Комша, 1970; Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии М., 1973. С. 294; Славяне и их соседи. С. 178, 181. 58 Славяне и их соседи. С. 178. 59 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 60 Свод I. С. 135. 61 См.: Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. С. 121–123. 62 Кухаренко, 1969. С. 121; Седов, 1994. С. 290; Седов, 1995. С. 24. 63 См.: Седов, 1994. С. 290–293. 64 65 66 Proc. Bell. Goth. VI. 15: 1–2.: Свод I. С. 176/177. Прокопий уверяет, что герулы «прошли поочередно все племена склавинов», что — особенно для этого времени — все-таки невероятно. Тогда герулам надо было бы идти с нижнего Дуная. 67 Proc. Bell. Goth. VI. 15: 2–3.: Свод I. С. 176/177. 68 Iord. Get. 34.: Свод I. С. 106/107. 69 См., напр., вводную часть ПВЛ в ПСРЛ. Т. 1, 2, 38; также статью 6404 г. (т. н. «Сказание о славянской грамоте») — там же. Чуть менее рельефно та же мысль у Богухвала: Великая хроника. С. 52–55. 70 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6, 10, ср. стб. 11; аналогичные места в других версиях вводной части ПВЛ ср.: ПСРЛ. Т. 2, 38. 71 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870. С. 138. В волынянах Масуди видели прибалтийских волынян (см. историю вопроса: Седов, 1982. С. 95–96), но об их древнем всеславянском могуществе ничего неизвестно. Бужанско-волынский же вариант, как увидим, находит целый ряд подкреплений не только в археологическом и топонимическом материале, но и в письменных источниках (ср. рассказ Масуди о распаде союза «Валинана» с летописным сказанием об одновременном появлении «княжений» у полян, древлян, дреговичей). 72 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 12, 13. Ср. ПСРЛ. Т. 2, 38. 73 Седов, 1982. С. 94–95. 74 ЭССЯ. Вып. 5. С. 147–148. Я. Длугош, опиравшийся на несохранившуюся русскую летопись, выводил этноним от мифического первопредка Дулеба (Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в XV–XVII вв. Л., 1978. С. 14). Это один из череды мифических предков славян, упоминаемых в разных средневековых источниках. Таковы Чех у чешских и польских хронистов, Пан у Богухвала, Слав у него же (перекликающийся со Словеном русских книжных легенд). К другой группе относятся легендарные или полулегендарные персонажи, сливавшиеся в мифопоэтическом сознании славян с их божествами («божий коваль» в разных вариантах, Бой-Бай из преданий Северо-Западной Руси, западнославянский Крак-Крок, ильменский Волх). В третью группу первопредков входят легендарно-эпические герои, имевшие, скорее всего, реальных прототипов и действующие в более или менее «исторических» обстоятельствах (Вятко, Радим, Избор и ряд других персонажей древнерусских преданий, Пржемысл, Либуше и их потомки у чехов, Лешко-Лех, Попель, Пяст — у поляков, древние персонажи сербохорватской истории, упоминаемые Константином Багрянородным и в «Летописи попа Дуклянина»). 75 Ср. еще смысл самого слова *narodъ ‘народ < те, кто народились’ (ЭССЯ. Вып. 22. С. 253–255). 76 Назаренко, 1993. С. 13/14. 77 Lehr-Splawinski T. Najstarsze nazwy plemion w obcych zrodlach// Jezyk Polski. Krakow, 1961. T. 41. S. 265. Прочие толкования менее вероятны. Основная альтернатива этнониму «червяне» — загадочные «сербяне» (от «сербы») С. Роспонда (Rospond S. Struktura pierwotnych etnonimow slowianskich.// Rocznik slawisticzny. Krakow, 1966. T. 26. S. 12–13). Ясно, однако, что лужицкие сербы упомянуты Баварским географом под своим именем, а среди других славянских племен севернее Дуная никаких следов «сербян» не обнаруживается. Лингвистическую контраргументацию см.: Назаренко, 1993. С. 34. Парадоксальным и никак не увязывающимся с этнонимом Zerivani кажется мнение И. Херрмана, отождествляющего их с племенной общностью к востоку от Буга (то есть дулебами) (Херрман И.К вопросу об исторических и этнографических основах «Баварского географа».// Древности славян и Руси. М., 1988. С. 166). Он к тому же отождествляет их с Zuireani того же автора. Но те вполне надежно идентифицируются как свиряне (не говоря уже о том, что наличие «дублетов» внутри первой части Баварского географа очень сомнительно). Другие идентификации (с поздними гидронимами Серия и Пасерия в Нижнем Повисленье или с островом Руяна через предполагаемую форму *Zerujane) кажутся очень натянутыми (см. обзор: Назаренко, 1993. С. 34–35). 78 ЭССЯ. Вып. 15. С. 43, 44, 57–59. Баварский географ упоминает и лядичей, и червян, но этих последних — лишь как исторических персонажей со ссылкой на славянские предания. 79 См.: ЭССЯ. Вып. 19. С. 214–215. 80 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 81 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 82 Седов, 1982. С. 13, 14, 20, 26, 27. 83 Седов, 1982. С. 20, 27; Седов 1995. С. 23–24. 84 Седов, 1982. С. 20 85 Седов, 1982. С. 26. 86 Седов, 1982. С. 26 87 Седов, 1982. С. 8, 108, 112. 88 Рыбаков Б.А. Город Кия.// Вопросы истории, № 5, 1980. С. 31 след. 89 Седов, 1982. С. 27–28; Славяне и их соседи 1993. С. 122. 90 Седов, 1982. С. 29–34; Славяне и их соседи 1993. C. 122. 91 Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М., 1966. С. 259–264; Третьяков П.Н. Древности второй и третьей четвертей I тысячелетия до н. э. в Верхнем и Среднем Подесенье// Раннесредневековые славянские древности. Л., 1974. С. 49 след. 92 Седов, 1982. С. 29, 33–34; ср.: Терпиловский Р. В. Ранние славяне Подесенья III–V вв. Киев, 1984. С. 74–83. Судя по аргументации Р.В. Терпиловского и Е.В. Максимова, «нет ни археологических, ни лингвистических оснований для соотнесения всех этих родственных между собой групп памятников [киевских, колочинских и т. д.] со славянским населением». Тем не менее делается «вывод о принадлежности киевской культуры одной из крупных групп предков ранних исторических славян» (Славяне и их соседи 1993. С. 122). В справедливости этого осторожного определения сомневаться не стоит. Вместе с тем — с учетом вышесказанного — ясно, что считать колочинцев или «киевцев» славянами оснований нет, кроме социально-экономического и культурного сходства. Соседние, родственные и сходные по хозяйственному типу народы — славяне и восточные балты, — естественно, должны быть отчасти близки с точки зрения общественного уклада и быта. 93 Iord. Get. 36.: Свод I. С. 108/109. 94 См. карты: Седов, 1982. С. 20, 31. 95 Их упоминает Птолемей (Свод I. С. 50/51), локализуя близ Уральских гор (вероятно, южной оконечности). Возможно, упоминание Саурики за Доном на Певтингеровой карте фиксирует движение саваров на запад. Очевидно, сюда же относится гуннский этноним «савиры» как результат гунно-аланского смешения. 96 Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 226; Седов, 1982. С. 138. Ср. еще Sebbirozi и Zabrozi Баварского географа (Назаренко 1993. С. 13/14). Из них первое явно отражает славянское «северцы»; возможно, от того же корня и второе. Но предпочтительнее возводить его к самоназванию не иранцев, позднейших севруков, а гуннов — савир. 97 Седов, 1982. С. 24. 98 Назаренко, 1993. С. 13/14. 99 ЭССЯ. Вып. 4. С. 149–152. 100 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. IV. С. 55. О возможной связи с Attorozi (и Aturezani?) Баварского географа см.: Назаренко, 1993. С. 29–30 (Прим. 30), 31 (Прим. 46). 101 ЭССЯ. Вып. 5. С. 183. Аналогично и происхождение гидронима *Dъneprъ (ЭССЯ. Вып. 5. С. 182). Вероятнее всего возводить эти названия к контактам праславян с антами и дакийцами в начале черняховского периода. 102 Птолемей говорит о сербах (к западу от Нижней Волги — Свод I. С. 52/53) вполне определенно. О.Н. Трубачев обосновывал для этнонима «сербы» индоарийскую этимологию (Трубачев, 1999. С. 74–75, 277) и связывал его с синдо-меотскими племенами, что в целом соответствует данным Птолемея. 103 См.: Седов, 1982. С. 12 (находки керамики колочинского типа на поселении Рашков), 22 (о близких к колочинским домах с центральным столбом на днестровских поселениях), 26, 30, 33, 40. Впрочем, колочинские женщины, изготавливавшие посуду на антских поселениях, могли быть и полнянками. 104 Седов, 1982. С. 24. М.И. Артамонов даже выделял из пеньковской особую «пастырскую культуру» и относил ее болгарскому племени кутригур (Артамонов М.И. Етническата принадлежност и историческоото значение на пастирската култура// Археология. № 3. София, 1969. С. 1 след.). 105 См.: Плетнева С.А. Хазары. М., 1986. С. 15–18. 106 Дорн Б. Каспий. О походах русов в Табаристан. СПб., 1875. С. 37. После этого Джамасп якобы «завладел и странами обоих народов». Это выглядит уже как чистый, хотя, возможно и древний вымысел. Невероятно полагать, что в своей акции возмездия Джамасп достиг каких бы то ни было славянских (антских или тем более словенских) земель. 107 Balcano-Slavica. I. Beograd, 1972. P. 9–42; Федоров — Полевой, 1973. С. 293–297 (о расселении славян из Прутско-Днестровских областей, то есть носителей пеньковской керамики и антских украшений — пальчатых фибул, в Румынии); Седов 1982. С. 19–20. 108 Седов, 1982. С. 12. 109 Об этом см.: Moravcsik G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958. B. 1. S. 108. 110 См. карты: Седов, 1982. С. 13, 20. 111 Седов, 1982. С. 20. 112 Седов, 1982. С. 12, 13, 19–20. Ср.: Федоров — Полевой, 1973. С. 293–296. 113 Федоров — Полевой, 1973. С. 293–294; Седов, 1982. С. 20. 114 Balcano-Slavica 1972; Федоров — Полевой, 1973. С. 296–297; Седов, 1982. С. 19. 115 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6, 11. 116 Proc. Bell. Goth. VII. 22: 1.: Свод I. С. 186/187 (ср. примечание Л.А. Гиндина, В.Л. Цымбурского и С.А. Иванова — Свод I. С. 233. Прим. 118). 117 Славяне и их соседи, 1993. С. 178. 118 Федоров — Полевой, 1973. С. 294. 119 Псевдо-Кесарий (Свод I. С. 254). Некоторые исследователи считали фисонитов (данубиев) Псевдо-Кесария мифическим народом, что противоречит их четкой локализации. Л. Нидерле отождествил их в итоге со славянами-дунайцами (Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. С. 485), что с учетом противопоставления словен и фисонитов в автора совершенно невероятно. Скорее всего, данувии — тогдашнее самоназвание рипианов (в Дакии по обе стороны Дуная), которые, по словам Псевдо-Кесария, называют Данувием Дунай (Свод I. С. 255). 120 Свод I. С. 254. 121 122 См.: Федоров — Полевой, 1973. С. 293, 298; Седов, 1995. С. 95–100. 123 Федоров — Полевой, 1973. С. 298. 124 *byvolъ ‘буйвол, вол’ (ЭССЯ. Вып. 3. С. 158–159); *capъ ‘козел’ (ЭССЯ. Вып. 3. С. 172–173); *kosara ‘загон для скота’ (ЭССЯ. Вып. 11. С. 183–185); *mьrtьcina ‘падаль’ (ЭССЯ. Вып. 21. С. 151 — возможно, отчасти связано с исконнославянским *mьrtvьcina) и т. д. К балканским романским могут быть отнесены те заимствования из классической и народной латыни, которые отложились в восточной группе южнославянских языков (болгарском, македонском), а также заимствования с более или менее ясными восточнороманскими диалектными чертами. Им противостоит группа альпийских романских заимствований, отсутствующих или слабо представленных в восточных южнославянских языках (например, *xolca, *loktika). 125 Термины, связанные с бытом (*ban’a, *jьstъba, а также *bъtъ, *bъtarь — ‘боченок’), денежным обращением (*ceta), садоводством и растительностью вообще (*cersьna ‘черешня’, *kъdun’a ‘айва’, но и *baka ‘ива’), виноделием (*mъstъ ‘муст’) и др. — см. ЭССЯ. 126 См., в частности: Рикман Э.А. К вопросу о славянских чертах в народной материальной культуре Молдавии// Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1954. Вып. 56. 127 Федоров — Полевой, 1973. С. 286. 128 Седов, 1982. С. 14, 18. 129 Ср.: Седов, 1982. С. 18; Славяне и их соседи 1993. С. 174 — словене Закарпатья хоронили умерших в грунтовых могилах, ставя урны с остатками кремации на кострищах с вымостками из камней; их предшественники же хоронили своих умерших в курганах, ставя урны в ямки, вырытые под кострищем, прикрытые каменной плитой. 130 Sklenar 1974. S. 272, 280; Седов, 1995. С. 24. 131 См.: Sklenar 1974. S. 271, 345. 132 См.: ЭССЯ. Вып. 4. С. 33–35. Это обстоятельство осознавалось и западноевропейскими средневековыми авторами, которые издревле переводили название «чехи» как «богемцы» (например, «бехеймары» у Баварского географа — Назаренко, 1993. С. 13/14 — один из немногих переведенных у него славянских этнонимов). 133 Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. Гл. 2. С. 33–34. 134 Dalimil. Kap. 2: 1–40. З. Неедлы придал большое значение приходу Чеха у Далимила из «Хорватии», считая возможным видеть здесь отражение некой миграции из чешской «Белой Хорватии» на юго-восток, в долину Влтавы: Nejedly Z. Stare povesti ceske jako historicky pramen. Praha, 1953. S. 16–49. В свете археологических данных о заселении Чехии в первой половине VI в., а также очевидного прихода хорватов из Поднестровья в Чехию только после аварского вторжения ок. 560 г. представляется предпочтительным считать иначе. Наличие в Чехии области хорватов могло побудить Далимила перенести в балканскую Хорватию (в хронике — «Есть в сербском языке земля, ей же Хорваты имя») легендарную дунайскую прародину славян. Толкование племенного названия «чехи» от личного «княжеского» имени Чеслав позволило бы видеть в Чехе историческое лицо, но эта заманчивая перспектива опровергается лингвистами (См.: ЭССЯ. Вып. 4. С. 34). Очевидно, Чех лишь персонифицирует в своем образе группу словен, пришедшую на полупустынные земли древней Богемии в первой половине VI в. Можно добавить, что в XIII в. предание о Чехе уже было воспринято польскими хронистами. У Богухвала (Великая хроника. С. 52) Чех — младший из трех сыновей Пана, родоначальника славян, вышедших из Паннонии и давших начало королевствам лехитов (от Леха), русов (от Руса) и чехов (от Чеха). Чешский хронист Гаек из Либочан (XVI в.) существенно дополняет предание о Чехе как другими устными традициями, так и собственными домыслами. Представляет интерес сказание о братьях Госте и Черноусе, которые хотели удалиться от горы Ржип, но Чех, разрешив им выделиться, отсоветовал уходить далеко (Vaclav Hajek z Libocan. Kronika ceska. Praha, 1981. S. 50–51). Предание отражает стремление чехов к компактному проживанию в окружении «немцев». 135 Sklenar 1974. S. 272, 275–276; Седов, 1995. С. 28. 136 Sklenar 1974. S. 272; Седов 1995. С. 28. 137 Proc. Bell. Goth. VII. 35: 16, 21–22.: Свод I. С. 188–191 — явное свидетельство того, что словенские земли примыкали с севера к распадавшемуся готскому королевству. Глухим и совершенно искаженным припоминанием подлинных обстоятельств прихода славян на место германцев в Центральной Европе выглядит свидетельство Баварской хроники XIII в. о захвате «рутенами и славянами» — «детьми Хама» земель германцев («детей Яфета») то ли от Днепра «вплоть до Дуная и Вислы», то ли даже «от Русии до Рейна». Германцы будто бы бежали от них морем из «Средней Азии» и «Верхней Русии» («за Киевом») на «нижние острова Запада» (Свердлов М.Б. Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия. Вторая половина XII–XIII в. М. — Л., 1990. С. 394–395). Это крайне тенденциозное сообщение, представляющее собой при всей краткости чудовищную смесь самых разных исторических и псевдоисторических источников, тем не менее, как можно видеть, содержит некое реальное зерно. 138 См.: Седов, 1982. С. 19, 237. Ср. упоминавшееся значение этнонима «ледзяне» и слова Кассиодора об обитании словен в «лесах». 139 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. См.: Иванова О. В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия// Раннефеодальные государства на Балканах. М., 1985. С. 41. 140 См.: Третьяков П.Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе// Известия ГАИМК. Т. XIV. № 1, 1934. 141 Седов, 1982. С. 238. 142 Лен известен славянам искони; слово «конопля», возможно, индоарийского происхождения (ЭССЯ. Вып. 10. С. 188–192; Трубачев, 1999. С. 245). 143 Седов, 1982. С. 19. Исключение — пограничные с антами районы. 144 См.: Этнография восточных славян. С. 194. 145 Здесь и далее о праславянских лексемах см. ЭССЯ. 146 См.: Этнография восточных славян. С. 188. Мотыгу, помимо карпатских украинцев, использовали в историческое время сербы: Народы зарубежной Европы. Т. 1. М., 1964. С. 403. 147 Седов, 1982. С. 24, 236. 148 О формах рала см.: Народы I. С. 102, 192, 227, 314, 403, 433, 481; Этнография восточных славян. С. 194. 149 Этнография восточных славян. С. 194; Седов, 1982. С. 236, 274. 150 Народы I. С. 102, 193 (чешская борона «лучевой» формы), 404, 433 (хорватский архаичный тип бороны — прутья, прикрепленные к доске); Этнография восточных славян. С. 195–196. 151 Historia kultury materialnej Polski. T. 1. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk, 1978. S. 85; Седов, 1982. С. 16, 237, 275. 152 Этнография восточных славян. С. 196. 153 См.: Народы I. С. 103, 193–194, 228, 314, 404, 433; Этнография восточных славян. С. 197. 154 Седов, 1982. С. 24. 155 Sklenar 1974. S. 275–276; Седов, 1982. С. 6, 18, 22. 156 Седов, 1982. С. 22. 157 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Седов, 1982. С. 18, 237–238. 158 Этнография восточных славян. С. 201; Седов, 1982. С. 237. 159 Sklenar 1974. S. 275–276; Седов, 1982. С. 18, 238. На скотоводство у славян есть указания у Прокопия: Bell. Goth. VII. 14: 23; 38: 22; 40: 37.: Свод I. С. 182/183, 194/195, 198/199. 160 Седов, 1982. С. 18, 238. 161 Седов, 1982. С. 14, 26, 238–239. 162 Historia kultury, 1978. S. 31. 163 Седов, 1982. С. 18, 239. 164 Sklenar, 1974. S. 276; Седов, 1982. С. 18, 239. Об охоте словен на кабана, видимо, говорит и Псевдо-Кесарий: Свод I. С. 254, 258 (Прим. 14). 165 Свод I. С. 254; Седов, 1982. С. 18. 166 Седов, 1982. С. 18. 167 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Sklenar, 1974. S. 272; Седов, 1982. С. 12, 21. 168 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 169 Седов, 1982. С. 21. 170 См.: Этнография восточных славян. С. 206. 171 Historia kultury, 1978. S. 27. 172 Седов, 1982. С. 12. 173 Седов, 1982. С. 22. 174 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Sklenar, 1974. S. 275; Седов, 1982. С. 13, 14, 22. 175 Седов, 1982. С. 13, 22. 176 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24, 29–30.: Свод I. С. 184/185. 177 Historia kultury, 1978. S. 31; Седов, 1982. С. 14, 22. 178 Historia kultury, 1978. S. 33. 179 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1982. С. 14, 22. 180 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. 181 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Sklenar, 1974. S. 275; Historia kultury, 1978. S. 202, 203, 278; Седов, 1982. С. 14, 22, 24. 182 Седов, 1982. С. 14. 183 Седов, 1982. С. 22. 184 Седов, 1982. С. 14, 22. 185 Седов, 1982. С. 24. 186 ЭССЯ. Вып. 8. С. 21–22. Там же (С. 22) о синониме — слове *xatrьcь. 187 Ср.: Седов, 1982. С. 30 — колочинские полуземлянки с опорным столбом в центре найдены на двух антских поселениях, в том числе в пеньковском «гнезде», в поселении Луг I. 188 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Седов, 1982. С. 14, 22. 189 ЭССЯ. Вып. 8. С. 243–245. Термин быстро стал обозначать сруб вообще, но особенно теплую часть. 190 Седов, 1982. С. 14. 191 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 275; Седов, 1982. С. 14, 22, 24. 192 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1995. С. 69, 71. 193 Седов, 1982. С. 14. 194 Седов, 1982. С. 16, 22, 24. 195 Седов, 1982. С. 14, 16. 196 Седов, 1982. С. 14, 22. 197 Седов, 1982. С. 16. 198 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 298; Седов, 1982. С. 12–13, 19. 199 Федоров — Полевой, 1973. С. 298; Седов, 1982. С. 24. 200 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 296, 297; Sklenar 1974. S. 279; Седов, 1982. С. 16, 24. 201 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Седов, 1982. С. 16, 24. 202 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 279. 203 Седов, 1982. С. 241–242. 204 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 298; Sklenar, 1974. S. 272, 275; Седов, 1982. С. 11–12, 19. 205 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 276; Седов, 1982. С. 16, 239–240. 206 Видимо, в Поднепровье на гончарстве специализировались жители отдельных поселений (Седов, 1982. С. 24). 207 См.: Славянская мифология. С. 234. Ср. также этимологию имени легендарного основателя Киева Кия от имени божественного кузнеца (Славянская мифология. С. 222) и предание о князе Радаре (Легенды и паданни. Менск, 1980. № 97). 208 Historia kultury 1978. S. 117 etc.; Седов, 1982. С. 240. 209 Седов, 1982. С. 24, 241. 210 Седов, 1982. С. 241. 211 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 296, 298; Седов, 1982. С. 18. 212 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 26.: Свод I. С. 184/185. 213 Седов, 1982. С. 72, 258. Ср.: Этнография восточных славян. С. 262 след. 214 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1982. С. 258, 259. 215 Седов, 1982. С. 259. 216 Седов, 1982. С. 258. 217 Ср. об одежде древних чехов у Козьмы Пражского (Козьма 1962. Гл. 3. С. 35). 218 Седов, 1982. С. 72; Народы I. С. 251; Этнография восточных славян. С. 266. 219 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1982. С. 24–26, 259–260. 220 «Они постоянно покрыты грязью» (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 28.: Свод I. С. 184/185). На Прокопия здесь оказывает большое влияние стереотип изображения «варваров». Недаром он по «грубому и неприхотливому нраву» и пресловутой «грязи» сравнивает славян с «массагетами» и притом говорит об их «гуннском нраве». В том же описании Прокопий говорит о русоволосости и «красноватом», то есть обычном североевропейском цвете кожи славян, а также об их большом росте и физической силе. Здесь же он отмечает, что «они менее всего коварны или злокозненны». Эти замечания, конечно, более справедливы, но в целом вписываются в тот же стереотип. 221 Обрядами омовения сопровождались многие календарные праздники и переходы из одной половозрастной группы в другую. Ср. этимологию глагола *myti(se) (ЭССЯ. Вып. 21. С. 76–79). 222 Из нар. — лат. banes, balnia ‘баня’ (ЭССЯ. Вып. 1. С. 151–152). 223 Свод I. С. 84/85. 224 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 25.: Свод I. С. 184/185. 225 Proc. Bell. Goth. V. 27. 1–2.: Свод I. С. 176/177 (о «гуннах, склавинах и антах»); Marc. Chr. A. 517 («гетские всадники»; см. далее, гл. 2). 226 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 25; 38: 17.: Свод I. С. 184/185, 192/193. Более того, по Прокопию, некоторые славянские воины сражались полуголыми. Это, скорее всего, члены воинских «оборотнических» братств. Универсальный характер имеет представление о неуязвимости собственной кожи оборотня. Отражено оно и в славянских поверьях. Известно, что скандинавские берсерки срывали с себя в бою доспехи. 227 Федоров — Полевой, 1973. С. 298; Седов, 1982. С. 16. 228 См.: ЭССЯ. Вып. 18. С. 38–42 (о вероятном заимствовании слова из кельтских языков латенской эпохи). Отдельные мечи могли попадать в руки славян как трофеи. Ср. упоминание меча в руке «варвара» (славянина?) в «Луге духовном» Иоанна Мосха (Свод II. С. 184). См. гл. 2. 229 Proc. Bell. Goth. VII. 22: 1–6.: Свод I. С. 186/187. 230 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 7; 40: 7.: Свод I. С. 192/193, 196/197. 231 Proc. Bell. Goth. VI. 26: 17–24.: Свод I. С. 176–179; Proc. DA. IV. 7: 13, 17.: Свод I. С. 206/207. 232 Proc. Bell. Goth. VII. 22: 5.: Свод I. С. 186/187. 233 Седов, 1982. С. 13, 22. 234 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Седов, 1982. С. 18. 235 Народы I. С. 256, 340–341, 418–419, 444, 461, 474–475, 490–491; Этнография восточных славян. С. 363. Югославянскую задругу часто отделяют от больших семей восточных славян и словаков, относя скорее к патронимическому типу (Косвен М.О. Семейная община и патронимия. М., 1963). Но более аргументирована другая точка зрения — задруга является следствием эволюции большой семьи при сохранении многих ее характерных черт (в частности, и фигуры главы семьи). Характерно в этом плане объединение болгарских «фамилий» (преемниц задруг, объединявших уже малые семьи) в «роды». Эти «роды», соответствующие патронимиям, были известны также черногорцам и в пережиточных формах македонцам. 236 Народы I. С. 256, 340–341, 418–419, 474–475; Этнография восточных славян. С. 365. 237 Народы I. С. 340–341, 474–475, 490; Этнография восточных славян. С. 173. 238 Седов, 1982. С. 243–244; Седов, 1995. С. 72–73. Память о «золотом веке» коллективной собственности и равенства сохранилась из славянских хронистов у Козьмы Пражского (Чешская хроника. Гл. 3). Но это описание слишком изобилует литературными клише, чтобы быть подлинным отражением фольклорной традиции. 239 Седов, 1982. С. 13, 22. 240 Частичным этнографическим аналогом является черногорское братство, объединявшее роды и входившее в состав племени (См. о родоплеменном укладе черногорцев: Народы I. С. 489–490). 241 Видимо, именно эту форму распределения следует считать самой старой (ср.: Этнография восточных славян. С. 376–378). Об общинах у западных и южных славян см.: Народы I. С. 218, 418–419, 475, 489–490. 242 В «Правде Русской» (Русская Правда, Краткая редакция — см.: Правда Русская. М. — Л., 1940. Т. 1) одинаковым денежным штрафом с прямым указанием на разрешение кровной мести карается убийство (ст. 1) и повреждение руки или ноги (ст. 5). У черногорцев кровная месть сохранялась до XIX в. (Народы I. С. 490; ср.: Законик общи црногорски и брдски. Цетиње, 1982. С. XXVII след. Ст. 2–10, 17). В Польской Правде (Эльблонгская книга, ст. 17. См.: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. С. 738 след.) и Винодольском законе (Ягич В.В. Закон Винодольский. СПб., 1880) (ст. 46) изнасилование приближается по сумме возмещения к убийству. Можно заключить (с учетом фольклорных свидетельств), что изначально оба преступления карались одинаково — кровной местью. 243 В Эльблонгской книге (ст. 12) такой привод карается одним из самых высоких штрафов. 244 Ср. Эльблонгская книга (ст. 8–9): отвечает за убийцу, грабителя или вора то село, которое отказалось гнаться за ним «с криком». «Род» мог выставить поединщика за укрытого убийцу. 245 В «Правде Русской» два уровня обид (в денежном выражении). В обоих случаях очевидно, что откупом заменяется месть (хотя и не со смертельным исходом, по крайне мере во второй категории). К тяжким обидам отнесены удар каким-либо предметом (ст. 3, 4) и вырывание бороды и усов (ст. 7). К более легким — простое избиение (ст. 2), отсечение пальца (ст. 6), толчок (ст. 9), кража (ст. 10–12). Черногорское право конца XVIII в. (ЗОЦБ. Ст. 6–10, 17) содержит попытку судебного регулирования правежа из-за побоев и грабежей. В противном случае они постоянно приводили к «кровопролитию». Впрочем, «старый обычай» уже допускал откуп за кражу (ст. 14). Закон судный людем винит «в сугубину» тех, кто покушается на чужой лес (леса в древности находились в коллективной собственности) и скот (см.: Закон судный людем краткой редакции. М., 1961. С. 104 след. — Гл. 16, 25). Эти нормы, также как норма о возврате присвоенного (гл. 19; ср. РПКр. Ст. 12), не восходят напрямую к ромейской «Эклоге». 246 Винодольский закон, ст. 7–8; Эльблонгская книга, ст. 8–9. 247 Винодольский закон, ст. 71; Эльблонгская книга, ст. 7. 248 Ср. Эльблонгская книга, ст. 5; Винодольский закон, ст. 9–10 и др. 249 Эльблонгская книга, ст. 23–25; Рожмберкская книга (Хрестоматия. С. 839 след.), ст. 154–191. 250 ЗСЛ. Гл. 22 («даже если и жупан свидетельствует»). О «видоках» упоминается и в древнейшей Правде Русской (ст. 2, 9). Но норма гл. 2 ЗСЛ о «послухах» восходит к ромейскому христианскому праву. 251 Четырехступенчатая система общественной организации (семья — род — братство — племя) сохранялась долго у черногорцев. С ней был сопряжен ряд других архаичных элементов общественной жизни (сохранение веча-скупщины, кровной мести). Но черногорские патронимические племена были за единственным исключением экзогамны (Народы I. С. 489–490). Сохранение этой патронимической нормы могло быть вызвано большим числом и замкнутостью горных черногорских племен. С другой стороны, экзогамия племен могла здесь развиться и вторично в связи с появлением «лишнего звена» между племенем и черногорским племенным союзом — нахии (округа). Нахия, являясь основной составляющей ячейкой государства, с неизбежностью переняла ряд функций древнеславянского первичного племени. 252 Седов, 1982. С. 13. 253 Седов, 1982. С. 22. 254 Proc. Bell. Goth. VI. 15: 2; VIII. 4: 9.: Свод I. С. 176/177, 200/201. Греческий термин ????? ‘территория провинции или племени’ здесь выглядит точным соответствием славянского «волость». 255 Ср. у черногорцев: Народы I. С. 490. 256 О поклонении киевских полян «рощам» наряду с водными источниками говорит Начальный летописец (ПСРЛ. Т. 3. 6362 г. — см. также Начальная летопись 1999). Ср. еще сниженный и осмеянный в русской бытовой сказке мотив «Николы Дуплянского» — божества-оракула, живущего в лесу, в дупле, и дающего ответы в обмен на приношения. 257 См.: ЭССЯ. Вып. 8. С. 74–76. Остатки примитивного «храмового» сооружения, возможно, обнаружены у селища Корчак (Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 1997. Приложение, № 39). 258 Седов, 1982. С. 262–263. О наличии идола можно судить по аналогиям. 259 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 23.: Свод I. С. 182/183. Монархический характер власти Перуна над мирозданием Прокопий явно преувеличивает. Едва ли живущие, по его же словам, в «демократии» словене и анты могли приписать своему верховному богу форму власти, о которой не имели представления. 260 О мифологических именах типа Додола, Перыня, Пеперуна и др., обозначавших земную жену громовержца и заменявшую ее в обряде призывания на землю дождя жрицу, см.: Славянская мифология. С. 108, 164–165, 305–306. Обряды вызывания дождя сохранились, прежде всего, у южных славян. См.: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М., 1978. Обряд исполняла молодая жрица, символизировавшая собой жену громовержца, богиню земли. Ее в обряде обливали водой с молитвенными заклинаниями. 261 О сложной проблеме с разграничением праславянских слов *mara ‘призрак’ и *mora (с родственным *marena) см.: ЭССЯ. Вып. 17. С. 204–207, 209–210; Вып. 19. С. 211–214. С индоевропейскими соответствиями типа ирл. Morrigan, герм. mara сопоставляется именно праслав. *mora. Это слово, как и западно-восточнославянское *marena, соотносится с древнейшими обозначениями смерти. Сюда же, возможно, имя латышского духа-покровителя животноводства «Маря» — но этот персонаж претерпел существенные изменения (затронувшие и само звучание имени) под влиянием христианства. 262 Эта гипотеза В. Н. Топорова (Топоров В. Н., Ahi Budhnya, Бадњaк и др.// Этимология. 1974. М., 1976) построена на этимологии названия югославянского «рождественского полена» от индоевропейского корня, отразившегося в именах мифологических змеев греческой и индийской традиции. С гипотезой в принципе согласуются и славянские фольклорные тексты, противопоставлявшие «старого бога» молодому Божичу. Явно солнечный характер последнего божества — еще один повод для сопоставления с греческими мифами, где змея Пифона убивает бог солнца Аполлон. 263 Согласно древнерусскому поучению против язычества, Роду и рожаницам поклонялись «прежде» Перуна (Гальковский, 2000. С. 24). Многие мотивы в восточнославянском образе Рода и южнославянском Суда близки; термины «рожаница» и «суденица» были известны и восточным, и южным славянам, а «суденица» — еще и западным (Славянска мифология. С. 335, 370). Термин «наречница», видимо, также праславянский (см.: ЭССЯ. Вып. 22. С. 241: при преобладании южнославянских примеров — словинский из Поморья со значением ‘плаксивая женщина’ явно из первоначального ‘предсказательница злой судьбы’). 264 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 23.: Свод I. С. 182–185. Перечень попыток решения дилеммы см.: Свод I. С. 222. Прим. 74. 265 О. Н. Трубачев предполагал заимствование из индоарийского *svar-ga ‘в небе идущий, небесный, солнечный’ (Трубачев 1999. С. 182, 280). 266 Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 158–163. Ср. еще образ Перуна как «создателя молний» у Прокопия. Упоминание в мифе железного пахотного орудия явно указывает на его антское происхождение. В индийской мифологии Сваргой именуются владения громовержца Индры; возможно, в древности (и у синдо-меотов) это был эпитет бог грозы. 267 Одна из гипотез возводит имя «Кий» к индоевропейскому обозначению божественного кузнеца (Иванов В. В., Топоров В.Н. Кий.// Славянская мифология. С. 222). О преданиях о «божьем ковале» как продолжении древнего мифа о боге-кузнеце или громовержце см.: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1. С. 559 след.; Потебня А.А. Этимологические заметки о мифологическом значении некоторых обрядов. М., 1865. С. 8–15; Петрухин В.Я. Кузнец.// Славянская мифология. С. 234. 268 Змиевы Валы в Поднепровье, которые, по преданию, явились результатом победы Божьего Коваля над Змеем, еще в XVII в. именовались Трояновыми (Антонович В. Змиевы Валы в пределах Киевской земли.// Киевская старина. 1884. Март). Видимо, почитавшийся «волохами» Троян первоначально воспринимался как персонаж, тождественный Велесу, а Сварог прямо отождествлялся с Перуном. 269 См.: Славянская мифология. С. 388 (производится из иранского и связывается с персидским Xurset ‘божественное сияющее солнце’). 270 Образ, распространенный в тюркских мифологиях. См. еще: Тревер К.В. Сэнмурв-Паскудж. Л., 1937; Ворт Д. Див-Simurg.// Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978. В этих и ряде других работ название связывается с обозначением демонической птицы Симург (Сэнмурв) из иранских мифов. В.В. Иванов и В.Н. Топоров (Славянская мифология. С. 357) считают имя скорее славянским и возводят его к «Семиглав». У балтийских славян известен семиглавый бог Руевит. Но древнерусские авторы явно не понимали смысла имени Семаргла и не раз искажали его. Это скорее свидетельствует о заимствовании. Сами причины искажения или усечения в случае принятия славянской этимологии не вполне ясны. «Семиглав», впрочем, могло повлиять на оформление заимствования на славянской почве (Руевит, заметим, был богом войны). 271 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. Ср. еще в начальной летописи (6362 г.): «жертвовали озерам и ручьям». 272 Именно с вилами отождествил «нимф» Прокопия Л. Леже (Леже Л. Славянская мифология// Филологические записки. 1907. 2–3. С. 144). 273 См. об исконнославянской этимологии слова: ЭССЯ. Вып. 8. С. 191. Следы представлений о юдах сохранились у южных и у восточных («чудо-юдо») славян. 274 Об этимологии слов *manъ и *manьja и их точном соответствии исконнородственным латинским терминам см.: ЭССЯ. Вып. 17. С. 201–203. Южнославянские значения слова *navь (и болгаро-македонские, и сербохорватские) сводятся к одному — ‘злой дух из царства мертвых’, но несколько отличаются от древнерусского летописного навь ‘призрак мертвеца’. Возможно, сперва (как и в конечном счете) терминами *manъ и *navь обозначались разные, хотя и близкие персонажи низшей мифологии. Слово *navь у праславян означало собственно смерть и мертвое тело (см.: ЭССЯ. Вып. 24. С. 49–52). 275 Ср. семантику слова в различных славянских языках: ЭССЯ. Вып. 25. С. 93–94. Позднее оно приобрело собирательное значение — вредоносный дух вообще. 276 О слове см.: ЭССЯ. Вып. 22. С. 187–188. Такой дух мыслился живущим в доме. Исходное религиозное значение для слова «наместник», вероятно, ‘жертва во здравие’ — та самая животная жертва в искупление, о которой говорит Прокопий. Дух такой жертвы мыслился оберегающим жертвователя. 277 Например, у Богухвала (Великая хроника. С. 54, 55). 278 Этот эпитет употреблен в «Слове о полку Игореве», метафоры которого обычно имеют древнее происхождение. Но в данном случае речь все же может идти о христианском (точнее, народно-христианском) восприятии инородцев-язычников. Готский вариант предания о происхождении гуннов см.: Iord. Get. 121–122. Е.Ч. Скржинская считала, что легенда «создалась, конечно, в христианской среде» (Иордан 1997. С. 271. Прим. 380). Это верно в том смысле, что готы уже были христианами (точнее, арианами). Но, с другой стороны, идея о возможности происхождения человека от демона — скорее не христианская, а языческая. Действие легенды происходит у Иордана в языческие времена, и почти никаких признаков христианского происхождения она не несет (разве что термин spiritus inmundi по отношению к духам, от которых будто бы произошли гунны). 279 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 23.: Свод I. С. 182–185. 280 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. 281 ЭССЯ. Вып. 19. С. 87–93 (значение ‘молитва’ вторично). 282 Седов, 1982. С. 262–263; Proc. Bell. Goth. VII. 14: 23.: Свод I. С. 182/183. 283 Особенно четко следы ритуала прослеживаются в «кукерских» обрядах у болгар, испытавших фракийское влияние. Но пережитки мужской жертвы (в виде сожжения или разрывания чучела, «убиения» ряженого) есть у всех славянских народов. На завершающем этапе появилось название жертвы «Ярило» (эпитет умирающего и воскресающего бога, появившийся не ранее VII в. — болгарам и македонцам неизвестен). Только у северных славянских народов (западных и восточных) мужская жертва была заменена со временем, едва ли раньше обособления южных славян в VII в., женской. Лишь затем (но раньше принятия христианства) обряд разложился и исчез вовсе. Таким образом, в V–VI вв. он еще существовал. Материал о календарных праздниках славян, связанный с темой, см.: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977. С. 202–296; Календарные обычаи 1978. С. 174–244; Этнография восточных славян. С. 380 след., 452–453. Оценку первоначального содержания и исторического развития подобных обрядов, см., например: Календарные обычаи… Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 122–123; там же отсылки к литературе. 284 Ср.: Proc. Bell. Goth. VII. 38: 20–22.: Свод I. С. 192–195. Ритуальный характер носили, видимо, и изуверства, описанные Псевдо-Кесарием: Свод I. С. 254 (ср.: С. 257. Прим. 5–6). 285 Интересно, что магические умения, приписывавшиеся гончарам (см.: Славянская мифология. С. 139–140) в целом более «темны» и опасны для окружающих, чем восходящее к божественным силам знание кузнецов. Видимо, это отголосок тех времен, когда работавшие на гончарном круге мастера были инородцами для славян и хранили от них свои секреты. На поселениях ипотештинской группы, например, гончарами были «волохи», связывавшиеся в мифологических представлениях славян с богом загробного мира Велесом (Волосом). 286 Ср. общеславянский, хотя в конечном счете и восходящий к древнегерманским языкам, термин lekar’ь (ЭССЯ. Вып. 14. С. 194–195). 287 Седов, 1982. С. 16, 18. Они найдены и на «святилище» близ Корчака. Видимо, это ритуальная замена настоящего хлеба. Стремление к такой замене естественно в условиях малых урожаев, при подсеке и перелоге. 288 См.: Этнография восточных славян. С. 380; Календарные обычаи и обряды… Вып. 1–4. М., 1973–1983. 289 Их сведения блестяще расшифрованы Б.А. Рыбаковым: Рыбаков Б… Календарь IV в. из земли полян.// Советская археология. № 4. 1962. С. 67–72 (чаша № 2 из Лепесовки), 71 (две черняховские миски), 72–74 (сосуд из Малаешты), 74–86 (кувшин из Ромашек). 290 ЭССЯ. Вып. 10. С. 134–135. 291 О культе волка у древних индоевропейцев и балтославян см.: Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка.// Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. № 5; Иванов В.В. Волк.// МНМ. Т. 1. 292 Об исторических корнях обряда ряжения см. подробно: Календарные обычаи 1983. С. 185 след. 293 Родственные праслав. *jьgrьcъ и *jьgracь, кажется, несколько различались по смыслу (ср. значения: ЭССЯ. Вып. 8. С. 210, 212–213). Первое означало скорее «актера» — бродячего, к тому же перевоплощающегося и ведущего себя непристойно в ходе «игры» (празднества), позднее даже «нечистого духа». Второе же слово обозначало просто «игрока», любого участника праздничного ритуала. 294 Эти реалии отразились в весьма древней по происхождению русской эпической песне «Братья Волховичи», имеющей южнославянские (болгарские) параллели. См.: Былины новой и недавней записи из разных местностей России. М., 1908. № 96; Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 года А.В. Марковым, А.Л. Масловым и Б.А. Богословским. М., 1908. Ч. 2. № 42–43; Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. М., 1991. № 108–111. О сюжете и его развитии у южных и восточных славян см.: Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 407–409 (в связи с близкой позднейшей по происхождению былиной «Алеша Попович и сестра Бродовичей»). Закон судный людем говорит об усечении носа мужчине, нарушившему брачные установления (гл. 8, 13). Это, очевидно, позднейшая замена кровной мести. 295 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 14; ср. Козьма Пражский. Гл. 4. 296 В лужицком свадебном обряде невеста танцевала с гостями, пока жених стоял за дверью (Народы I. С. 291). Именно о групповом браке, по сути, говорит и Козьма (гл. 4), но это скорее искаженное под влиянием античной традиции восприятие славянского многоженства. 297 Ср. обычай «пробного брака» в народной славянской среде (Народы I. С. 446; Славянская мифология. С. 64). 298 ПСРЛ. Т. 1. Стб.13, 14; Т. 41. С. 6. 299 См.: Славянская мифология. С. 64. Ср.: Народы I. С. 291; Этнография восточных славян. С. 408. 300 См.: Этнография восточных славян. С. 408. Особые формы свадебных даров представляли собой выкуп сватов за вход в дом невесты (Народы I. С. 342, 420, 446) и выкуп за выезд из села невесты (Там же. С. 218, 291, 462). Последняя форма, — возможно, остаток сопротивления эндогамного коллектива разрушению своих устоев, — следовательно, более поздняя. 301 Подробнее о формах бракосочетания см.: Народы I. С. 132–133, 217–218, 259, 290–291, 342–343, 420–421, 446, 461–462, 475; Этнография восточных славян. С. 405–409. 302 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 13 (в Лаврентьевском списке — «зять за невестой»). 303 См.: Народы I. С. 218; Славянская мифология. С. 80. 304 См.: Народы I. С.152, 258, 341, 420, 445–446, 4614 Этнография восточных славян. С. 397–400. 305 Топорков А.Л. «Перепекание» детей в ритуалах и сказках восточных славян// Фольклор и этнографическая действительность. СПб., 1992. 306 См., например, чрезвычайно древнюю по происхождению былину «Волх»: Древние российские стихотворения, собранные Киршой Даниловым. М. — Л., 1958. № 6. 307 О пережитках авункулата у славян см.: Косвен М.О. Кто такой крестный отец?// Советская этнография. 1963. № 3. 308 Для лиц, родившихся в конце V — первой половине VI в., отмечены: заимствованные имена у анта Хильвуда (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 8.: Свод I. С. 180/181), видимо, его отца Санвата (см.: Свод I. С. 232), односоставное имя у словенского воина Сваруны (Agath. Hist. IV. 20: 4.: Свод I. С. 296/297); двусоставные имена у антских вождей, братьев Межимира и Келогоста (Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317), видимо, анта-полководца на имперской службе Доброгеза (Agath. Hist. III. 6: 9.: Свод I. С. 294/295), а также — в усеченной форме — у словенского князя Добряты (Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321). 309 См. об этом: Пропп, 1996. С. 52–111. Испытания силы и ловкости сохранились в обряде «юношеского крещения» у словаков (Народы I. С. 258). 310 Об остатках ритуала инициации у славян см.: Народы I. С. 258–259 (словаки), 447 (хорваты); Этнография восточных славян. С. 400. 311 ЭССЯ. Вып. 9. С. 80–82. Впервые зафиксировано в середине V в. Приском применительно к похоронам Аттилы. См.: Свод I. С. 161 след. 312 О погребальной обрядности см.: Народы I. С. 133–134, 217, 292–293, 343, 421–422, 446–447; Этнография восточных славян. С. 410–416. 313 Sklenar, 1974. S. 272, 279; Седов, 1982. С. 18, 25. 314 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Sklenar, 1974. S. 279; Седов, 1982. С. 18, 25. 315 Седов, 1982. С. 18. 316 Sklenar, 1974. S. 279; Седов, 1982. С. 18, 25. 317 В курганных захоронениях, распространяющихся впоследствии у словен, основные погребения — урновые, а без урн хоронили потомков, пользовавшихся курганом позднее (Седов, 1982. С. 18). 318 Седов, 1982. С. 18. Возможно, стремление обезопасить себя от мертвеца? Ср. разнообразные варианты захоронений в Сэрата-Монтеору: Федоров — Полевой, 1973. С. 294. 319 Седов, 1982. С. 18, 25. Довольно богатый на общем фоне инвентарь Сэрата-Монтеору (Федоров — Полевой, 1973. С. 296–297) относится в основном ко второй половине VI–VII вв. В Пржитлуках найдены костяные гребни, глиняные пряслица, железные ножи и пр. (Sklenar, 1974. S. 279). К востоку от Западного Буга находки предметов буквально единичны — железная пряжка из Хорска, глиняный «хлебец» из Суемец, бусина из Тетеревки (Седов, 1982. С. 18). 320 Седов, 1982. С. 18. 321 Седов, 1982. С. 112; ср.: Седов, 1995. С. 75. В последнее время предложена версия о существовании в регионе особой «культуры ингумаций» смешанного происхождения (Обломский 2002. С. 80–6). Не исключено, что толкование этих обрядовых различий должно носить не столько этнический, сколько социальный характер. 322 См.: Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 1963; Типология народного эпоса. М., 1975. 323 В русской былине об Алеше Поповиче описывается его поединок с Тугарином Змеевичем (См. варианты и разбор сюжета в кн.: Добрыня 1977). В болгарской песне о Муржо-свирельщике юда требует от Муржо его жизнь в уплату за горное пастбище; они бьются об заклад — сможет ли юда «плясать» дольше, чем Муржо играет (Песни южных славян. М., 1976. С. 46–47). Герой, борясь с чудовищем, просит небесные силы о дожде. Ему посылается «дождик», намачивающий и отягощающий противнику крылья. В болгарской версии враг — юда, воплощение ураганного ветра, а дождь прерывает ее «пляску», что неплохо объясняет происхождение мотива. 324 Русские эпические песни… № 1; ср. еще былины о Скимене (Индрике) звере, который «заслышал» рождение богатыря (см.: Добрыня… С. 426–427); Песни южных славян. С. 60–64, 71–74. Особенное сходство (даже на лексическом уровне) с русскими былинами наблюдается в македонской песне «Малое дитя и ламия» (С. 74, 131). Ср. там же: С. 9–10, где утверждается, что противником героя всегда является змея, а не змей. Более убедительную интерпретацию см.: Славянская мифология. С. 283–284, где учтены русские параллели и сербский эпос о Вуке. Несомненно, что в основе представлений о змее-отце лежит древний образ змея-защитника; столь же несомненно, что в южнославянском эпосе сохранились мощные следы именно этого образа (Песни южных славян. С. 66–69). Но смена мифологических «поколений» в эпосе, как и в мифе, уже произошла. Верховным богом древних славян стал змееборец Перун (Сварог?), а героем их эпоса — сын змея, поражающий отца (что не исключает и сюжета противоборства со змеей). Ср., кстати, в этой связи змеиную природу Рарога (сниженный вариант образа Сварога) — см.: МНМ. Т. 2. С. 368. 325 Ср. карпатский обычай сказывать сказки во время бдения при покойнике (Этнография восточных славян. С. 419). 326 См.: Этнография восточных славян. С. 475 след., а также: Народы I. С. 151–152, 354–355, 425, 448, 464, 492. 327 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 298; Седов, 1982. С. 12, 19. 328 О примитивных деревянных идолах можно составить представление разве что на основе миниатюрных фигурок «домовых» из новгородских раскопок — палочек с навершиями в форме мужских голов, и аналогичных западнославянских находок, также относящихся к позднейшему периоду. Из них Волинский идольчик имел четыре лика (Седов, 1982. С. 264). 329 Седов, 1982. С. 26. 330 Седов, 1982. С. 16, 25–26. Расцвет этого искусства связан с древностями мартыновского типа и приходится, вероятно, преимущественно на вторую половину VI–VII вв. 331 Сказания, 1981. С. 102. 332 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 8, 11; 29: 1; 38: 18, 23; Hist. Arc. XVIII. 21; XXIII. 6.: Свод I. С. 180/181, 188/189, 192–195, 202/203, 204/205. 333 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 8.: Свод I. С. 180/181. 334 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 15–16.: Свод I. С. 182/183. Стоит заметить, что установление дружественных отношений между племенами вовсе не влекло за собой освобождения рабов-пленников. Имеются еще данные о выкупе за ромейских пленных: см. Свод I. С. 217 (новелла Юстиниана); ср. еще Marc. Chr. A. 517. 335 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 9–10.: Свод I. С. 180/181. 336 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 17–19.: Свод I. С. 182/183. На практике, как следует из этого же фрагмента, «закон» нарушался, и не так уж редко. 337 ЭССЯ. Вып. 4. С. 189. О сборе дани гуннами, словенами и антами с имперских городов см.: Proc. Hist. Arc. XXIII. 6. О термине «смерд» (с первоначальным уничижительным значением «смердящий») см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. С. 684–685. 338 Ср. в этой связи слова Псевдо-Кесария о подчинении данувиев «всякому», а также о воздержании их от мясной пищи (Свод I. С. 254) — возможно, гипертрофированное восприятие изъятия у них славянами продуктов животноводства? 339 Возможно, именно с этой частью населения связан любопытный славянский диалектизм *kosezъ — ‘косез, свободный общинник-воин’, отмеченный в Средние века в западном южнославянском регионе и заимствованный, вероятно, из алано-сарматского (ЭССЯ. Вып. 12. С. 138–139). Вместе с тем значение термина свидетельствует о полном растворении аланских выходцев в славяноязычной среде. 340 См.: ЭССЯ. Вып. 7. С. 197–198 — объясняется как заимствование их иранского (скифского) gu-pana ‘охраняющий крупный скот’. 341 Ср. латинское происхождение праслав. *ceta ‘монета’ (ЭССЯ. Вып. 3. С. 199). Свидетельства такого обращения есть и у археологии (Федоров — Полевой, 1973. С. 298), и в письменных источниках (особенно: Proc. Bell. Goth. VII. 14: 16 — о покупке раба за большую сумму денег). Отдельные экземпляры монет попадали и дальше на север (ср.: Седов, 1982. С. 16), но роль всеобщего эквивалента, очевидно, здесь уже не играли. См. также Свод I. С. 218. Прим. 57. 342 *kupiti, *kupъ — старые заимствования из германского (ЭССЯ. Вып. 13. С. 109–112, 115), то же *lixva (ЭССЯ. Вып. 15. С. 97–99). Терминология же, связанная с наймом, исконнославянского происхождения; общеславянский характер носят слова *najeti (ЭССЯ. Вып. 22. С. 102–104), *najьmati (Там же. С. 106–108), *najьmъ (С. 110–111), * najьmnъjь с произв. *najьmnikъ, *najьmnica (С. 112–113), *najьmatelь (С. 106). 343 Наиболее яркие пережитки половозрастных групп (молодежных) сохранились у словаков (Народы I. С. 258–259), но были они и у других славянских народов. 344 Журавлев А. Ф. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распространение.// Славянский и балканский фольклор. М., 1978; Агапкина Т. А. Опахивание.// Славянская мифология. 345 См.: Петрухин В. Я. Кузнец.// Славянская мифология. 346 История первобытного общества. Вып. 3. С. 238. 347 См.: МНМ. Т. 2. С. 368 («Рарог»). 348 Славянская мифология. С. 298–299. 349 См.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 2. С. 493 след. 350 См.: Миллер Дж. Короли и сородичи. М., 1984. С. 191–199. 351 Ср. еще пережиточную форму у болгар, перенесенную на ноябрь и февраль: Календарные обычаи 1977. С. 275. Здесь ритуальным угощением одаривались уже не ряженые, а соседи. Обрядность «волчьего месяца» была также связана с задабриванием реального волка с целью защитить от него скот. 352 См.: Пропп 1996. С. 112–145. Здесь отмечены как негативный, так и позитивный для «лесных братьев» варианты развития сюжета. Подобная двойственность оценки воинских братств вообще характерна для сказки и былины, в меньшей степени для преданий о разбойниках (распространенный образ «благородного разбойника» — создание позднейшей эпохи). 353 Характерна (хотя и трудна для анализа ввиду уникальности) сибирская эпическая песня, имеющая и другие восточнославянские аналоги, о попытке отравления Дуная. Имя героя указывает на ее большой архаизм. В былине мать отговаривает героя от поездки в «кабак», но он не слушает ее и едет. «Товарищи» встречают Дуная с радостью, но почему-то тут же подносят ему ядовитое зелье. Дунай, однако, вспомнив совет матери, выливает чару (Русские эпические песни… № 151). Характерно, что в позднейших производных вариантах «товарищей» сменяют разбойники (см. там же, комм. к тексту). Текст отчасти перекликается с одним из эпизодов кавказского нартского эпоса, но там героя предостерегает не мать, а жена, и имеется четкая мотивировка происходящего кровной местью. Здесь мотив действий «товарищей» Дуная определенно другой, — скорее всего, месть за нарушение неких правил их «товарищества». Это явно указывает на линию изоляции от семьи и общины в тайных мужских союзах и их преемниках — воинских братствах. 354 Отголосок в варианте былины о Волхе из сборника Кирши Данилова (КД, № 6). 355 Криничная 1987. С. 176–177. О каннибализме сказочных разбойников см.: Пропп 1996. 356 Криничная 1987. С. 176–177. 357 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 19–22.: Свод I. С. 192–195. 358 Свод I. С. 254. Известие о каннибализме большинство авторов предпочитало отвергать (Cajkanovic B. Ein fruhslawisches Marchenmotiv bei den Byzantinern// Revue internationale des etudes balkaniques. 1. Beogr., 1934; Dujcev I. Le temoignage du Pseudo-Cesarie sur les slaves// Slavia Antiqua. T. 4. Poznan, 1973). Б. Чайканович и далее Ф. Малингудис (см.: Свод I. С. 257) готовы были скорее допустить знакомство греческого автора середины VI столетия со славянским фольклором. Между тем все остальные сведения Псевдо-Кесария о славянах абсолютно достоверны и явно свидетельствуют о том, что он имел в виду именно членов бойнических «волчьих» братств. 359 Особенно в варианте из сборника Кирши Данилова (№ 6). 360 Термин общеславянский (ЭССЯ. Вып. 18. С. 181). 361 Термин общеславянский. Старейшее (и единственное у южных славян) значение — ‘староста’ (ЭССЯ. Вып. 13. С. 196–198). 362 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 22.: Свод I. С. 182/183 — «племена эти, склавины и анты, не управляются [????????] одним человеком, но издревле живут в народовластии [??????????], и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща». 363 Псевдо-Кесарий: Свод I. С. 254 — склавины «живут в строптивости, своенравии, безначалии [?????????????]». Впрочем, в данном случае упоминается не вече, а власть воинов-дружинников над своим предводителем. 364 Так можно охарактеризовать компетенцию веча «всех антов», описываемого Прокопием (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 21–22, 31–34.: Свод I. С. 182–185). Компетенция народного собрания отдельного племени могла быть шире, но не уже. 365 Этнографический аналог древнеславянского веча — черногорская скупщина (см.: Народы I. С. 490). 366 Они упоминаются, например, в Древнейшей «Правде Русской» (ст. 14). 367 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 22.: Свод I. С. 182/183; Свод I. С. 254. 368 Прокопий (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 22.: Свод I. С. 182/183) говорит о полном сходстве внутреннего устройства словенского и антского общества. Менандр (Hist. fr. 6.: Свод I. С. 316/317) упоминает антских «архонтов» в связи с событиями ок. 560 г. 369 Schwabenspiegel. Tubingen, 1840. S. 133–134. Очевидно, однако, что обряд непосредственно в описываемой форме связан уже с периодом наследственной власти герцогов каринтийских, христиан и вассалов «римского императора» (Священной Римской Империи). 370 См.: Криничная 1987. С. 195, 199. 371 См., например, предания о воцарении Ивана Грозного, где встречается этот мотив (конечно, никакого отношения к историческим фактам XVI в. не имеющий): Садовников Д. Народные рассказы про старину.// Русская старина. 1876. № 2. С. 470; Зачиняев А. И. Об эпических преданиях Орловской, Курской и Воронежской губерний.// ИОРЯС АН. 1906. Т. 11, кн. 1. С. 152. В первой из этих версий царем становится тот, у кого загорится намоченная в воде свеча, во второй — тот, перед кем сама загорится лампада. Древнейшая запись относится к XVIII в. (Никифоров А. И. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. Казань, 1922. С. 33 след.). Здесь нет никаких реально-исторических ассоциаций, обряд совершают братья-язычники в капище перед идолами, выбирая «бога и царя» — причем старший брат терпит поражение. 372 Ср.: Криничная 1987. С. 197–198. 373 Ср.: Криничная 1987. С. 203 след. (о магических способностях царя в русских преданиях). 374 Козьма Пражский. Гл. 3 — впрочем, здесь, как и на протяжении всех первых глав хроники Козьмы, сказывается библейское влияние (Чехия — «страна обетованная»; Чех тогда соотносится с Иисусом Навиным, «судья» Крок — с библейскими судьями Израиля). Но князь в качестве судьи предстает и в Законе судном людем (гл. 2 и др.). 375 Норма сохранилась в Винодольском законе (ст. 5). На ее очень древнее происхождение указывает полное отсутствие у кого бы то ни было любых привилегий перед лицом княжеского произвола. Это явно норма не только досословного и дофеодального, но и дохристианского (специально подчеркнуто отсутствие привилегий у священников) периода. 376 См.: Пропп 1996. С. 332–342; Криничная 1987. С. 196–197. 377 Свод I. С. 254 (Псевдо-Кесарий). Ср. там же: С. 258. Прим. 11. 378 Свод I. С. 254. 379 Ср.: Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317. Впрочем, если и толковать в этом ключе упоминание Мезамера в качестве сына Идаризия и брата Келагаста, оно все-таки относится ко времени ок. 560 г. 380 У черногорцев в качестве старейшины племени выступал кнез или воевода, но эти термины считались уже синонимами (Народы I. С. 490). При этом наряду с воеводой выбирался судья (см. ЗОЦБ). 381 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 5.: Свод II. С. 28/29; ср. III. 4: 7; VI. 6: 14.: Свод II. С. 14/15, 18/19. Ср. также известие комита Марцеллина (Marc. Chr. A. 517) — видимо, единственное свидетельство древнего (начало VI в.) употребления этого этнонима применительно к славянам (в том числе антам?), о чем и говорит Феофилакт Симокатта столетие спустя. 382 В праславянском имеется целый ряд заимствований из тюркского. Большинство их носит общеславянский характер и, очевидно, относится к VI–VII вв. Не всегда, однако, можно разграничить «болгарские» и «аварские» заимствования этого периода. Среди заимствований — термины, связанные с сельскохозяйственной деятельностью (*baranъ, *xrenъ), охотой (*korgujь ‘сокол, ястреб’) и др. — см. ЭССЯ. 383 Iord. Rom. 338.: Свод I. С. 127 («булгары, анты и склавины»); Proc. Bell. Goth. VII. 14: 2.: Свод I. С. 180/181 («гунны и анты и склавины»); позднейшая форма «гунны, склавины и анты» у Прокопия: Bell. Goth. V. 27: 2; Hist. arc. XVIII. 20; XXIII. 6 (?): Свод I. С. 176/177, 202–205. 384 Несколько «запаздывает» Иордан. В его трудах, написанных около 550 г., анты как враги Империи стоят впереди словен (Iord. Get. 119; Rom. 338.: Свод I. С. 110/111, 127). Но он явно отражает более раннюю ситуацию, поскольку анты в 550 г. не явллись врагами Империи; «свирепствовали всюду», как сказано в «Гетике», тогда только словене (нашествие 550–551 гг.). 385 Помимо уже приведенного известия Мараши, это еще одно его же сообщение (Дорн. С. 37) — «русы, хазары и славяне» (русы здесь, как и у ряд других авторов, появились в результате неудачного толкования кавказского этнонима «лазы», что явствует из арабского перевода жития св. Григория Просветителя — см. Агатангелос. История Армении. Ереван, 2004. С. 302); известие Ибн Исфендийара (Новосельцев А. П. Восточные источники о славянах и Руси в VI–IX вв.// Новосельцев А. П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 362) — «хазары и славяне». Оба упоминания носят обобщенный географический характер и не связаны непосредственно с какими-либо конкретными фактами славянской истории, хотя и приурочены к событиям истории иранской. То же самое относится и к упоминанию славян у историка XI в. Балами в перечислении народов, покоренных Сасанидами (Новосельцев 1965. С. 362). 386 Посредническую роль болгар при получении славянами сведений о тогдашнем «цивилизованном мире» характеризует, возможно, заимствование у них праславянского слова *kъniga ‘книга’ (заимствованного и самими болгарами в Закавказье — см.: ЭССЯ. Вып. 13. С. 203–204). 387 Как видим, нет существенных доказательств тому, что славяне были так или иначе «втянуты» гуннами в военные действия против Империи (Погодин А. Л. Лекции по славянским древностям. Харьков, 1910. С. 366; Bury I.B. A history of the later Roman Empire. L., 1931. Vol. 2. P. 297; более корректен А. Н. Анфертьев, полагающий, что словен «вовлекли» анты и болгары — Свод I. С. 135). Изредка встречавшийся тезис о том, что жестокости славян в пределах Империи вызваны неким гуннским влиянием, основан на околоисторических мифах о «кротких» земледельцах и «кровожадных» кочевниках и не может приниматься всерьез. Подобные представления о характерах народов мы встречаем в VI в. у Псевдо-Кесария — но он как раз словен полагает образцом свирепости! 388 ЭССЯ. Вып. 8. С. 163. 389 О мифологическом образе реки Дунай у славян см.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Дунай.// Славянская мифология. С. 169–171. 390 К анализу привлекаются, в первую очередь, наиболее полные и одновременно архаичные по содержанию варианты былины — вариант из сборника Кирши Данилова (КД, № 6), ранний западноонежский вариант (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М. — Л., 1950. Т. 2. № 91), мезенский вариант (Беломорские былины, записаные А. Марковым. М., 1901. № 51). Другие 5 вариантов былины значительно уступают названным. Одни чрезвычайно фрагментарны (восточно-онежские варианты — Гильфердинг 1949. Т. 1. № 15; Онежские былины. М., 1948. № 76; печорский вариант — Свод русского фольклора. Былины. Т. 1 (Былины Печоры 1). М., 2001. № 1), другие носят характер вторичных компиляций или личного творчества (Русские эпические песни Карелии. Петрозаводск, 1981. № 5; особенно же вариант известной сказительницы М.С. Крюковой, самый объемный из всех, — Былины М. С. Крюковой. Т. 1. М., 1939. № 39). 391 Здесь и далее без специальных оговорок цитируется вариант КД № 6. 392 Оно сохранилось несколько в иной форме («А и на святой у нас да на Русеюшке/ Да князей-царей не бьют — не казнят,/ А пришлось тебе до смерти лежать») и в восточноонежском варианте (ОБ № 76). 393 Proc. DA. IV. 1: 6–7.: Свод I. С. 206/207. 394 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 28.: Свод I. С. 184/185. 395 Более «реалистично» в позднем западноонежском варианте (РЭПК № 5): «Они завоевали на кажного по девять коровушек». 396 См.: Marc. Chr. A. 512; Io. Mal. Chr. 402.3 — 403.3. 397 Федоров — Полевой, 1973. С. 293–294. 398 Marc. Chr. A. 517.: Свод I. С. 241. 399 Ср.: Stein E. Histoire du Bas-Empire. Paris — Bruxelles — Amsterdam, 1959. Vol. 2. P. 106. Считать этих «гетов» Марцеллина германцами или полугерманцами (ср.: Свод I. С. 241) не представляется вероятным. Что это могло быть за германское племя? Откуда оно взялось в Македонии, в удалении от северо-западной границы? На эти вопросы ответа нет. Л. Нидерле без учета того, что речь шла о «всадниках», имея в виду только известие Феофилакта Симокатты о «гетах»-словенах, увидел в Марцеллиновых «варварах» именно словен («славян»): Нидерле 2000. С. 56, 477 (Прим. 47). 400 Marc. Chr. A. 517. 401 Proc. DA. IV. 7: 13, 17.: Свод I. С. 206/207. Применительно к Адине историк сообщает о «постоянных» засадах, применительно к Улмитону — о засадах «на протяжении времени». Речь явно идет о периоде, еще предшествующем собственному правлению Юстиниана (ср. комментарий к данному известию — Свод I. С. 247, где пребывание славян в Добрудже возводится к временам восстания Виталиана). 402 Более точны по сравнению со Сводом I (с. 203) перевод этой фантастической цифры, обозначающей лишь «очень много»; так переведено в кн.: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. М., 1993 (пер. А.А. Чекаловой). 403 Proc. Hist. arc. XVIII. 20.: Свод I. С. 202/203. В «Тайной истории» Прокопий полагает, что Юстиниан «воспринял власть» уже с началом правления Юстина — см., напр., VI. 26. 404 Если понимать их буквально, то Империя только на Балканах теряла более 200 000 граждан почти каждый год в течение 33 лет с восшествия на престол Юстина до завершения «Тайной истории»: это дает около 7 млн при общей численности населения порядка 20–30! — см.: Становление и развитие раннеклассовых обществ. Л., 1986. С. 144; Большаков О. Г. История Халифата. Т. 1. М., 1989. С. 226; История Европы. Т. 2. С. 37 (все коренное население Балкан оценивается здесь А. Я. Шевеленко на уровне 2 миллионов). Конечно, порабощенных иногда выкупали, но даже с учетом этого заявление Прокопия выглядит несправедливым преувеличением потерь с целью дискредитировать императора. 405 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 29.: Свод I. С. 185/186. 406 Гипотеза О. Н. Трубачева — см.: ЭССЯ. Вып. 8. С. 241 (в связи с опровержением теории А. Брюкнера, К. Цойсса и др. о славянском этнониме «споры» от Spali Плиния; греч. ?????? обозначает ‘потомки’). Сам Прокопий связывает ?????? со ???????? ‘рассеянно’. Таким образом, вопреки Л. А. Гиндину и В. Л. Цымбурскому (Свод I. С. 229–230), утверждающим на этом же основании обратное, Прокопий как раз ясно сознавал, что термин является греческим, и сомневался лишь в его точном значении и происхождении. Не имеет смысла останавливаться на фантастических, хотя и принадлежавших известнейшим специалистам, интерпретациях этнонима, связанных с сербами (только на основании близкого набора согласных?) (П. Шафарик, И. Маркварт) или с асфалами (кочевым племенем, известным Константину Багрянородному в Х в.!) (Г. Вернадский) — см. о них: Свод I. С. 230. 407 Впрочем, и это в «Тайной истории» он исхитряется поставить Юстиниану в вину: никому из «варваров» «не довелось невредимыми удалиться из земли ромеев — ведь и во время вторжений и гораздо больше еще в осадах и схватках, наталкивающихся на часто сопротивление, истреблено было одновременно ничуть не меньше». Так-то, дескать, и они (а не только ромеи) удовлетворяли Юстинианову жажду крови! — делает неожиданный вывод памфлетист (Hist. arc. XVIII. 25–27.: Свод I. С. 204/205; Прокопий 1993. С. 372). 408 Proc. Bell. Goth. VII. 40: 5–7.: Свод I. С. 196/197. Дата события неизвестна (см. там же: С. 242). Ошибочное отнесение в ряде публикаций и исследований (см., например, перевод соответствующего фрагмента BG С.П. Кондратьевым — посл. изд.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996. С. 326) описанных событий к 527 г. основано, как убедительно показывают комментаторы Свода I (С. 240–241), на двойной ошибке в интерпретации. Речь шла не о моменте овладения царством нынешним государем (в 527 г.), а о периоде владения прежним (518–527); следовательно, чтение всех рукописей ????????? (не ???????????, как сочли возможным поправлять издатели начиная с К. Мальтре) совершенно оправдано. Герман же был племянником Юстина, а не Юстиниана (в Iord. Get. 314; Rom. 77, 123, 138 он fratri ‘брат’ Юстиниана; впрочем в Get. 81, 251 он fratruelis, но это может свидетельствовать лишь о неосведомленности автора, исправленной к концу «Гетики» и в «Романе» — если Герман Аниций и племянник Петра Флавия Саббатия Юстиниана, то не по отцу; у Прокопия Герман — ??????? ‘кузен’ Юстиниана, а Юстин — ????? ‘дядя’ Германа). 409 См. карту: Седов, 1982. С. 20. 410 Седов, 1982. С. 30. См. еще: Там же. С. 26. 411 Седов, 1982. С. 12. Дома с четырехскатной крышей и столбом в Бранештах XIII и Одае (С. 22) не вполне соответствуют колочинскому типу, имеющему в центре и очаг. Возможно, здесь, как и на поселении Луг I (С. 22, 24), отражается кочевническое влияние. 412 Седов, 1982. С. 24. 413 Седов, 1982. С. 22, 24. 414 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 21, 31–34.: Свод I. С. 182–187. Почему-то стало почти аксиомой толкование этого эпизода применительно только к небольшой части антов, жившей у устья Дуная. Между тем Прокопий прекрасно знал и о рассеянности антов, и о делении их на «бесчисленные племена», но в данном случае ясно говорит об участии «почти всех антов». И Юстиниан в данном эпизоде явно заключает договор со «всеми антами», во всяком случае ни о каких конкретных конфликтах никаких антов с Империей после 545 г. не упоминается. Тем не менее, и отмечающие это исследователи склонны говорить только о приграничных антах (ср. Дуйчев И. Нападение и заселеване на славяните на Балканския полуостров.// Военноисторически сборник. София, 1977. Т. 26. № 1. С. 73; Иванова О. В., Литаврин Г. Г. Славяне и Византия. С. 46 след.). 415 Proc. Bell. Goth. VIII. 4: 9.: Свод I. С. 200/201. 416 Легенды и паданни. Текст № 97 («Вековечная межа»). 417 См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян// Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. 418 См. формы в ЭССЯ. 419 Гаркави. С. 135–136, 138. 420 О характере летописного «князь Мал» (в статье Начальной летописи и «Повести временных лет» 6453/945 г. — см. ПСРЛ. Т. 1, 2, 3 и др.) как титула свидетельствует произведенное от его женской формы («Мала») название города Малин. Городище Малин относится к IX в. (Седов, 1982. С. 90), то есть основано за столетие до летописного «Мала». Характерно также, что «Мал» отсутствует среди личных имен князей, заключивших в предшествующем (по «Повести временных лет») году договор с Византией. 421 Dvornik F. The making of Central and Eastern Europe. L., 1949. P. 283. 422 Г. В. Вернадский в одной из работ возводит ????????? к осетинскому mysaeg ‘хитрец’ (Vernadsky G. The origins of Russia. Oxf., 1959. P. 82). Часто менявшиеся и спорные построения Г.В. Вернадского обычно вызывают у языковедов сомнения, но в данном случае ни одного более убедительного объяснения для греческой или арабской (явно искаженной) формы не предложено. Значение ‘хитрец’ можно было бы связать с мифом о Радаре, победившем Змея хитростью. 423 Судя по монетной находке; однако это может быть и монета Юстиниана (Седов, 1982. С. 16). 424 Седов, 1982. С. 14. 425 Седов, 1982. С. 14, 16. 426 См. карту: Седов, 1982. С. 13. 427 Назаренко 1993. С. 14/15, 45 (сопоставлены на основе этимологической идеи С. Роспонда о неславянском характере форманта — ol— с волынскими и чешскими лучанами). С учетом локализации луколан скорее на западе отождествление их с уличами-угличами на Нижнем Днепре (Rudnicki M. Geograf Bawarski w oswietleniu jezykoznawczym // Z polskich studiow slawistycznych. Warszawa, 1958. S. 190) кажется неудачным. Совершенно фантастической в контексте конкретных сведений Баварского географа выглядит сейчас высказанная в «Славянских древностях» идея П. Шафарика, искавшего «лукомлян» в окрестностях Витебска, в древней земле полочан. 428 «Повесть временных лет»: «а другие [нареклись] деревлянами, ибо сидели в лесах» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 5). Здесь древляне названы первыми из расселившихся племен после киевских полян. Последним отдал первое место автор летописного введения Нестор — убежденный патриот Киева. У Баварского географа древлянам, по мнению М. Рудницкого (Rudnicki 1958. S. 197), соответствуют в том же перечне восточнославянских племен Forsderen liudi. По мнению целого ряда авторов, здесь соединение славянского или германского liudi и определения, производного от древневерхненемецкого foristari ‘лесной’. Возражения см.: Назаренко 1993. С. 43 (никакой альтернативы автор не предлагает). 429 Гипотеза П. Шафарика, с которой склонен согласиться и А. В. Назаренко (Назаренко 1993. С. 45). 430 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 5. 431 Фасмер. Т. 1. С. 536–537. 432 Более вероятно первое (ср.: ЭССЯ. Вып. 1. С. 192 — однако здесь предполагается скорее иноязычное происхождение основы). 433 Ср.: Витчак К.Т. Из проблематики древних славянских племен. 1. Этноним Fresiti у Баварского географа и его локализация.// Этимология 1989–1990. М., 1993. То же сопоставление, но в более осторожной форме, см.: Назаренко 1993. С. 44. 434 Легенды и паданни. Текст № 95 («Палешуки и полевики»). Здесь две группы первых поселенцев-славян отождествлены с двумя этнографическими группами белорусов. Предание записано в 20-е гг. нашего века и является одним из ярких свидетельств долгого бытования архаического фольклора в белорусской деревне. 435 Во вводной части «Повести временных лет» поляне с очевидностью приходят к Киеву с запада. См. еще: Легенди та перекази. Киев, 1985. С. 94 (предания о происхождении названия Киева — в обоих оно связано с движением по «Руси» в район стоящего на правом, западном берегу Днепра города). 436 Текст «Основание Киева» в кн.: Легенди та перкази. С. 94. Здесь костер из «киев», горевший много дней и давший якобы имя Киеву, зажжен в честь победы над врагом (см. другой вариант там же). 437 «Повесть временных лет», 6402 г. (См. ПСРЛ. Т. 1, 2, 38 и др.). Во вводной части приход полян в Поднепровье упоминается без этимологии их названия. Еще до них, впрочем, названы ляшские поляне. 438 Седов, 1982. С. 112. 439 ПСРЛ. Т. 3 (Новгородская 1 летопись младшего извода), 6362 г. (перевод в изд.: Начальная летопись): «Жили каждый с родом своим по своим местам и странам, владея каждый родом своим». Во вводной части «Повести временных лет» утверждение об «особом» проживании полянских «родов» повторяется рефреном. Но при этом подчеркивается, что название «поляне» (вопреки Начальном летописцу) существовало еще до того, как «роды» сплотились вокруг легендарных основателей Киева. 440 Трубачев О.Н. О племенном названии «уличи».// Вопросы славянского языкознания. М., 1961. Вып. 5; Седов, 1982. С. 130–131. 441 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 5. 442 См. карты: Седов, 1982. С. 20, 31. 443 Седов, 1982. С. 30 (находка жилища колочинского типа). 444 Седов, 1982. С. 29–33, 39–40. 445 Седов, 1982. С. 40. 446 Седов, 1982. С. 39–41. 447 Proc. Bell. Goth. VIII. 4: 8–9.: Свод I. С. 200/201. 448 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 2.: Свод I. С. 180/181. 449 Marc. Chr. A. 530. 450 Proc. DA. IV. 7: 18.: Свод I. С. 206/207. 451 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 1.: Свод I. С. 178/179. Хильбуд был, вероятнее всего, германцем по происхождению. Имя его германское (Struminskyj B. Were the Antes Eastern Slavs?// Harvard Ukrainian Studies. 1979–1980. Vol. 3–4. P. 790–791). Мнение о славянском (антском) происхождении Хильбуда (Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 93; Литаврин Г.Г. О двух Хилбудах Прокопия Кесарийского.// Византийский временник. 1986. Т. 47; Толочко П.П. Древняя Русь. Киев, 1987. С. 15–16) и славянской этимологии его имени (ЭССЯ. Вып. 8. С. 119) основано, по сути, только на совпадении этого имени с именем антского юноши Хильбуда. Б.А. Рыбаков и П.П. Толочко склонялись к отождествлению двух Хильбудов. Между тем из нашего единственного источника — рассказа Прокопия ясно, что ромейский полководец Хильбуд как раз не был антом. Когда ант Хильбуд сообщает выкупившему его как ромейского военачальника анту о своем антском происхождении, это явно становится для господина крайней неожиданностью, более того, разбивает его надежды на то, что перед ним искомое лицо (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 18–20.: Свод I. С. 182/183). Итак, кем бы ни был по происхождению стратиг Хильбуд, Прокопий ясно дает понять одно — антом он точно не был. 452 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 2–3.: Свод I. С. 180/181. 453 Proc. DA. IV. 7: 13, 17.: Свод I. С. 206/207. 454 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 3.: Свод I. С. 180/181. 455 Свод I. С. 260–264. Первое упоминание титула относится к 533 г. Это первый из череды титулов, принятых Юстинианом в честь побед над «варварскими» племенами. 456 Прокопий говорит только о задунайских «варварах» (Bell. Goth. V. 27: 2.: Свод I. С. 176/177), но он, судя по всему, вообще не знал о продолжающемся жительстве славян в Скифии. 457 Отец и сын упоминаются как полководцы во время войны с персами 550-х гг. (Agath. Hist. III. 6: 9; 7: 2; 21: 6, 8; IV. 18: 1, 3.: Свод I. С. 293–296). Время натурализации Дабрагеза устанавливается на основе данных о его сыне (Свод I. С. 308). 458 Proc. Bell. Vand. III. 11: 6 (см. Прокопий 1993); Bell. Goth. V. 24: 18–20; 27: 1–3.: Свод I. С. 174–177. Прокопий говорит о «гуннах, склавинах и антах», но роль словен в этом конном отряде, очевидно, была совсем невелика. Во всяком случае, в 539 г. Валериан говорит командующему Велисарию лишь о «некоторых» словенах в своем отряде (Proc. Bell. Goth. VI. 26.: Свод I. С. 176/177). 459 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 4–6.: Свод I. С. 180/181. 460 Вторжение 535 г.: Marc. Chr. A. 535. Вторжения болгар происходили и позже — в 535, в 540 г. 461 Свод II. С. 63. («Берберы, Анты и остальные племена — что я им сделал?!»). Берберы активизировались в Ливии после 534 г.; о набегах антов на Империю неизвестно после 545 г. Глосса, очевидно, восходит именно к этому временному промежутку, но до того момента, когда в главную угрозу на Балканах превратились словене. 462 Свод I. С. 216–217 (по данным новелл императора Юстиниана). В большинстве случаев с мнением комментаторов, что речь идет о славянских набегах, следует согласиться. 463 Свод II. С. 184 («Луг духовный» — собрание житий солунских святых Иоанна Мосха; жития отшельников св. Давида и св. Адола). Преподобный Давид Солунский скончался ок. 540 г. (день памяти 26 июня). В житие св. Адола известие о набеге «варваров» попало из-за следующего эпизода: «случилось им миновать это место, и один из варваров, увидев старца, который выглядывал [из дупла], выхватил меч и, протянув руку, чтобы ударить его, остался с протянутой и неподвижной рукой». 464 Учитывая невозможность идентификации «варваров» с болгарами, о ходе нашествий которых в этот период мы достаточно осведомлены, считаем возможным отчасти согласиться с мнением В. Тыпковой-Заимовой (Тыпкова-Заимова В. Нападения «варваров» на окрестности Солуни в первой половине VI в.// Византийский временник. 1959. Т. 16) об их славянском происхождении. Вместе с тем, наиболее вероятно, что «варвары», как и напавшие на соседние земли в 517 г. «геты», являлись антами. 465 Видимо, именно так следует понимать туманную фразу Прокопия (Proc. Bell. Goth. VIII. 38: 7–8.: Свод I. С. 192/193). 466 В связи с умением словен захватывать врага из засады (эпизод 539 г., когда силач-словенин из отряда Валериана захватил готского «языка»), Прокопий сообщает: «Вблизи реки Истра, где они обретаются, они постоянно выказывают это в отношении как ромеев, так и других варваров» (Bell. Goth. VI. 26: 19.: Свод I. С. 176/177). 467 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 7.: Свод I. С. 180/181. 468 Proc. Bell. Goth. V. 27: 2; Hist. arc. XVIII. 20; XXIII. 6 (?): Свод I. С. 176/177, 202–205. Ср. еще перечень враждебных племен: «мидийцы, и сарацины, и склавины, и анты» — Proc. Host. arc. XI. 10.: Свод I. С. 202/203. 469 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 11.: Свод I. С. 180/181. 470 Свод I. С. 217 (новелла Юстиниана от 9 мая). 471 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 16.: Свод I. С. 182/183. 472 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 12–36.: Свод I. С. 180–187. 473 Туррис более нигде не упомянут, и местонахождение его совершенно загадочно. Отождествление этого построенного, по словам Прокопия, императором Траяном города с античной Тирой (Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь — М., 2000. С. 187) едва ли вероятно. О других вариантах см.: Bolsacov-Ghimpu A. La localisation de la fortresse Turris// Revue des etudes balcaniques. Beogr, 1969. T. 7, № 4. 474 Надгробие «Хиливудиса, сына Санватия» датируется 7 индикта. Позже под той же плитой похоронена его жена (Свод I. С. 232). Если это ант Хильбуд, то женился он в Константинополе, но неясно, был ли он крещен. 475 Proc. Bell. Goth. VII. 12: 10; 13: 20; 18: 29; 22: 1–6, 20–22; 26: 1–8, 15–28; Marc. Chr. A. 547. 476 Proc. Hist. arc. XVIII. 25; DA. IV. 1: 5.: Свод I. С. 204/205; сюда же можно отнести и фрагмент Псевдо-Кесария (Свод I. С. 254). Словене без антов названы и в перечне задунайских «язычников» из грузинского перевода «Мученичества Орентия и его братьев». Этот перечень включает «скифов» (древнейший, восходящий к началу IV в., когда происходит действие жития, компонент; тогда так называли готов, а в VI в. — болгар), гепидов и мавританов (см.: Свод II. С. 514–516). Попавшие сюда из-за географической неосведомленности автора берберы («мавританы») позволяют отнести перечень ко времени после 534 г., а упоминание гепидов — до 567 г. (падение их королевства). 477 Proc. Bell. Goth. VII. 13: 21–25.: Свод I. С. 178/179. 478 Proc. Bell. Goth. VII. 29: 1–3; VIII. 38: 7–8.: Свод I. С. 188/189; 192/193. 479 Proc. Bell. Goth. VII. 35: 12–22.: Свод I. С. 188–191. 480 Proc. Bell. Goth. VII. 40: 32.: Свод I. С. 196/197. Прокопий, неприязненно относившийся к политике Юстиниана и винивший его во всех бедах страны, не склонен доверять сведениям об интригах Тотилы. 481 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 1–6.: Свод I. С. 190/191. 482 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 7, 19–22.: Свод I. С. 192–195. Прокопий полагает, что «варвары» сжигали тех быков и овец, «которых не могли угнать», но, видимо, он не прав. В обряде «обагрения оружия» уничтожалась просто вся первая добыча. 483 Свод I. С. 254. 484 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 7, 9, 19, 23.: Свод I. С. 192–195. 485 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 9 — 18; DA. IV. 11: 14–15.: Свод I. С. 192/193, 206/207. 486 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 7, 23.: Свод I. С. 192–195. 487 Proc. Bell. Goth. VII. 39: 18–20.: Свод I. С. 194/195. Для вторгшихся чуть позже словен оказалось неожиданностью пребывание Германа в Сардике (Proc. Bell. Goth. VII. 40: 4). Но из контекста следует, что они были осведомлены о факте сбора им войск для похода в Италию. Надо думать, что, перейдя Дунай чуть позднее, они просто не рассчитывали наткнуться на ромейского полководца на своем пути. Чуть ранее говорится, что Герман уже должен был отбывать в Италию, но был задержан как раз словенским вторжением. 488 Proc. Bell. Goth. VII. 40: 1–8.: Свод I. С. 194–197. 489 Proc. Bell. Goth. VII. 40: 30–33.: Свод I. С. 196/197. 490 Proc. Bell. Goth. VII. 40: 34–45.: Свод I. С. 196–199. 491 Proc. Bell. Goth. VII. 38: 23; 40: 45.: Свод I. С. 194/195, 198/199. 492 Proc. Bell. Goth. VIII. 25: 1.: Свод I. С. 200/201. См.: Свод I. С. 245–246. Прим. 207. 493 Proc. Bell. Goth. VIII. 25: 1–6.: Свод I. С. 200/201. 494 Шмидт Е. А.Особенности формирования культуры восточнославянского племени кривичей// Actes du VII Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Praha, 1971; Седов В.В. Длинные курганы кривичей. М., 1974. Ряд исследователей считал создателей длинных курганов западными финнами: Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. М., 1968. С. 91 след.; Лаул С.К. Об этнической принадлежности курганов юго-восточной Эстонии// Известия АН ЭССР. Общественные науки. № 3. 1971; Булкин В.А., Дубов Н.В., Лебедев Г.С. Археологические памятники Древней Руси IX–XI вв. Л., 1978. С. 21 след. Контраргументацию см.: Седов, 1974. С. 36–41; Седов, 1982. С. 54–56. Совпадение ареала длинных курганов с регионом расселения кривичей само по себе делает маловероятной разноэтничность культуры (скажем, отнесение курганов Псковской земли «чуди», а смоленско-полоцких восточным балтам). Единственным известным общим этническим компонентом на этой территории являлись именно славяне-кривичи. 495 Седов, 2002. С. 359. 496 Приводилась лингвистическая аргументация, указывающая на близость древнепсковского диалекта к западнославянским языкам (Мжельская О.С. О лексических связях польских говоров с западными славянскими языками.// Вестник ЛГУ. 1963. № 14. Серия истории, языка и литературы. Вып. 3; Смолицкая Г.П. Некоторые лексические ареалы. По данным гидронимии.// Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974; см. еще: Славянские языки 2005. С. 20). Это может указывать на исход из западного, пшеворского ареала. 497 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 5. 498 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 10 (ср.: Т. 38. С. 13); Т. 2. Стб. 8. 499 Устюжский свод, отражающий Смоленскую летопись: ПСРЛ. Т. 37. 6371 г. (известие о том, что Изборск «был в Кривичах больший город»); Седов, 1982. С. 46 след. 500 Седов, 1982. С. 40. 501 Седов, 1982. С. 40. 502 Седов, 1982. С. 36, 40. 503 Седов, 1982. С. 36, 40 (угловые печи-каменки в наземных домах наряду с центровыми очагами в других; до трети строений — славянские полуземлянки). 504 Седов, 1982. С. 40. 505 Седов, 1982. С. 56. 506 Седов, 1982. С. 58. 507 Курганы Жеребятино, Светлые Вешки, Арнико (Седов, 1982. С. 51, 85), Линдора (С. 52). 508 В Замошье найдено захоронение по архаичному, предшествовавшему длинным курганам обряду (Седов, 1982. С. 53). То же в Варшавском Шлюзе (Седов 1995. С. 213; о радиоуглеродной дате здешнего поселения сказано выше). Радиоуглеродная дата кургана из Усть-Белой — 490 ± 30 (Седов, 1995. С. 214). 509 Судя по характеру жилищ и вещевых находок (см.: Седов, 1982. С. 57). 510 Седов, 1982. С. 50–51, 54–55. 511 См.: Седов, 1982. С. 53; Этнография восточных славян. С. 22. 512 См.: Славянская мифология. С. 326 («Прове»); ср.: С. 234 («Крив»). 513 Легенды и паданни. Текст № 94. 514 Романов Е.Р. Белорусский сборник. Витбеск, 1891. Вып. 4. Текст № 33. 515 Легенды и паданни. Текст № 294. 516 Миллер В.Ф. По поводу одного литовского предания// Древности. Труды Московского археологического общества. 1880. Т. 8. 517 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Havniae, 1837. P. 126–132. источником для Саксона послужил, очевидно, кто-то из окружения Софии Русской — минской княжны, ставшей королевой Дании в третьей четверти XII в. 518 Керамика и вещи прибалтийско-финского происхождения обнаружены в большом числе не только на Псковском городище, но в погребениях в длинных курганах: Седов, 1982. С. 50–51, 57. Балтское влияние проявляется, прежде всего, в находках тушемлинской посуды в славянских домах, изредка в длинных курганах (Седов, 1982. С. 40, 51, 57–58). 519 Седов, 1982. С. 40, 50–51, 55, 57. 520 Седов, 1982. С. 40, 57–58. 521 Седов, 1982. С. 51, 237, 275. 522 Седов, 1982. С. 40. 523 Седов, 1982. С. 46. 524 Ср.: Седов, 1982. С. 53; Носов Е.Н. К вопросу о сложении погребального обряда длинных курганов.// Краткие сообщения Института археологии. Вып. 179. 1984. 525 Седов, 1982. С. 50. 526 Седов, 1982. С. 49–50; Седов 1995. С. 217. 527 Седов, 1982. С. 50, 243. 528 Iord. Get. 119: Свод I. С. 110/111. Недвусмысленность показаний Иордана признает в данном случае и А. Н. Анфертьев, скептически относящийся к славянству венедов (Свод I. С. 154. Прим. 201 — см. там же дополнение Л.А. Гиндина и Ф.В. Шелова-Коведяева, которые, кажется, склонны видеть в венедах Иордана, в отличие от венедов античных авторов, некую историческую реальность). В. Д. Королюк («Вместо городов у них болота и леса…»// Вопросы истории. 1973. № 12) предлагал считать текст Иордана туманным, а по сути, сообщающим и здесь (как в Get. 34) лишь о том, что от венедов произошли словене и анты. 529 См.: Die Slawen in Deutschland. Berlin, 1973. S. 21. 530 См.: Кухаренко, 1969. С. 128; Седов, 1982. С. 10. 531 См.: Седов, 1982. С. 7–8. 532 Кухаренко, 1969. С. 121. 533 Седов, 1995. С. 46; Седов, 2002. С. 328–329. 534 Proc. Bell. Goth. VIII. 25: 10.: Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1. М., 1991. (далее — Свод I). С. 202/203. 535 Proc. Bell. Goth. VIII. 25: 6–9.: Свод I. С. 200–203. 536 Proc. Bell. Goth. VIII. 25: 10.: Свод I. С. 202/203. 537 Proc. Bell. Goth. VIII. 25. 10 etc. 538 Proc. DAI. IV. 6: 35.: Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2 (далее — Свод II). М., 1995. С. 59. 539 Agath. Hist. IV. 20: 4.: Свод I. С. 296/297. Сваруна метким броском копья разбил «черепаху» (боевое прикрытие) кавказских «варваров»-мисимиян. 540 Agath. Hist. III. 6: 9; 7: 2; 21: 6, 8; IV. 18: 1, 3: Свод I. С. 294–297. 541 Proc. DA. IV. 1: 7.: Свод I. С. 206/207. 542 Седов В.В. Славяне в раннее средневековье. М., 1995. С. 26 (карта). 543 Б. Графенауэр датирует появление славян в нынешней Словении временем около 550 г. (Grafenauer B. Zgodovina slovenskego naroda. Zv. 1. Lubljana, 1978. S. 282–285). 544 Свод I. С. 358. Это известие долго фигурировало в отечественной традиции как древнейшее упоминание славян. Причина — ошибка В.В. Латышева и А.В. Мишулина, которые приписали эпитафию поэту конца V в. Авиту (см.: Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Вып. 2. СПб., 1906. С. 294; Мишулин А.В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э.// Вестник древней истории. 1941. № 1. С. 231). 545 См.: Свод I. С. 358–360. Поэтому едва ли можно согласиться с допущением комментатора фрагмента С.А. Иванова (см.: Иванов С.А. Мартин из Браги и славяне// Славяне и их соседи. М., 1989) об упоминании Мартином славян как риторической формуле. Даже заимствованные у панегириста V в. Сидония Апполинария условно-риторические обозначения варваров имеют у Мартина реальные соответствия. «Паннонец» — без сомнения, лангобард, «Сармат» — болгарин, «Дак» — гепид. Соответственно, в перечень Сидония Мартин добавляет лишь те племена, которым не нашел соответствий — «нара», «склав», «дан». 546 Седов, 1995. С. 274–277. 547 Седов, 1995. С. 8, 26 (карта). Это, видимо, наиболее древние следы присутствия славян в Паннонии. 548 Седов, 1995. С. 29, 129. 549 Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317. 550 Мнение о наследственном характере власти Мезамера высказал А. Авенариус (Avenarius A. Die Awaren in Europa. Bratislava, 1974. S. 55). К этому следует добавить, что упоминание брата здесь важнее упоминания отца. Не исключено, что Идаризий в глазах Менандра был примечателен лишь как отец Мезамера и Келагаста. Более того, не исключено, что само имя ????????? — не более чем передача славянского патронима на «-icь» (Шафарик П. Славянские древности. Т. 2. М., 1840. С. 92). Интерпретации этого имени не дали положительного результата. Не исключено, что основа предполагаемого «отчества» иноязычная. Но она неизвестна. Широко распространилась теория М. Морошкина (Славянский именослов. СПб., 1867), согласно которой следует реконструировать *Vitoricь (от югославянского имени Vitorъ). Вторая по популярности (вошедшая, в частности, в советскую учебную литературу) — гипотеза С. Роспонда. Он предложил (Slowianskie imiona w zrodlach antycznych// Lingua Poznanensis. 1968. № 12–13. P. 107) реконструкцию *Idaricь. Но имя Idarъ (I+darъ? Jь+darъ?) неизвестно и неясно по смыслу. В «древнерусском» именослове, к которому его отнес автор гипотезы, оно незафиксировано. И.А. Левинская и С.Р. Тохтасьев, критикуя теорию М. Морошкина («для передачи иноязычного vi-/wi— как ? — в позднеантичное и ранневизантийское время нам известны лишь единичные примеры»), приходят к выводу, что «имя выглядит явно неславянским» и тут же признают, что «ничего сколько-нибудь близкого» в языках сопредельных народов нет (Свод I. С. 333–334). Почему в таком случае нельзя признать имя одним из «единичных примеров»? Что касается имен братьев Мезамера и Келагаста, то они скорее славянские. «Келагаст» имеет архаичную форму, что может отражать особенности антского диалекта и, возможно, соответствует славянскому *Celogostъ. Ср.: Свод I. С. 333, где такая возможность предлагается и тут же отвергается на том основании, что имя «у славян неизвестно», после чего немедленно приводится несколько примеров использования формата Cel- в именах. «Мезамер» довольно убедительно реконструировано С. Роспондом как *Medji+mirъ (Роспонд С. Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов.// Вопросы языкознания. 1965. № 3. С. 7). Эта этимология принята в Этимологическом словаре славянских языков (ЭССЯ. Вып. 18. М., 1993. С. 49). Возражение И. А. Левинской и С.Р. Тохтасьева не выглядит убедительно: «По поводу этих этимологий достаточно отметить, что все предложенные славянские прототипы… реально у славян не засвидетельствованы» (Свод I. С. 329). Для VI в. этого совершенно недостаточно — известны десятки однократно фиксированных славянских антропонимов и для более позднего времени. Мы не можем считать, что по сравнительно небольшому числу источников раннего средневековья восстановили славянский ономастикон целиком. 551 Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317. 552 У Менандра — ??????????, ???????? (Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321). Об этимологии см.: Свод I. C. 349–350. Высказывалось предположение о том, что это усеченная форма какого-то княжеского имени на Добр-. 553 Присоединяюсь к интерпретации «игемонов» Менандра как племенных вождей у О.В. Ивановой и Г.Г. Литаврина (Славяне и Византия.// Раннефеодальные государства на Балканах. М., 1985. С. 49–50). В то же время авторы неоправданно, как представляется, отделяют «игемонов» от «управителей» («тех, кто возглавлял народ»). Из контекста фрагмента кажется совершенно очевидным, что речь идет об одних и тех же людях. Справедливо оспаривая гипотезу О.В. Ивановой и Г.Г. Литаврина, И.А. Левинская и С.Р. Тохтасьев предлагают в то же время считать игемонов «старейшинами», «представителями племенной верхушки» (Свод I. С. 348–349). Но у Псевдо-Кесария понятия «архонт» и «игемон» применительно к славянам — синонимы (Свод I. С. 254). Нет оснований считать, что ко времени Менандра и в его труде что-то изменилось. Итак, думается, что О.В. Иванова и Г.Г. Литаврин были абсолютно правы, рассматривая Добряту как вождя племенного союза, где каждое племя «имело своего архонта» (Иванова — Литаврин 1985. С. 49). 554 Maur. Strat. XI. 4: 30.: Свод I. С. 374/375. 555 Именник на българските ханове. София, 1981. С. 11–12. На сегодняшний день это лучшее научное издание «Именника», хотя с конъюнктурами И. Богданова не всегда можно соглашаться. Из отечественных исследователей второй половины ХХ в. «Именником» занимался М.Н. Тихомиров. Его работа «Именник болгарских ханов» (последнее издание в кн.: Тихомиров М.Н. Исторические связи России с Византией и славянскими странами. М., 1969) обозначила целый этап в изучении памятника. Но при всех своих несомненных достоинствах сейчас она уже несколько устарела. Перевод на современный русский язык Д. Полывянного (Родник златоструйный. М., 1990. С. 176–177) преследовал чисто литературные цели и потому отчасти волен. Он издавался, конечно, без оригинального церковнославянского текста, снабжен крайне скупым комментарием и содержит частные ошибки. К слову, этими недостатками грешат и многие литературные переводы (а по сути — реконструкции и интерпретации) на современный болгарский. Перевод И. Богданова (Именник 1981. С. 16–17) фактически является реконструкцией первоначального вида и смысла памятника в видении самого ученого — но это ясно оговорено, и перевод, как и текст, снабжен подробным обосновывающим комментарием. 556 В XIX в. славянские имена в «Именнике» и ряд других, менее значимых известий (например, из труда по славянской истории дубровницкого автора XVI в. Мавро Орбини) стали основой для построения «антитуркистских» теорий в болгарской историографии. «Антитуркизм» являлся в большей степени порождением политики, а не науки, выражая отторжение всего турецкого и тюркского в молодом Болгарском государстве. «Антитуркисты» отрицали тюркское происхождение древних болгар (булгар), рассматривая их как славян или «ариев». «Антитуркизм» нашел поддержку и у некоторых русских ученых панславистского направления (прежде всего, Д.И. Иловайского в труде «Разыскания о начале Руси», где и гуннов предлагалось считать славянами). Собственно, первым «антитуркистскую» концепцию и сформулировал русский историк первой половины XIX в. Ю. Венелин («Древние и нынешние болгары»), доказывавший, что все гуннские племена античных авторов — славяне. В русской науке убедительное аргументы против славянства европейских кочевников дал В. Васильевский («О мнимом славянстве гуннов, болгар и роксолан», 1882–1883). В ХХ в. накопление археологических материалов, новые достижения в изучении письменных источников поставили точку в споре «туркистов» и «антитуркистов». Огромную роль здесь сыграл обобщающий труд В. Златарского «История Болгарского государства в средние века» (1918 г.), не потерявший значения до сих пор. Некоторый подъем «арийская» теория происхождения болгар пережила лишь в начале 40-х гг., в пору политического сближения с нацистской Германией. В значительной степени преодолению «антитуркистских» заблуждений способствовало сотрудничество болгарских и советских ученых в послевоенный период. Ни у кого из ведущих специалистов по болгарской истории ныне не вызывают сомнения тюркские корни болгар. См.: Ангелов Д. Образуване на българската народност. София, 1971; Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2001. С. 192 след.; Петров П. Образуване на българската държава. София, 1981. Имена Гостуна и Безмера легко объяснить болгарско-славянскими контактами. Что касается упомянутого известия М. Орбини, то его происхождение (при очевидной легендарности) ясно установлено. Предки болгар в его версии, братья «Вукич» и «Драгич» — на самом деле братья Утигур и Кутригур из гуннской легенды, приводимой Прокопием Кесарийским. Дубровницкий историк в духе многих своих современников вольно интерпретировал древнего автора. Эволюция легенды прослежена И. Богдановым в связи с изучением «Именника болгарских ханов» в кн.: Именник 1981. Итак, «протоболгары», вне всякого сомнения, являлись тюркоязычными «гуннами» по происхождению. Вместе с тем столь же очевидно, что в болгарских ордах присутствовали разноплеменные элементы. Болгары неразрывно смешались в европейских степях с аланами, задолго до переселения на Дунай испытывали воздействие славян, местами переходили к оседлому образу жизни. Безотносительно к происхождению племенного названия, династий, аристократии и первого болгарского государства в целом, предками современного болгарского народа и создателями его культуры являются, прежде всего, словене и анты Подунавья. 557 Agath. Hist. V. 11. (здесь и далее см. последнее издание перевода М.В. Левченко: Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. М., 1996. С. 184 след.). 558 Слишком усложнено, как представляется, толкование начала 6 фрагмента Менандра («архонты антов были поставлены в бедственное положение и против своих надежд впали в несчастье…» — см. Свод I. С. 316/317), у О.В. Ивановой и Г.Г. Литаврина (1985. С. 52; Свод I. C. 270). По их мнению, анты все же воевали с кутригурами и потерпели поражение. Но в указанном фрагменте речь лишь о войне с аварами — ср. Свод I. С. 328 (Прим. 13). Даже если принять отождествление Котрагира из менандрова фрагмента с Заберганом (Marquart I. Die Chronologie der altturkischen Inschriften. Leipzig, 1889. S. 78; Marquart I. Osteuropaische und Ostasiatische Streifzuge. Leipzig, 1903. S. 147, 504), не вижу достаточных оснований связывать его враждебность к антам с событиями 558–559 гг. Сам факт длительного союза антов с Империей был бы для этого вполне достаточен. М.И. Артамонов, напротив, полагал, что нападения кутригур на Империю после 545 г. «стали возможными только с согласия и при участии антов» (Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 130). Но ни об одном болгарском набеге совместно с антами в источниках данных нет. Забергану в 559 г. напрямую помогали словене, а не анты. 559 Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321. Фраза («их же собственная земля каким-либо другим из народов — никоим образом [не опустошалась]»), конечно, является преувеличением. Менандр, вероятно, знал о походах Хильбуда (Свод I. С. 352. Прим. 72.2). Но Хильбуд погиб до рождения Менандра и задолго до прихода в Европу аварского кагана Баяна, мысли которого историк излагает. Если бы дунайские земли словен подверглись нашествию болгар на описываемом самим Менандром отрезке времени, эта фраза выглядела бы просто нелепо. 560 Agath. Hist. V. 13–14.: Агафий 1996. С. 187–188. 561 Agath. Hist. V. 11.: Агафий 1996. С. 185; Свод I. C. 268 (Малала), 269 (Виктор Тонненский), 287 (Иоанн Эфесский у Бар-Эбрея); Свод II. C. 253 (Феофан). 562 Agath. Hist. V. 12; 24.: Агафий 1996. С. 185, 204–205. 563 Комментарий Г. Г. Литаврина к тексту Малалы (Свод I. C. 271–272). 564 Agath. Hist. V. 11–12.: Агафий 1996. С. 184–185. 565 Agath. Hist. V. 23.: Агафий, 1996. С. 204; Свод I. C. 268 (Малала), 269 (Виктор Тонненский; он считает — ошибочно — что Сергия «тут же растерзали»); Свод II. C. 253 (Феофан). 566 Свод I. C. 268 (Малала); Свод II. C. 253 (Феофан). 567 Agath. Hist. V. 13.: Агафий, 1996. С. 187; Свод I. C. 268 (Малала), 287 (Иоанн Эфесский); Свод II. C. 253 (Феофан). 568 Agath. Hist. 14–15.: Агафий, 1996. С. 189–191. 569 Об этом сообщает только Феофан (Свод II. С. 253). Конечно, нельзя отождествить эту неудачную битву с описанной Агафием победой Велисария, хотя Феофан и сообщает о последней крайне нечетко. 570 Агафий называет ставку Забергана близ Мелантиады (около 25 км от столицы) (Agath. Hist. 14.: Агафий 1996. С. 189). По Малале, «гунны и склавы» «совершили набег вплоть до Святого Стратоника» (около 15 км) (Свод I. С. 268). Согласно же Феофану, туда болгары отошли позже, отогнанные Велисарием. Виктор Тонненский утверждает, будто болгары «дошли до Константинополя у Сик» (Там же. С. 269). Скорее всего, это всего лишь преувеличение, основанное на дошедших в Африку слухах — такое же, как «растерзание» выкупленного позже живым и невредимым Сергия. Агафий сообщает о тревоге в пригороде Сиках (будущая Галата, отделенная от Константинополя лишь узким проливом Золотой Рог) и выставлении там усиленной стражи — но не более того (Agath. Hist. V. 15.: Агафий, 1996. С. 190). Феофан пишет: «захватили вплоть до Дрипии и Нимф и до деревни Хит» (Свод II. С. 253). Из этих пунктов более или менее точно размещена на карте лишь Дрипия (15 км от Константинополя — см.: Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения. М., 1980. С. 83. Прим. 107). «Деревня Хит» — возможно, лишь умозаключение Феофана. В Хите (Хеттах), согласно ему и Агафию (Agath. Hist. V. 16: 1.: Агафий 1996. С. 191), затем стоял станом Велисарий. Поблизости произошла его решающая битва с болгарами. 571 Свод I. С. 287. «Третий раз» — очевидно, «набег вплоть до Святого Стратоника», о котором говорит Малала. Он был совершен, по Феофану, уже после поражения, нанесенного Велисарием. 572 Agath. Hist. V. 16.: Агафий, 1996. С. 191–192. Свод II. С. 196 (Феофан). 573 Агафий говорит, что «толпа» вселяла панику в гуннов «криком и стуком кольев», а «поднимающаяся вверх пыль мешала установить численность нападавших» (Agath. Hist. V. 19.: Агафий, 1996. С. 197). Феофан объясняет происхождение «пыли»: «Приказал он (Велисарий) также рубить деревья и волочить их позади строя. И поднялась от ветра сильная пыль и простерлась над варварами» (Свод II. C. 253). 574 Наиболее подробное описание победы у Агафия (Agath. Hist. V. 19–20.: Агафий 1996. С. 196–198). В той же тональности, но короче, говорят о действиях Велисария Виктор Тонненский (Свод I. С. 269), Иоанн Эфесский (Свод I. С. 287). У последнего имя Велисария не упомянуто, зато успех явно преувеличен: «Потом ромеи набрали войско против них, и пошли, опустошая и воюя против них всех: мало было тех, которые спаслись, и не стало их видно в этом месте». Возможно, Иоанн Эфесский смешал победу Велисария с позднейшим нападением Сандилха, к которому больше подходит определение «опустошая и воюя». Разительный контраст представляют известия Малалы, вообще не говорящего ни о каких ромейских успехах (Свод I. С. 268) и Феофана, описывающего действия Велисария следующим образом: «Он разбил лагерь и начал хватать некоторых из них и убивать. Приказал он также рубить деревья и волочить их позади строя. И поднялась от ветра сильная пыль и простерлась над варварами. Они же, полагая, что воинство велико, бежали и пришли в район Святого Стратоника» (Свод II. С. 253). Вероятно, здесь отразилась тенденция придворных кругов преуменьшить успех впавшего вскоре в опалу Велисария. Феофан пользовался, вероятно, константинопольской городской хроникой и «Хроникой» Малалы, либо Менандром и Малалой. С другой стороны, и Агафий мог преувеличить значение стычки между Заберганом и Велисарием. Далее он с очевидностью искажает некоторые факты. Так, он полагает, что победа Велисария имела решающее значение, и гунны не перестали отступать даже после его отзыва («отступали уже медленнее» — Агафий, 1996. С. 199). На самом же деле они, по сути, вновь подошли к Константинополю, но с другого направления. Агафий к тому же утверждает, будто гунны «выбрались» за Длинные Стены сразу после поражения. Но это, по Феофану, совершенно не соответствует действительности. 575 Agath. Hist. V. 20.: Агафий 1996. С. 198–199. 576 Последовательность событий дана у Феофана (Свод II. C. 253). О «набеге до Святого Стратоника» говорит и Малала (Свод I. С. 268). По Иоанну Эфесскому, правда, получается, что «третий раз» был до победы ромейского войска (Там же. С. 287). Агафий приписал Велисарию изгнание «варваров» за Длинные Стены (Agath. Hist. V. 20.: Агафий, 1996. С. 199), а Виктор Тонненский — прямо за Дунай (Свод I. C. 269). 577 Все это описывает в деталях лишь Феофан (Свод II. С. 253). 578 Agath. Hist. V. 21.: Агафий, 1996. С. 199–200. Действия у Херсонеса описывает только этот автор. 579 Строительство плотов из сухого тростника возможно, по замечанию Г.Г. Литаврина, в этом месяце (Свод I. С. 269). В августе гунны очевидно, уже вернулись с Херсонеса. 580 Agath. Hist. V. 21.: Агафий, 1996. С. 200–201. Феодор Синкелл в VII в. связывал овладение славян мореплаванием именно с «участием в нападениях на ромейскую державу» (Свод II. С. 84/85). Здесь перед нами первый подобный случай. 581 Agath. Hist. V. 22.: Агафий, 1996. С. 201–202. 582 Agath. Hist. V. 23.: Агафий, 1996. С. 202–203. 583 Agath. Hist. V. 23–24.: Агафий, 1996. С. 203–204; Свод II. С. 253 (Феофан). В рукописях «Хронографии» Феофана посланец императора — куропалат Юстиниан (Свод II. С. 292. Прим. 46). Племянник Юстиниан у императора действительно был, но должность куропалата занимал будущий преемник — Юстин II. 584 Agath. Hist. V. 23.: Агафий, 1996. С. 203, 204. Таким образом, не соответствуют действительности сведения Исидора Киевского (XV в.) о взятии Коринфа «оногурами» (вместо кутригур) и вызванном этим бегстве жителей Пелопоннеса. В средневековой греческой легенде явно смешались воспоминания о двух паниках в Южной Ахайе — панике, вызванной нашествием кутригур в 559 г. и гораздо более обоснованной панике, вызванной аваро-славянскими нашествиями 580-х гг. В ходе одного из них, как будет показано далее, и пал в действительности Коринф. Патриарх Николай III (XI в.) относил описанные позже в петиции Исидора события к концу 580-х гг. Ср.: Свод II. С. 337–338. 585 Агафий (Agath. V. 24–25.: Агафий, 1996. С. 204–205), эмоционально сгущая краски, утверждает, будто для уговоров хватило одного письма, и Сандилх «в тот же день бросился мстить кутригурам». Более достоверно выглядит версия Менандра, согласно которому Юстиниан «оказывал давление на Сандилха… и все не переставал убеждать его, отправляя частые посольства». В итоге он посулил Сандилху выплаты, уже назначенные Забергану (Men. Hist. Fr. 3.: Свод I. С. 316/317). Переговоры тянулись достаточно долго, чтобы медленно, по признанию Агафия, продвигавшийся Заберган ушел из Фракии за Дунай (Agath. Hist. V. 25.: Агафий, 1996. С. 206) или даже «оказался где-то далеко от ромейской державы» (Men. Fr. 3.: Свод I. С. 316/317). 586 Agath. Hist. 25.: Агафий,1996. С. 206. 587 История авар до создания европейского каганата рассматривалась многими исследователями. См., прежде всего: Avenarus A. Die Awaren in Europa. Bratislava, 1974; Szadeczky-Kardoss S. Avarica. Uber die Awarengeschichte und ihre Quellen. Szeged, 1986; на русском языке имеются сравнительно небольшие разделы в обобщающих трудах (Артамонов 2002. С. 122 след.; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. С. 36–39). Уделил место ранней истории авар Г.В. Вернадский (Вернадский Г.В. Древняя Русь. Тверь — М., 2000. С. 192 след.). 588 Единственный наш источник об этой войне — Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317. 589 Proc. Bell. Goth. VIII. 4.: Свод I. С. 200/201. 590 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 591 Men. Hist. Fr. 6.: Свод I. С. 316/317. С этих слов начинается фрагмент. 592 См.: Свод I. С. 337. Прим. 20. 593 Гипотеза И. Маркварта (Marquart 1889. S. 78; Marquart 1903. S. 147, 504). Поддержана Г.В. Вернадским (Вернадский, 2000. С. 194–195), В. Златарским (Златарски В. История на Българската държава през средните векове. Т. 1. Ч. 1. София, 1970. С. 118) и др. Мнение о том, что кутригуры «натравили» авар на антов, высказал М.И. Артамонов (Артамонов, 2002. С. 130). Г.В. Вернадский на неясных основаниях предполагал, что обида Забергана на антов объяснялась отказом в помощи ему при аварском завоевании. 594 См., например: Szadeczky-Kardoss, 1986. S. 63–64; Свод I. С. 327. Ошибочно было мнение И. Маркварта, противоречащее Агафию Миринейскому, о войне авар с утигурами и антами еще в 558 г. (Marquart 1889. S. 78). Тем не менее, именно оно легло в основу изложения у Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1993. С. 37–38). С другой стороны, Л.Н. Гумилев, в отличие от целого ряда других ученых, справедливо оценивал действия авар против антов как враждебные и Византии. В целом бесспорная датировка и оценка событий была дана в отечественной литературе у М.И. Артамонова (Артамонов, 2002. С. 130). 595 Победа авар для большинства исследователей была очевидна (ср.: Нидерле Л. Славянские древности. М., 2001. С. 152, 156; Артамонов, 2002. С. 130; Гумилев, 1993. С. 38; Гимбутас М. Славяне. М., 2003. С. 123–124). Правда, утверждение Л.Н. Гумилева о «полностью подчинившихся аварскому хану» антах вызывает серьезные сомнения. Л. Нидерле в свое время справедливо указал на тот несомненный факт, что после ухода авар «в Венгрию» анты выступают как независимое и враждебное им племя. Г.Г. Литаврин разделил взвешенный и осторожный подход Л. Нидерле, оценивая кампанию как успешную для авар и вместе с тем сомневаясь в «полном разгроме» и «длительном упадке» антов (Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2001. С. 560–561). Оригинальна, но не подкреплена никакими отсылками к источникам трактовка Г.В. Вернадского. На неизвестных основаниях он утверждал, что «анты вскоре оправились от первого потрясения и какое-то время оказывали упорное сопротивление», более того — беспокоили авар с тыла (Вернадский, 2000. С. 195). Некое косвенное свидетельство успеха авар можно найти в словах Евагрия: авары «прибыли на Боспор и, оставив побережье Понта, называемого Евксинским, — там было много варварских народов… — совершали путь, сражаясь со всеми встречающимися варварами, до тех пор, пока не достигли берега Истра, и отправили посольство к Юстиниану» (Euagr. Hist. Eccl. V. 1.: Свод I. С. 340. Прим. 29). Еще одно свидетельство — похвальба аварских послов перед Юстином II (Men. Hist. Fr. 14.: Свод I. С. 318/319). 596 В. В. Седов связывал миграцию хорватов с аварским нашествием «около 560 г.» (Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 125). В этом он следовал Л. Нидерле (Нидерле 2001. С. 169). Впрочем, нельзя не отметить, что все построение Л. Нидерле основано на ошибочной идее раннего (не позднее V в.) обособления южнославянских языков от общеславянского. Отсюда идея о хорватском племенном союзе («южнославянском»), существовавшем до VI в. в Прикарпатье. С другой стороны, вытеснение хорватов на запад именно аварами выглядит более чем убедительно. Но не менее вероятно, что это произошло чуть позже, во время движения авар северным путем в Паннонию. С этим связывал покорение не только хорватов, но и дулебов, Г.В. Вернадский (Вернадский, 2000. С. 195–196). 597 ЭССЯ. Вып. 29. М., 2002. С. 128. 598 ЭССЯ. Вып. 8. М., 1981. С. 240–242. 599 Это вторжение описывает Феофан (Чичуров, 1980. С. 53). 600 О западных тюрках в Центральной Азии и Европе см.: Артамонов 2002. С. 152 след; Гумилев, 1993. С. 33 след. 601 Единственный источник — Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321. События здесь описаны в ретроспективе, в связи с аваро-словенской войной 578 г. Поэтому датировать их можно весьма условно — примерным временем первого контакта со словенами, ок. 560–562 гг. Такая датировка была принята О. В. Ивановой и Г.Г. Литавриным (1985. С. 49–50). Для И. А. Левинской и С.Р. Тохтасьева это нижняя хронологическая граница события (Свод I. С. 351. Прим. 70). Относить его ко времени после 565 г., когда авары уже двинулись в Паннонию, едва ли следует. А. Авенариус (1974. S. 87), П. Петров (Образуване на българската държава. София, 1981) и в позднейшей работе Г.Г. Литаврин (2001. С. 562–563), однако, опровергают раннюю датировку. На выглядящей убедительно аргументации сторонников поздней даты имеет смысл остановиться подробнее. По мнению Г.Г. Литаврина, «славяне левобережья нижнего Дуная к 579 г. длительное время не подвергались разорению со стороны других народов. Дело в том, что применительно к 560–565 гг. этого сказать было бы невозможно: со времени вторжения в 558–559 гг. в нижнее левобережье полчищ кутригуров Забергана, а затем утигуров Сандилха прошло всего несколько лет». Этот аргумент имел бы гораздо больше оснований, если бы имелись прямые свидетельства нападения Забергана или Сандилха на словенскую страну. Однако в этом случае свидетельство Менандра, на которое ссылается здесь исследователь, просто было бы недостоверно — ведь Менандр говорит о том, что земля словен не разорялась вообще никогда, «никоим образом». Второй аргумент: «Представляется… невероятным, чтобы аварские полчища, разбившие антов и вобравшие в себя множество подчинившихся хану кутригуров, не были бы брошены им против славян». Этот факт, как покажем, вполне может быть объяснен в рамках ранней датировки. В том же, что Баян узнал о гибели посольства «со стороны», конечно, нет ничего удивительного — ведь из послов не уцелел никто, а словене едва ли стали бы извещать об этом кагана. А. Авенариус и П. Петров предполагают, что посольство к словенам состоялось после заключения Баяном мира с кесарем Тиверием (574 г.). По А. Авенариусу, послы были отправлены вскоре после 574 г., скорее всего, около 576–577 г. П. Петров счел возможным твердую датировку 574 г. Г. Г. Литаврин справедливо указывает, что «веских доводов в пользу этой даты… привести невозможно» и предлагает свою — «конец 60-х годов (568–570)» (2001. С. 563). При этом он не считает нужным полностью исключать и раннюю датировку (Там же. С. 561). Некоторые исследователи по какому-то недоразумению объединяют набег Баяна на словен в 578 г. с посольством к Добряте (Гимбутас, 2003. С. 125; Dujcev I. Davrentios// Lexicon des Mittelalters. Bd. 3. Munchen, 1984. S. 608). 602 События изложены в «Истории франков» Григория Турского. См.: Григорий Турский. История франков. М., 1987. С. 94 (IV. 23), 381 (Прим. 76). 603 Men. Hist. Fr. 14.: Свод I. С. 318/319. 604 Г.В. Вернадский, в целом справедливо намечая северный путь авар в Паннонию, полагал (точнее, уверенно утверждал) также, что часть кочевников двигалась вдоль Дуная и по пути покорила нижнедунайских славян (Вернадский, 2000. С. 195, 198). Это прямо противоречит сведениям Менандра о том, что первое нападение авар на словен произошло только в 578 г. Г.В. Вернадскому это известие, несмотря на подробность, видимо, осталось неизвестным. По крайней мере, фрагмент о Даврите-Даврентии и его вражде с Баяном — единственное сообщение Менандра, которое он вообще не использовал и не упомянул. 605 Некоторые исследователи полагали, что Баян пригнал покоренных славян с собой в Паннонию (I. Sorlin. Slaves et Slavenes avant et dans les miracles de saint Demetrius// P. Lemerle. Les plus ancient recueils des Miracles de saint Demetrius. T. II. Paris, 1981. P. 231–232). Однако в Паннонии до VII в. нет почти никаких следов пребывания славян. Это общее место в работах по археологии и истории Венгрии (см., например: Археология Венгрии. Конец II тыс. до н. э. — I тыс. н. э. М., 1986. С. 310; Краткая история Венгрии с древнейших времен до наших дней. М., 1991. С. 12). Столь же общим местом в работах по истории славян, однако, стало существование в VI в. «паннонских славян», «славян Паннонии» (см., например: Краткая история Болгарии с древнейших времен до наших дней. М., 1988. С. 30–31). Исходными тезисами для построения концепции «паннонских» славян, кажется, были два. Во-первых, некоторые историки стремились возвести историю сербохорватских племен еще к VI в., обосновать их «исторические права» на земли своего проживания тем, что они уже тогда совершали набеги на Иллирик, в то время как предки славян-болгар — на Фракию. Но рассказ Прокопия о нашествии 550–551 гг. совершенно не оставляет сомнений в том, что на Иллирик и Фракию нападали одни и те же славяне. Сербохорваты действительно иного происхождения, чем славянские болгары. Но и средневековые авторы, и этнонимика указывают — предки этой ветви южных славян пришли из земель севернее Паннонии. Второй аргумент в пользу «паннонских славян» — деление словенских племен в аварскую эпоху на две группы — прямо подвластных и лишь временно союзных каганату. Наличие этих двух категорий племен сомнений не вызывает. Но непосредственно подвластные племена можно локализовать и там, где есть их реальные археологические свидетельства — в Хорутании, в Поморавье, возможно, на востоке гепидского Потисья (правда, здесь их следы в VI в. незначительны). В названной работе по истории Болгарии Г.Г. Литаврин поместил «славян Паннонии» как раз «в бассейне Тисы». Не ранее VII в. или расширительно VI–VII вв. датируются факты славянского пребывания в Паннонии, приводимые В.В. Седовым (1995. С. 116, 117–123). Единственное убедительное исключение — упомянутые ранее находки пражско-корчакской керамики в Сентендре. 606 В польской исторической науке еще в XIX в. на основе известий античных авторов о венедах сложилась теория автохтонности и континуитета (непрерывного пребывания) славян на всей или почти всей территории Польши. С автохтонностью славян в Польше в известном смысле можно согласиться. Весьма вероятно, что основы праславянской культуры были заложены именно в бассейне Вислы (См: Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979; Его же. Славяне в древности. М., 1995). Однако автохтонность вовсе не подразумевает непременного континуитета. Л. Нидерле, кажется, относился к идее славянского континуитета в Польше с осторожным скепсисом. Он причислял к прародине преимущественно южные и восточные польские области наряду с восточнославянским Полесьем (Нидерле 2001. С. 28–30, 131) — притом, что античные авторы знают венедов в низовьях Вислы, и славянства венедов Нидерле не отрицал. Попытку археологического обоснования континуитета предприняли польские ученые в 60-е гг. (Kostrzewski J. Zur Frage der Siedlungstatigkeit in der Uhrgeshichte Polens. Wroclaw — Warszawa — Krakow. 1965. S. 10–26). Эта теория была воспринята учеными других восточноевропейских стран, в том числе СССР. Континуитет обосновывался тогда: во-первых, сходством пшеворской и пражской посуды (что может доказывать происхождение пражской культуры от пшеворской, даже если первая сложилось в придунайских областях — но ничего больше); во-вторых — единичными фактами пшеворско-пражской преемственности в Южной Польше. Ю.В. Кухаренко, приняв концепцию континуитета (Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. С. 128), по сути, опроверг ее приводимыми фактами. В названной работе упомянуто лишь два пшеворско-пражских поселения (Хоруля и Иголомя), оба на юго-западе Польши. При этом подчеркивалось, что на севере Польши славянских памятников ранее конца VI в. нет, а в качестве начальной даты для «предпястовского» славянского периода в истории Польши принимался 570 г. (Там же. С. 121, 124). М. Гимбутас ограничила первичную зону распространения пражских памятников на территории Польши южными областями (Гимбутас 2003. С. 99, 131 (карта)). Расселение славян в VI в. она рассматривала как «восстановление» после готского и гуннского нашествий. В.В. Седов (1995. С. 23) относил к ранним пражско-корчакским три поселения на Верхней Висле, датируемых V в. «Лехитской» он при этом считает суковско-дзедзицкую культурную группу, памятники которой в Восточной Германии относятся ко второй половине VI в. В.В. Седов с известной долей осторожности датировал первые памятники группы в польском междуречье среднего Одера и Вислы концом V — первой половиной VI в. и выводит их из местных пшеворских памятников. К суковско-дзедзицким относится сейчас много памятников Польши, прежде рассматривавшихся в ряду пражско-корчакских — например, городище Шелиги (Седов, 1995. С. 40 след.). Но в целом нет твердых оснований датировать их ранее середины VI в. Таким образом, расположение первичной славянской прародины на землях Польши не противоречит отсутствию славянского континуитета на ее территории — славяне просто возвращались в VI в. на старые земли. По словам Прокопия Кесарийского, значительная часть нынешней Польши была в первой половине века еще пустынна («обширная пустынная земля» между славянами и варнами — Proc. Bell. Goth. VI. 15: 1.: Свод I. С. 176/ 177). О том же свидетельствует этнонимика. Племенное название «висляне» в верховьях Вислы свидетельствует о том, что ниже по реке в момент его возникновения славян еще не было. Название могло появиться, таким образом, либо в I тыс. до н. э., когда венеды еще не жили у Балтики, либо в VI в., в ходе расселения пражских племен. Первый вариант, учитывая многочисленные этнические передвижения в регионе, да и языковые изменения, маловероятен. Второй же означает, что Северная Польша оставалась какое-то время действительно без славянского населения. Более того, вероятнее всего оказывается, что славяне, носители пражской культуры, пришли к Висле откуда-то со стороны, скорее с востока. Только в этом случае определение себя по названию реки представляется логичным — оно явно противопоставляет вислян тем, кто на Висле не живет. В польской науке археологическая аргументация против теории континуитета представлена К. Годловским на основе исследования пшеворских древностей (Godlowski K. Przemiany osadnicze i kulturowe w poludniowej i srodkowej Polsce w mlodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk. 1985). Попытка К. Годловского вывести пражские древности из зарубинецких, а славян в Польше — из Среднего Поднепровья выглядит неубедительно, на что указал О.Н. Трубачев (Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991. С. 6). Но на этом основании не стоит отвергать саму выдвинутую К. Годловским идею отсутствия прямой преемственности польских пшеворских и пражских древностей. В.В. Седов в последней работе оценивал построения К. Годловского как «устарелые» (В.В. Седов. Славяне: историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 310). Он высказал мнение, что «совокупность данных» позволяет включить Южную Польшу наряду с Восточным Прикарпатьем в область складывания пражской культуры (Седов 2002. С. 309–310). С другой стороны, нельзя не заметить, что памятники добродзеньской культурной группы V в. указывают, по меньшей мере, на преобладание германцев в среде «поздних пшеворцев» Южной Польши. В процессе расселения славян германцы были ассимилированы (см.: Седов, 2002. С. 311–312). 607 Григорий Турский. С. 97 (IV. 29). 608 Седов, 1995. С. 275–276. 609 Новелла № 140 от 14 сентября 566 г. — первая содержащая полный титул Юстина — не включает титула «Антский» (Свод I. С. 262). 610 Новелла № 6 от 1 марта 570 г. (Свод I. С. 262). Использовался титул и позднее — в новелле начала 570-х гг. из «Церковной истории» Евагрия (V. 4), в недатированной новелле (возможно, принадлежащей уже Тиверию, но тот не использовал титула «Антский» в единственной достоверно «своей» новелле). 611 В первой половине 580-х гг. — Иоанн Эфесский (по Михаилу Сирийцу и бар Эбрею — Свод I. С. 284–286); в 602 г. — Феофилакт Симокатта (Свод II. С. 42/43), на котором основывается и Феофан (Свод II. С. 270/271). 612 Военный Аноним (Свод I. С. 362/363) даже воспроизводит формулу начала правления Юстиниана «анты и склавы», ставя антов тем самым впереди словен в числе врагов Империи. Последовательность у Маврикия (Свод I. С. 368/369 след.) везде «склавы и анты», однако он нигде не разделяет и не противопоставляет их. В связи с этим можно поставить и вышеупомянутый (прим. 79) отказ императора Тиверия от титула «Антский» во время ожесточенных и неудачных войн со словенами и аварами. 613 См.: Седов, 1982. С. 23; Седов 1995. С. 85. 614 Западнославянские хорваты упоминаются арабским географом Масуди (середина Х в.), грамотой Пражского архиепископства от 1086 г. (основной перечень древних чешских племен, восходящий происхождением еще к 973 г.), грамотой германского императора Генриха II (1108 г.). См.: Нидерле 2001. С. 77–78, 128; Седов, 1982. С. 125; Turek R. Cechy v ranem stredoveku. Vysehrad — Praha, 1982. S. 40–41. 615 См.: Седов, 1995. С. 138 след., 332. 616 Ср.: Седов, 1995. С. 310. 617 Седов, 1995. С. 25, 27–28. 618 Седов, 1995. С. 293, 295, 314. 619 Седов, 1995. С. 27, 275–276. 620 Седов, 1995. С. 28–29. На основе приводимых данных представляется, что основной поток переселенцев следует датировать началом VII в. и связать с усилением аварского натиска на чешских славян. 621 Заимствована целая группа названий емкостей, которые, очевидно, служили объемно-весовыми мерами. См.: ЭССЯ. Вып. 3. С. 113–114 (*bъdьna); Вып. 10. С. 196 (*kony); Вып. 13. С. 171–172 (*kъbъlъ). 622 ЭССЯ. Вып. 21. С. 81–82. Распространение во всех славянских языках указывает на ранний (VI в.) характер заимствования. Скорее всего (но не обязательно) заимствовано из того же источника и связанное слово «мытарь», обозначавшее сборщика пошлины, таможенника (ЭССЯ. Вып. 21. С. 73–74). 623 Седов, 1995. С. 46; Седов, 2002. С. 328–329. 624 О Бискупине во времена лужицкой культуры (II–I тыс. до н. э.) см.: Седов, 2002. С. 59. 625 Historia kultury 1978. S. 30, 58. 626 Седов, 1995. С. 41–42. 627 Именно венедский тип, без сомнения, сохраняли южнобалтийские и новгородско-псковские славяне этого времени. См.: Седов, 1982. С. 8. 628 Ср. Седов, 1995. С. 12–13, 40–41 (жилища с подпольными ямами относятся исключительно к суковско-дзедзицким, но отмечены и наземные срубные дома без ям в том же ареале). Ср. еще: Седов, 1982. С. 14; Седов, 1995. С. 15; Седов, 2002. С. 299 — о наземных домах на несомненно корчакских поселениях (прежде всего, Зимно). См. также: Кухаренко 1969. С. 125 (в конце 1960-х — 1970-х гг. суковско-дзедзицкие поселения V–VII вв. на территории Средней Польши еще рассматривались как пражско-корчакские, что отразилось и в работе В.В. Седова 1982 г.). П. Донат (Donat P. Zur Nordausbreitung der slawischen Grubenhauser // Zeitschrift fur Archaologie. № 4. Berlin, 1970. S. 250–269; Donat P. Bemerkungen zur Entwicklung des slawischen Hausbaues im mittelren und sudostlichen Europa // Balcanoslavica. 4. Prilep — Beograd, 1975. S. 113–125) считает наземные жилища с ямами, наряду с полуземлянками, характерным для пражской культуры типом. 629 Кухаренко, 1969. С. 125. Седов, 1995. С. 15, 345. 630 Седов, 1982. С. 8. 631 Седов, 1995. С. 9, 12, 13, 19, 41, 42 (карты). 632 ЭССЯ. М., 1988. Вып. 15. С. 58. 633 Очевидно, на самом деле «Немержа», «Немера» — имя, отмеченное в старопольском и восходящее к праславянскому (*nemera ‘неизмеримый’) (ЭССЯ. Вып. 24. М., 1997. С. 152–153). Великопольский хронист толкует не совсем верно: «не объемлющий мира» (Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. М., 1987. С. 53). 634 Великая хроника 1987. С. 53. 635 Кухаренко, 1969. С. 124; Historia kultury 1978. S. 39; Седов, 1995. С. 41–42, 46, 348; Седов, 2002. С. 443. 636 Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993. С. 13/14, 24 (Прим. 22). 637 Великая хроника 1987. С. 61 (Гл. V). 638 Так в «Повести временных лет» (Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 1. М., 1997. Стб. 6; Т. 2. М., 1998. Стб. 5; Т. 38. Л., 1989. С. 12). После упоминания полян следует фраза: «ляхи же иные — лютичи, иные мазовшане, иные поморяне». Точно так же и Богухвал упоминает в числе «лехитов» отдельно от полян только полабские, лужицкие и поморские племена (см.: Великая хроника 1987. С. 53–54). 639 Нидерле 2001. С. 105; Седов, 1995. С. 48; Назаренко, 1993. С. 47 (Прим. 47). 640 Безунчан не упоминает ни один другой автор, но на их силезскую принадлежность указывает повтор рядом с теми же дедошанами во второй части «Географа». Отсюда же ясно, что они не тождественны слензянам и не были их непосредственной частью. На территории Силезии есть топонимы, которые могли послужить источником названия. См.: Lehr-Splawinski T. Bezunczane// Slownik starozytnosci Slowianskich. T. 1. Warszawa, 1964. S. 113; Назаренко, 1993. С. 48 (Прим. 59; ср.: С. 23, прим. 20). Во второй части «Географа» добавляются слензяне, ополяне (на Верхней Одре), голендичи. Где-то в Силезии обычно помещают упомянутых здесь же лупоглавов (см.: Назаренко, 1993. С. 50. Прим. 62). Этот этноним имеет аналоги в топонимии в Словении и сербохорватских землях, а также на Руси как речное название Лупоголова в бассейне Верхнего Днепра (ЭССЯ. Вып. 16. М., 1990). Учитывая, что слово *lupogolva (*lupigolva) неизвестно в иных значениях, можно предположить, что все местные названия восходят к имени племени. В таком случае название племени лупоглавов (‘ободранные, шелушенные головы’ — в основе, вероятно, какая-то внешняя особенность) должно было появиться не позднее VI в. 641 Дедошичи названы в перечне северных чешских и силезских племен в учредительной грамоте Пражской архиепископии. Грамота датируется 1086 г. и включена в хронику Козьмы Пражского (II. 37 — см. русский перевод в кн.: Козьма Пражский Чешская хроника. М., 1962). Восходит она своим содержанием, однако, к Х в., подтверждая привилегии, данные еще в 973 г. Наряду с Баварским географом и «Повестью временных лет» пражская грамота — один из ценнейших источников по раннеславянской этнонимии. В Силезии и Лужицах она называет еще племена слензян, требовян и поборян. 642 События эти воссозданы на обширном археологическом и ином материале в работе: Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 г. М., 2003. 643 Кулаков В.И. Могильники западной части Мазурского Поозерья конца V — начала VIII в.// Barbaricum-1989. Warszawa, 1990; Седов, 1995. С. 171; Кулаков, 2003. С. 46, 255–256, 320. Предлагаемая В.И. Кулаковым в последней работе дата (ок. 550 г.) для совместного прихода гепидов и лангобардов в Мазуры кажется слишком ранней. В указанное время эти два племени враждовали между собой в Подунавье. Убедительнее датировка из первой работы — между 550 и 600 гг., что справедливо связывать с аварским вторжением 566–568 гг. Именно в ходе аварского нашествия королевство гепидов и прежнее лангобардское королевство в Паннонии почти одновременно перестали существовать. 644 Назаренко, 1993. С. 50–51. Прим. 64. 645 Седов, 1995. С. 54. Силезское происхождение фельдбергской культуры обосновано Й. Херрманом (Herrmann J. Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhaltnisse der slawischen Stamme zwischen Oder/Neisse und Elbe. Berlin, 1968. S. 70–73). 646 См.: Седов, 2002. С. 338. 647 Седов, 1995. С. 42. 648 Седов, 1995. С. 47. 649 Седов, 1995. С. 47. 650 См.: Perwolf J. Slawische Volkernamen.// Archiv fur slawische Filologie. Bd. 8. S. 595–596; Lehr-Splawinski T. Rozprawy i szkice z dziejow kultury Slowian. Warszawa, 1954. S. 99; Rudnicki М. Nazwy Slowian polabskich i luzickich u Geografa Bawarskiego // Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata. Poznan, 1959. S. 253; Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. № 6. С. 56. О.Н. Трубачев в позднейшей работе (Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 129–130) высказал мысль, что «ободриты» происходит от славянского *obъdьrati ‘ободрать, ограбить’. В качестве доказательства указывалось на глоссу к упоминанию ободритов во франкских анналах под 823 г. (Abodriti, qui vulgo Praedenecenti vocantur — «Ободриты, по-народному называемые Praedenecenti»). Но последнее слово справедливее, кажется, понимать не как «грабители» по-латыни (такое «народное» слово неизвестно), а как передачу самоназвания ободричских послов — «передняя чадь» (см.: Назаренко, 1993. С. 22). Л. Нидерле, строго подходя к форме «ободричи», видел за ней имя родоначальника — Ободра (Нидерле, 2001. С. 120). Но пример лендзян / лендичей (и напротив — дедошичей / дедошан) ясно демонстрирует возможность мены ободряне / ободричи и, соответственно, справедливость традиционной этимологии. 651 Это почти наверняка германское обозначение славянского племени стодорян (Назаренко, 1993. С. 119). Трактовка названия как славянского «гаволяне» (например, у Л. Нидерле — Нидерле, 2001. С. 123) выглядит немного искусственно. Часть стодорян также позднее оказалась на Балканах. Об этом свидетельствует название Стодорской равнины на юге Словении. (Нидерле, 2001. С. 75.) 652 Славянское племя в Македонии (Нидерле, 2001. С. 89). 653 Нидерле, 2001. С. 121. 654 См.: Назаренко, 1993. С. 18–19. 655 Назаренко, 1993. С. 14. 656 Седов, 1995. С. 41, 46. В первой половине VII в. в Поморье распространяется культура иного типа (Седов, 1995. С. 54–55). Еще сравнительно недавно считалось, что к VI–VII вв. в Поморье может быть отнесен лишь один клад рубежа веков, а дзедзицкие древности датируются VIII столетием (Кухаренко, 1969. С. 124, 128). 657 Назаренко, 1993. С. 14, 35–36. На самом берегу моря восточнее Одера жили в IX в. велунчане, но их имя связано с возникшим в VIII в. градом Волин (Волынь, Велунец). 658 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10–16.: Свод II. С. 16–19. 659 Нидерле, 2001. С. 128, 132; Седов, 1995. С. 311. Хорваты отмечены еще на реке Заале (в начале XII в. — Нидерле, 2001. С. 493). Практически не вызывает сомнений, что там они появились вместе с сербами (носителями рюсенской культуры) в VII в. 660 Dlugosz Jan. Roczniki czyli Kroniki slawnego Krolestwa Polskiego. Warszawa, 1962. T. 1. S. 190; В.В. Иванов, В.Н. Топоров. Крак.// Славянская мифология. М., 1995. С. 233. 661 В.В. Иванов, В.Н. Топоров. О древних славянских этнонимах.// Славянские древности. Киев, 1980. С. 38; Slaski K. Walki historyczne w podaniach o poczatkach Polski. Poznan. 1968. S. 23–25. 662 Так и делали некоторые западнославянские ученые XIX–XX вв. (Нидерле, 2001. С. 169: «первоначально [до 560 г. — С. А.] существовало одно большое племя хорватов, которое, по-видимому, и политически было объединено в государство, центром которого был Краков»; Gaczynski J. Zarys dziejow plemiennych Malopolski// Rocznik Przemyski. T. XII. Przemysl, 1968. S. 51–117). Но их построения, как представляется, избыточно осложнены. Е. Гачинский пересмотрел ряд слабых сторон концепции Л. Нидерле. Тот, например, ограничивал существование хорватского «государства» 560 г. и в то же время считал, что его упоминают арабские авторы (IX–X вв.) и Константин Багрянородный (Х в.). Гачинский продлил существование хорватского краковского союза до рубежа VIII–IX вв., что уже вызывает сомнения. Имя хорватов в Повисленье неизвестно (хорваты на Висле у Л. Нидерле — результат недоразумения, неверного соотнесения с прародиной хорватов того, что говорил Константин о происхождении захлумских князей в Сербии — Нидерле, 2001. С. 76). Таким образом, княжество вислян IX в. мы можем воспринимать как некий осколок или ветвь хорватского племенного объединения, но едва ли как его главную часть. Не можем мы и сколько-нибудь уверенно отождествлять Краков с «городом Хурдаб (Хорват?)» восточных авторов. 663 Mistrz Wincenty. Kronika polski. Warszawa, 1992. S. 11–12. 664 Краков археологически не исследован, и время его основания достоверно не установлено. Однако Краку приписывается монументальный курган около города (Седов, 1995. С. 343). Курганный обряд захоронения появился в Малопольше во второй половине VII в. (Седов, 1995. С. 18). 665 Козьма Пражский 1962. Гл. 3. (С. 35). 666 Далимил (Staroceska kronika tak receneho Dalimila. Praha, 1988. Kap. 3. 1–4) ограничился кратким упоминанием о Кроке, всецело основанным на известиях Козьмы. Как всегда, богат на дополнения к древним хроникам Гаек из Либочан (XVI в.), создавший из обрывков древних легенд и собственных домыслов подробную летопись времен Крока (Vaclav Hajek z Libocan. Kronika ceska. Praha, 1981. S. 52–63). Он «установил» даже точную хронологию и датировал правление Крока 661–709 гг. К сожалению, из многочисленных дополнений лишь предание о справедливом суде Крока может действительно восходить напрямую к фольклору. Многочисленные топонимические предания нанизаны Гаеком на историю Крока, скорее всего, искусственно. История же дружбы-соперничества Крока и Леха, брата Чеха, — домысел самого Гаека, восходящий к хронике Пржибека Пулкавы (XIV в.). Именно этот хронист впервые заимствует у польских авторов легенду о братстве Чеха и Леха. Интересно, впрочем, что Гаек связывает с Кроком больше преданий о заселении страны, чем с Чехом. Именно к временам Крока отнесено открытие в Чехии полезных ископаемых. Он у Гаека приказывает расчистить лесные пространства под пашню, разведывает чешские земли. Это соответствует данным об окончательном освоении Чехии славянами лишь во второй половине VI в. 667 Тurek R. Die fruhmittelalterlichen Stammegebiete in Bohmen. Praha, 1957. S. 32. 668 Гаек связывал с Кроком как Кроков, так и Будеч близ Праги (Hajek 1981. S. 58). Возможно, это след каких-то подлинных преданий. Будеч — один из старейших культовых и политических центров чешских земель. Основан он, впрочем, на рубеже VIII–IX вв. (Седов, 1995. С. 313). 669 Например, польского князя Мешко в соглашении с папой о переходе Польши под его покровительство (Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990. С. 28). 670 Козьма Пражский 1962. Гл. 4 (С. 36). 671 Mistrz Wincenty 1992. S. 15–16; Великая хроника 1987. Гл. 1 (С. 58). Не вызывает никаких сомнений, что в данном случае речь идет о разных персонажах, а не об одном и том же «раздвоившемся» герое, что произошло в польских хрониках, например, с легендарным князем Лешко. 672 Mistrz Wincenty 1992. S. 12–15 (там же список литературы, в которой анализировалось предание о победе Крака над драконом — «Краковским Цмоком»). При любой исторической или мифологической интерпретации справедливой представляется точка зрения В.В. Иванова и В.Н. Топорова, рассматривающих предание как отражение славянского «основного мифа» о битве громовержца со змееобразным противником (Иванов — Топоров. Крак). Таковы же волынское предание о Радаре (где, кстати, фигурирует «змей Краговей») и приднепровские предания о Божьем Ковале. Притом они связаны и с конкретной историей. Предание о Краке и «Цмоке», вне сомнения, местное, краковское, и возвести его целиком к литературным образцам невозможно. 673 Mistrz Wincenty 1992. S. 16–18. 674 Козьма Пражский 1962. Гл. 9 (С. 45). 675 Константин Багрянородный называет прародину балканских сербов — с их слов — «Воики», что давно соотнесено с Богемией (Константин Багрянородный. Об управлении Империей. М., 1991. С. 140/141, 379). Соотнесение с карпатскими бойками (П. Шафарик) с точки зрения современной науки фантастично — названия бойков и их соседей лемков связаны с особенностями их говоров и родились в позднее средневековье (Этнография восточных славян. М., 1980. С. 107). Из «Белой Сербии» в «местности Воики», по Константину, сербы переселились на юг. Отсюда же, очевидно, шла и миграция будущих сорбов (рюсенской культуры) на север, в бассейн Эльбы — Заале. Соответственно, помещать первоначальную «Белую Сербию» следует на севере Чехии. 676 Константин Багрянородный 1991. С. 140/141. Русская летопись называет «белых хорватов» вместе с сербами и хорутанами (карантанцами в нынешних Каринтии и Словении), после чехов и мораван (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 6; Т. 38. С. 12). 677 Maur. Strat. XI. 4: 1–2.: Свод I. С. 368/369. 678 Maur. Strat. XI. 4: 1–2.: Свод I. С. 368/369. 679 Maur. Strat. XI. 4: 5.: Свод I. С. 368/369. «Поля» в качестве основного источника пропитания славян упомянуты у Менандра (Свод I. С. 320/321). 680 Седов, 1995. С. 20–21, 80. 681 Соотношение в костном материале 1:5 при общей доле в 12 % (Седов, 1995. С. 21). 682 Седов, 1995. С. 21. 683 Об этом упоминает Иоанн Эфесский в связи с нашествием 580-х гг. (Свод I. С. 278/279). Но из его известия с той же очевидностью следует, что до нашествия словене «табунами коней» не располагали. О появлении у словен конницы свидетельствуют находки сбруи, в том числе на удаленных от имперских границ пражско-корчакских поселениях (Седов, 1995. С. 23). 684 Maur. Strat. XI. 4: 5.: Свод I. С. 368/369. Об интерпретации отрывка см.: Цанкова-Петкова Г. Материалната култура и военното изкуство на дакийските славяни според сведенията на «Псевдо-Маврикий».// Известия на Института за българската история. София, 1957. Т. 7. С. 340–341; Свод I. С. 383. 685 Седов, 1995. С. 20. 686 См.: Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973. С. 295–297; Седов, 1995. С. 14, 28, 103. 687 См.: Седов, 1982. С. 12. 688 Находки в Зимно, Рипневе и других смешанных или пограничных с антами поселениях (Седов, 1995. С. 20). Находка в полесском Хотомеле, видимо, чуть более поздняя. В Чехии наральник происходит из клада железных изделий в Летех, который мог быть оставлен как славянами, так и германцами (Sklenar K. Pamatky praveku na uzemi CSSR. Praha, 1974. S. 282–283; Седов, 1995. С. 20). 689 Седов, 1995. С. 21. 690 Maur. Strat. XI. 4: 7.: Свод I. С. 368/369. 691 Свод I. С. 278/279. На Иоанна Эфесского, сирийского церковного историка, стереотип изображения северных «варваров» влиял гораздо больше, чем на руководствовавшегося практическими целями Маврикия Стратега. См.: Свод I. С. 281–282, 283. 692 Maur. Strat. XI. 4: 38.: Свод I. С. 376/377. О бегстве славян в «чащи и укромные уголки леса» говорит и Менандр (Свод I. С. 320/321). Это же имеет в виду Иоанн Эфесский (Свод I. С. 278/279). 693 Maur. Strat. XI. 4: 43.: Свод I. С. 378/379. 694 Ср. комментарий В. В. Кучмы: Свод I. С. 391. Приводимые здесь подсчеты размера «хории» (от 4 до 5 км) чрезвычайно интересны, но не бесспорны, что признает и автор. Вместе с тем они совпадают с протяженностью, если так можно выразиться, «стандартного» словенского «гнездовья» по археологическим данным. См.: Седов, 1982. С. 13. 695 Maur. Strat. XI. 4: 7.: Свод I. С. 368/369. Общая характеристика Маврикием образа жизни славян как опасного и «разбойного» породила излишнюю, как представляется, дискуссию. П.Н. Третьяков (Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953. С. 160–162) и Б.А. Рыбаков (Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 52) высказывали мнение, что известие Маврикия может быть отнесено лишь к славянам непосредственно к северу от Дуная. Но, вопреки П.Н. Третьякову, Маврикий уже ничего не писал о «бродячем быте» славян. Что же касается общей картины быта славян в сравнительно небольших поселениях, то соответствующую картину мы наблюдаем по всему славянскому ареалу того времени. Напротив, в Придунавье быт славян был, несомненно, гораздо богаче и в известном смысле стабильнее, чем далеко на севере, куда не доходила задунайская добыча и где еще господствовало подсечное земледелие. К слову, в условиях аварского нашествия и внутриславянских передвижений едва ли могла иметься вполне свободная от угрозы войны и межплеменного столкновения территория. Маврикий говорит об обычае зарывать клады в случае опасности; П.Н. Третьяков уверенно связал его с дунайским порубежьем. Эти места, несомненно, и были известны Маврикию — но славянские клады той эпохи раскопаны не здесь, а в Поднепровье и Южной Прибалтике. Что же до характеристики быта славян как «разбойного», то это просто клише, относящееся к «варварам»-врагам. Нет оснований не использовать известия Маврикия для характеристики всего антского и словенского ареалов. 696 См., например: Седов, 1995. С. 11. 697 Третьяков, 1953. С. 164–165. 698 Кухаренко, 1969. С. 125; Седов, 1995. С. 11–13. 699 Седов, 1982. С. 22; Седов, 1995. С. 71, 81. Отмечено также, что поздние антские жилища крупнее ранних (Седов, 1982. С. 22). Это, очевидно, отражает сохранение и разрастание больших семей. 700 Различные точки зрения на проблему происхождения «мартыновских» древностей: Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы.// Советская археология. 1971. № 2. С. 118; Laslo G. etudes archeologiques sur l’histoire de la societe des avars// Archaeologia Hungarica. 1955. V. 34; Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 16; Седов, 1982. С. 25–26; Щеглова О.А. О двух группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье.// Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Курск, 1990. В смысле хронологии клада особняком стояла точка зрения Б.А. Рыбакова, который датировал значительную часть вещей V — началом VI в., сам клад — серединой VI в. и приписывал мартыновские древности племени русов (Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 80–81). 701 Седов, 1982. С. 25–26; Седов, 1995. С. 76–78. В названных работах указывается, что пояса мартыновского типа «распространены достаточно широко и безусловно не являются отражением одного определенного этноса» (Седов, 1982. С. 26; Седов, 1995. С. 77). Вместе с тем, позднее В. В. Седов считает возможным относить мартыновские древности в Паннонии и на Балканах исключительно или преимущественно антам (Седов, 1995. С. 120–122, 130). 702 Седов, 1982. С. 33, 40–41. 703 Седов, 1982. С. 25–27, 72, 258. 704 Детальное исследование проблемы предпринял У. Фидлер (Fiedler U. Studien zu Graberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Teil 1–2. Bonn, 1992). 705 Седов, 2002. С. 216. 706 По мнению А.И. Айбабина, находки пальчатых фибул в Крыму — свидетельство торговых связей с Поднепровьем (Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М., 2003. С. 48). Иначе — Седов, 2002. С. 218–220 (все, особенно крымские находки рассматриваются как свидетельство расселения антов). 707 Федоров — Полевой, 1973. С. 295–297; Седов, 1995. С. 103. 708 Погребение черепа (остаток захоронения или жертвоприношение по черняховскому ритуалу) на поселении Ханска III; погребение женщины с пеньковским сосудом на черняховском могильнике в Данченах (плащ покойной был застегнут двумя пальчатыми фибулами, то есть по германской традиции) (Седов, 1995. С. 75). 709 См.: Седов, 1982. С. 112–113; Fiedler 1992. S. 74–91; Седов, 1995. С. 75–76 (в последней работе высказана точка зрения о более широком распространении трупоположений у антов, чем это фиксируется наличным археологическим материалом); Обломский 2002. С. 80 след. (теория особой «культуры раннесредневековых ингумаций»). Создатели данной культуры характеризуются А.М. Обломским как чересполосно живущее с антами смешанное «население» кочевнического и полиэтничного «черняховского» происхождения. При явной немногочисленности «населения» напрашивается версия — не идет ли речь просто об интернациональной дружинной прослойке, складывающейся в антском обществе и оставившей, в частности, клады с «мартыновскими» древностями? Ингумация вкупе с сохранением аланских, германских, отчасти тюркских бытовых традиций (наряду со славянскими) могла быть для этой группы своеобразным социальным маркером. 710 Седов, 1995. С. 275–276. 711 Седов, 1982. С. 18; Седов, 1995. С. 14–16. 712 Кухаренко, 1969. С. 125. 713 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 12–13.: Свод II. С. 24/25. 714 Maur. Strat. XI. 4: 6.: Свод I. С. 368/369. 715 Maur. Strat. XI. 4: 8.: Свод I. С. 368/369. 716 Иоанн Эфесский — Свод I. С. 278/279 (прямое указание на военную добычу как главный источник «обогащения» славян). 717 Maur. Strat. XI. 4: 11.: Свод I. С. 370/371. 718 По Маврикию, славяне даже зимой «почти наги» (Maur. Strat. XI. 4: 19.: Свод I. С. 372/373). 719 Свод I. С. 278/279 (Иоанн Эфесский), 322/323 (Менандр. Fr. 63); Свод II. С. 14/15, 30/31 (Феофилакт Симокатта — I.7: 5–6; VII. 2: 2–4). 720 Маврикий специально инструктировал войска, чтобы они находились в славянских землях, «когда лес покрыт листвой» — это содействовало бы бегству от славян пленников: Maur. Strat. XI. 4: 36.: Свод I. С. 376/377. 721 Maur. Strat. XI. 4: 4.: Свод I. С. 368/369. 722 Maur. Strat. XI. 4: 31.: Свод I. С. 374/375. 723 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 13.: Свод II. С. 22/23. 724 Maur. Strat. IX. 3: 1.: Свод I. С. 368/369. 725 Maur. Strat. XI. 4: 12.: Свод I. С. 370/371. 726 Maur. Strat. XI. 4: 30.: Свод I. С. 374/375. 727 Maur. Strat. XI. 4: 14.: Свод I. С. 371–374. Ср. еще характеристику словен у Иоанна Эфесского как «народа лживого» (Свод I. С. 278/279). 728 Maur. Strat. XI. 4: 30.: Свод I. С. 374/375. 729 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1.: Свод II. С. 22/23. 730 Zrodla arabskie do dziejow Slowianszczyzny. T. 1. Krakow, 1956. S. 180/181 («Китаб ал-махасил ва’л-аддад»). 731 Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 5.: Свод I. С. 20/21; Benedicty R. Auf die fruhslawische Gesellschaft bezugliche byzantische Terminologie// Actes du XII Congres International des etudes Byzantines. Vol. 2. Beograd, 1964. P. 55. 732 Theoph. Sim. Hist. VIII. 5: 10.: Свод II. С. 40/41; Литаврин 2001. С. 521. Г.Г. Литаврин обратил также внимание на упоминание термина — во множественном числе — в одном из списков «Чудес святого Димитрия» (Литаврин, 2001. С. 520). 733 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 13; 5: 4.: Свод II. С. 34/35. 734 Свод II. С. 98/99 («Чудеса св. Димитрия Солунского»). 735 Свод II. С. 98 — 101. Ср.: С. 185 (Прим. 10). 736 Maur. Strat. XI. 4: 39.: Свод I. С. 376/377. 737 ЭССЯ. Вып. 8. М., 1981. С. 193–194. Любопытно, что в старочешском развилось значение ‘разбойник’. 738 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10–16.: Свод II. С. 14–17. А. Коллауц полагал, что Феофилакт идеализировал образ жизни северных славян, отождествив их для себя с блаженными гипербореями античных мифов (Kollautz A. Die Idealisirung der Slawen bei Theophylakt als Beispiel seiner ethnographishen Darstellungweise// Rapports du III Congres International d’Arheologie slave. Vol. 2. Bratislava, 1980). 739 Кухаренко, 1969. С. 125; Donat 1975. S. 113–125; Седов, 1995. С. 47. 740 Седов, 1995. С. 45–46. 741 Седов, 1995. С. 46 (шпора VI в. в Бониково — наиболее ранний пример). 742 Седов, 1995. С. 43. 743 Кухаренко, 1969. С. 125; Historia kultury 1978. S. 203–204; Седов, 1995. С. 12, 41–43. 744 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 15.: Свод II. С. 16/17. 745 Седов, 1995. С. 44–46. 746 Показательно, что один из типов керамики кривичей ранее рассматривался как близкий к пражскому (Седов, 1982. С. 51), ныне же В.В. Седов сближает его с суковско-дзедзицким (Седов, 1995. С. 213; Седов, 2002. С. 359). 747 См.: Кухаренко, 1969. С. 125; Седов, 1995. С. 43; данные о типах корчакской посуды см.: Седов, 1982. С. 10–12. 748 Седов, 1995. С. 43. 749 Нидерле, 2001. С. 201, 224. С этими обычаями феодальные владетели и проповедники христианства боролись вплоть до XIV в. 750 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10, 15.: Свод II. С. 14–17. 751 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 12.: Свод II. С. 16/17. Феофан толкует их уже как «таксиархов» (воевод?) (Свод II. С. 254/255). 752 Седов, 1995. С. 43. Само их возникновение следует связывать, вероятно, с велетскими завоевательными войнами, речь о которых пойдет в следующей главе. 753 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 12–13.: Свод II. С. 16/17. О кладах см.: Кухаренко, 1969. С. 124; Herrman J. Bysanz und die Slawen “am au?ersten Ende des westlichen Ozeans”// Klio. Bd. 54. Berlin, 1972. S. 317–318. 754 Maur. Strat. XI. 4: 11.: Свод I. С. 370/371. 755 Свод I. С. 278/279 («не знали, что такое оружие, кроме двух или трех лохиндиев, а именно это — метательные копья»). 756 Maur. Strat. XI. 4: 11.: Свод I. С. 370/371. 757 Об этом свидетельствует Иоанн Эфесский (Свод I. С. 278/279). 758 Добрята в изложении греческого историка говорит: «…пока существуют войны и мечи» (Свод I. С. 320/321). Б. Крекич и М. Томич (комментаторы фундаментального югославского издания «Византийские источники по истории народов Югославии») придают известию Менандра исключительное, как представляется, весьма преувеличенное значение. Меч становится в их интерпретации «основным» оружием славян. См.: Византиски извори на историjу народа Jугославиjе. Т. 1. Београд, 1955. С. 92. В качестве контраргумента И.А. Левинская и С.Р. Тохтасьев, работавшие с текстом Менандра в отечественном «Своде древнейших письменных известий о славянах», указывают, помимо известий других источников, на несомненную вымышленность речи. «Войны и мечи», согласно их толкованию, синонимическая пара, употребленная как чистая метафора. См.: Свод I. С. 350–351. Главным контраргументом все-таки является отсутствие археологических свидетельств. С другой стороны, Менандр адресовался своим современникам, воочию сталкивавшимся со словенами. Если у дунайцев действительно мечи никогда не встречались, то оборот, вложенный в уста их вождю, следует признать крайне неуклюжим и рискованным «украшательством» со стороны довольно тонкого стилиста Менандра. 759 ЭССЯ. Вып. 3. С. 55. 760 Это явно и имеет в виду Иоанн Эфесский, сообщая, что славянам наряду с оружием ромеев достались и «табуны лошадей» (Свод I. С. 278/279). 761 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 11.: Свод I. С. 34/35. 762 Maur. Strat. XI. 4: 12–13.: Свод I. С. 370/371. 763 Maur. Strat. XI. 4: 28.: Свод I. С. 374/375. 764 Свод I. С. 362/363. Очевидно, он относит «антов и склавов» к тем, кто сражается «беспорядочно, рассеявшись, бесчинно, безначально». 765 Maur. Strat. XI. 4: 8, 13, 24, 33, 39.: Свод I. С. 369–377. 766 Maur. Strat. XI. 4: 10.: Свод I. С. 370/371. 767 ЧСД, 13.: Свод II. С. 113. 768 Maur. Strat. XI. 4: 10.: Свод I. С. 370/371. 769 Theoph. Sim. Hist. VI. 3: 9–4: 5.: Свод II. С. 16–19. 770 См.: Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 5–6, 11–12.: Свод II. С. 22/23, 24/25. 771 Agath. Hist. 21.: Агафий 1996. С. 200–201. 772 ЧСД, 145.: Свод II. С. 114/115. 773 Свод II. С. 84/85 (Феодор Синкелл). 774 Федоров — Полевой, 1973. С. 293–294. 775 Федоров — Полевой, 1973. С. 258. 776 Менандр пишет, что к 578 г. «издавна ромеи опустошались славянами», вследствие чего те обогащались (Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321). Едва ли те «мириады» пленников, о которых он говорит далее (Men. Hist. Fr. 63.: Свод I. С. 322/323), были захвачены только до 551 г., даже если учитывать нашествия 559 и 578 гг. 777 Федоров — Полевой, 1973. С. 297. 778 Он упоминал Добряту ранее фр. 48 (Свод I. С. 348. Прим. 61). 779 См. подробное изложение событий: Артамонов 2002. С. 156–157. 780 Менандр относит нашествие к четвертому году правления Тиверия в качестве кесаря, начавшемуся 7 декабря 577 г. (Fr. 47.: Свод I. С. 18/319, 340). Продолжалась война, как можно судить, не один месяц, но завершилась еще до лета 578 и восшествия на Тиверия на императорский престол осенью походом авар за Дунай. Некоторые исследователи (Максимовић Л. О хронологиjи словенски упада на византиjску территориjу краjем седамдесетих и почетком осамдесетих година VI в.// Зборник радова Византолошког Института. Београд, 1964. Т. 8. Књ. 2. С. 267; Гимбутас 2003. С. 124–125; Литаврин, 2001. С. 561) сочли возможным датировать поход Баяна на словен началом собственного царствования Тиверия, то есть 578–579 гг. Однако, как справедливо указали И.А. Левинская и С.Р. Тохтасьев, это исключается, в первую очередь, прямым указанием на Тиверия как на кесаря в тексте фрагмента 48 (Свод I. С. 320/321, 344). Следует отметить, что начало славянского нашествия Л. Максимович все равно отнес к зиме 577 г. (Максимовић 1964. С. 264–267). Испанский хронист Иоанн Бикларский (Свод I. С. 396) датировал вторжение словен во Фракию 8 годом правления вестготского короля Леовигильда (576 г.). Но Иоанн датирует события по годам правления не только испанских королей, но и ромейских императоров. Очевидно, что для «восточных» событий определяющей является именно эта датировка. Нашествие отнесено им к десятому году Юстина, по видимости 574/5 (или 576/7 — Иоанн унаследовал ошибочную дату восшествия Юстина на престол от Виктора Тонненского — Свод I. С. 394). Однако 10-й год, по ошибочному мнению Иоанна, — последний год правления Юстина. Ясно, что, сводя информацию воедино, Иоанн вынужден был сгруппировать под ним все события до смерти Юстина и официального воцарения Тиверия — до осени 578 г. Таким образом, и он свидетельствует о том же самом славянском нашествии. 781 Men. Hist. Fr. 47.: Свод I. С. 318/319. 782 Men. Hist. Fr. 47.: Свод I. С. 318/319; Io. Bicl. A. 576.: Свод I. С. 396. 783 Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 318/319. 784 Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 318–321. 785 Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321. 786 Men. Hist. Fr. 48.: Свод I. С. 320/321. 787 Men. Hist. Fr. 63.: Свод I. С. 321/323. 788 Тиверий отказался от титула «Антский», позднее, в 582 г., когда Империя вновь воевала с аварами, восстановленного Маврикием (Свод I. С. 262). Ради заключения явно нового союза с антами в 580-х гг. Империи пришлось «подкупать» их (Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца и Бар-Эбрея — Свод I. С. 284–286). 789 Это год свиньи (протоболг. дохс) по двенадцатилетнему дальневосточному циклу. Годом свиньи датировано восшествие «Гостуна наместника» в «Именнике болгарских князей» (Именник, 1981. С. 11). Проблема хронологии «Именника» более чем сложна, и указанная датировка не может считаться безусловной (см. указанное издание). Тем не менее использование двенадцатилетнего цикла у древних болгар сейчас уже не вызывает сомнений. Датировке 60-летнего правления преемника Гостуна, Куврата (Курта) по начало 640-х гг. едва ли можно предложить уверенную альтернативу. Преемник или второй преемник Куврата, хорошо известный Аспарух, также предводительствовал 60 лет — до рубежа VII/VIII вв. С учетом дат двенадцатилетнего цикла, датируем правление Гостуна 579–581 гг. Использование болгарами особого, отличного от китайского и тюркютского счета лет (например, чисто «лунного» года) ничем не доказывается. Не вполне ясно значение числовых определителей рядом с «животными» названиями годов в «Именнике». Обычно они толкуются как месяцы восшествия на престол. Но в дальневосточных традициях это номера годов по пересекающемуся с двенадцатилетним десятилетнему циклу. В первой части «Именника» (до Аспаруха) при сроке правления, кратном 10, «номера» при годах восшествия на престол правителя и его преемника совпадают. Что касается второй, балканской части, то здесь видим сбои и в двенадцатилетнем цикле. Не исключено, что ее в VIII в. составлял уже плохо разбиравшийся в древнеболгарской хронологии автор. К тому же в перечне балканских ханов, кажется, есть подчистки — вычеркнут, например, свергнутый хан Сабин. Однако возможно и иное толкование этого пропуска — перечень мог быть составлен именно при Сабине. Названный в нем последним хан Умор вообще не упомянут византийскими хронистами и мог являться просто кратковременным узурпатором в правление Сабина или прямо перед ним. Вообще, и «сбои» могут объясняться какими-то неизвестными нам деталями внутриболгарской жизни — например, соправительством некоторых ханов, — да и ошибками переписчиков. 790 Men. Hist. Fr. 63.: Свод I. С. 322/323. 791 Об имени см.: Свод II. С. 45–46. 792 Феофилакт вводит Ардагаста в повествование без всяких пояснений, возможно, как лицо, упоминавшееся у предшественника (Менандра) — Theoph. Sim. Hist. I. 7: 5.: Свод II. С. 14/15. 793 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1–6.: Свод II. С. 22/23. 794 Преемник (наследник?) Радогоста на Дунае, Пирогост, именуется лишь «филархом» и «таксиархом» (Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 13; 5: 4.: Свод II. С. 34/35). «Мусокий» недвусмысленно именуется «риксом» в отличие от Радогоста (Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 1.: Свод II. С. 22/23). 795 Об аварских грабежах во Фракии в последний год Юстина и первый год Тиверия (578–579) сообщает Иоанн Бикларский (Свод I. С. 397). Сведения об осаде столицы «со стороны Длинной стены», скорее всего, преувеличены или относятся к упомянутым далее военным действиям 3 года Тиверия (т. е. 580/581). 796 Men. Hist. Fr. 63.: Свод I. С. 322–325. 797 Война началась, когда аварские послы еще были в Константинополе (Men. Hist. Fr. 64.: Свод I. С. 323–326). Иоанн Эфесский относит начало нашествия к третьему году царствования Тиверия после смерти Юстина (Свод I. С. 278/279). Год этот начался в начале октября 580 г. Тем же годом Иоанн Эфесский датировал возведение моста и падение Сирмия. Л. Нидерле по недоразумению связал с этим нашествием сообщение Иоанна Бикларского о войне с аварами в третий год Тиверия, то есть о Сирмийской войне (Свод I. С. 396, 398; Нидерле, 2001. С. 91). О славянском нашествии Иоанн Бикларский сообщил под небывалым пятым годом Тиверия (умершего в 582 г. на четвертом году правления), очевидно, отмечая его кульминацию (Свод I. С. 396). 798 Men. Hist. Fr. 64.: Свод I. C. 326/327. Иоанн Эфесский говорит сперва об Элладе и Фессалониках и лишь затем о Фракии (Свод I. С. 278/279). Иоанн Бикларский называет Иллирик раньше Фракии (Свод I. С. 396). 799 Свод I. С. 278/279 (Иоанн Эфесский). 800 Men. Hist. Fr. 64.: Свод I. С. 324–327. 801 Именник, 1981. С. 11. Куврат (Курт) взошел на престол в год быка (протоболг. шегор) после двух лет правления Гостуна. Это соответствует 581 г. Вероятно, он был законным правителем болгар-оногур. Никифор, говоря о событиях 630-х гг., без пояснений называет Куврата племянником некоего Органа (Ур-хана?), ближе неизвестного. Может быть, Органа упоминал кто-то из предшественников Никифора либо его источник. О нем говорит еще коптский историк Иоанн Никиусский (Чичуров 1980. С. 161, 175), как раз и сообщающий о воспитании Куврата в Константинополе. Идентификации Органа с претендентом на власть у тюрок в VII в. Мохэду или тем более с Гостуном, отмеченные в науке, представляются некоторым насилием над реальными данными источников. Молодой возраст Куврата в момент восшествия на престол доказывается длительностью его правления — 60 лет. 802 Свод I. С. 398 (Иоанн Бикларский). 803 Свод I. С.278/279. Т. Олайош толкует как «Фессалию» (Олайош Т. К вопросу об истории заселения балканских земель славянами.// Oikoumene. Budapest, 1976. Vol. 1. P. 244–245). 804 Чудо 12 (Свод II. С. 96–101). О датировке см.: Свод II. С. 182 (Прим. 3). По большому счету, нет оснований думать, что в главах 12–15 «Чудес» нарушена хронологическая последовательность. А значит, нападение «варваров», описанное в 12-й главе, произошло ранее большой осады, которую мы склонны датировать 586 г. В связи с этой осадой Иоанн пишет: «никогда так близко не видели осаждающих врагов, и многим был незнаком даже вид их, кроме тех, кто был зачислен в воинские отряды, и тех, кто привык как-либо выступать против них с оружием далеко от города» (Свод II. С. 106/107; курсив наш). Итак, не только воины гарнизона, но и некоторые из горожан уже не раз имели дело со словенами, и в 586 г. те лишь впервые подступили к городу вплотную. 805 Свод II. С. 96–101. 806 Свод I. С. 278/279. 807 У Иоанна Бикларского «пятый год» (также последний) — Свод I. С. 398. 808 Свод I. С. 278/279 (Иоанн Эфесский), 398 (Иоанн Бикларский). 809 Падение крепости относится примерно к концу VI в. (Федоров — Полевой, 1973. С. 221). В письменных источниках о нем не говорится. 810 Свод I. С. 278/279. 811 Седов, 1995. С. 157, 162. 812 Седов, 1995. С. 162. 813 Седов, 1995. С. 157, 160, 162. 814 Седов, 1995. С. 162. 815 Об этом прямо пишет Иоанн Эфесский: «благодаря тому, что царь [Маврикий] был занят персидской войной и все свои войска посылал на восток» — Свод I. С. 278/279. 816 Точная датировка из «Хронографии» Феофана, которая здесь не зависит от Феофилакта Симокатты, нашего основного источника сведений об аваро-ромейских войнах времен Маврикия. Войны 583–586 гг. описаны Феофилактом: Theoph. Sim. Hist. I. 3–8. См. перевод С.П. Кондратьева: Феофилакт Симокатта. История. М., 1996. С. 12–21. Относительно хронологии аваро-славянских вторжений существуют разные версии (Kollautz A., Miyakawa H. Geschichte und Kultur eines volkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes. Bd. 1. Klagenfurt, 1970; Olajos Th. Les sources de Theophylacte Simocatta Historien. Leiden, 1988; Whitby M. The emperor Maurice and his Historian: Theophylact Simocatta on Persian and Balkan warfare. Oxford, 1988). Представляется, что хронология должна основываться на свидетельствах Феофилакта с учетом Феофановой даты; свидетельства других источников и тем более те свидетельства Феофана, которые всецело восходят к Феофилакту, но иначе датированы, должны привлекаться уже после установления общей канвы. По Феофилакту, мир с аварами был заключен перед вступлением Маврикия на престол (лето 582 г.) и продержался «не больше двух лет» (больше одного года?). В мае 583 г., как мы помним, произошел разрыв отношений, и «летом», в пору сбора урожая (в конце лета — начале осени 583 г.), каган напал на Сингидун. Спустя три месяца то ли после начала войны, то ли после взятия Анхиала (в конце 583-го или в первых месяцах 584 г.) имели место неудачные переговоры с каганом послов Элпидия и Коментиола. «На следующий год» второму посольству Элпидия удалось добиться мира — неясно, еще в 584-м или уже в начале 585-го. Войну со словенами Радогоста (Свод II. С. 12–15) следует, видимо, датировать летом — осенью 585 г. (Olajos, 1988. P. 168). Это самый слабый элемент хронологии, но представляется, что дата достаточно четко определяется дальнейшими указаниями на времена года. Той же осенью (585 г.) вновь стали обостряться отношения с аварами. Посольство кагана (тогда же? весной 586?) было задержано на полгода, и в 586 г. авары вновь вторглись в Империю. Кампания 587 г., в которой ромейскими войсками командовал Коментиол, уже вполне точно датирована синхронными событиями Персидской войны и подробно описана Феофилактом (II. 10: 8–17: 13). События, известные из иных источников, теперь сравнительно легко распределяются по годам. Так, не вызывает сомнений, что Евагрий под двумя вторжениями авар до Длинных Стен (Euagr. Hist. Eccl. VI. 10: 21; ср.: Свод I. C. 287, 342) имеет в виду войны 583–584 гг. (когда были захвачены названные им Сингидун и Анхиал) и 586–587 гг. Столь же очевидно, что Иоанн Эфесский в изложении Михаила Сирийца (Свод I. С. 284/285) и Бар-Эбрея (Свод I. С. 286/287) описывает первую из этих войн — он прямо говорит о взятии Анхиала (см.: Пигулевская Н. В. Сирийская средневековая историография. М., 2000. С. 315–316, где для 582–583 гг. дан расчет, с которым в целом совпал и наш). Наконец, хорошо встраивается сюда и осада Фессалоник словенами в сентябре 586 г. (ЧСД, гл. 8, 13–15.: Свод II. С. 102–125). Неудачное посольство кагана, о котором Иоанн, автор Первого собрания «Чудес», сообщил вначале, — то же, что и задержанное посольство у Феофилакта. Для второй возможной даты событий из ЧСД — 597 г., таких четких параллелей не находим, потому присоединяемся к точке зрения исследователей, датировавших осаду 586 г. — Ф. Баришича (Баришић Ф. Чуда Димитриjа Солунског као историски извор. Београд, 1953. С. 57–67), П. Лемерля (Lemerl, 1981. P. 69–73), О.В. Ивановой (Свод II. С. 186–187) и др. 817 Свод I. С. 284–287 (Иоанн Эфесский). 818 Об этом прямо говорит Иоанн Эфесский применительно к словенам и, что примечательно, лангобардам — «они также были в подчинении у хагана, царя авар» (Михаил Сириец: Свод I. С. 284/285); «они пришли в подчинение к хакану» (Бар-Эбрей: Свод I. С. 286/287). Ему вторит Иоанн из Фессалоник («весь народ был ему тогда подвластен» — ЧСД, 117.: Свод II. С. 102/103). 819 Theoph. Sim. Hist. VI. 3: 9.: Свод II. С. 16/17 (словене в окрестностях Сингидона); VI. 11: 6.: Свод II. С. 28/29 (какие-то придунайские племена, скорее в низовьях). 820 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 17.: Свод II. С. 28/29 (однозначно имеются в виду дунайцы Радогоста). Но ср. VII. 15: 14 (Свод II. С. 38/39) — при юридическом оформлении отношений с ромеями каган четко отделяет нижнедунайских словен от авар. Как представляется, недаром в первом отрывке каган еще именует себя «владыкой всякого народа» (VI. 11: 8.: Свод II. С. 28/29). 821 «Аварские» наконечники стрел найдены в Сэрата-Монтеору (Федоров — Полевой, 1973. С. 296). Славянские и аварские захоронения на землях каганата и в Греции с трудом могут быть различены; у славян здесь также преобладают трупоположения (ср.: Седов, 1995. С. 109 след., 158–159). Наконец, поздние, Х в., греческие авторы (Монемвасийская хроника, Константин Багрянородный) уже прямо отождествляют авар и словен в Греции и Далмации — Свод II. 328/329; Константин Багрянородный 1991. С. 110/111. 822 Theoph. Sim. Hist. I. 4: 1–4.: Феофилакт 1996. С. 14; Свод I. С. 284–287 (Иоанн Эфесский). Иоанн пишет о взятии объединенным войском трех народов «двух городов» еще до Анхиала. Он имеет в виду, конечно, Сингидун и Виминакий — наиболее серьезные успехи кагана. То же нашествие имеет в виду Евагрий (Euagr. Hist. Eccl. VI. 10: 21.: Свод I. C. 342), — но не отделяет его от событий 586–587 гг., характеризуя ситуацию в целом. 823 Об этом сообщает Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца: Свод I. С. 284/285. 824 Седов, 1995. С. 129, 131. 825 Свод I. С. 284/285 (Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца). Взятие Коринфа произошло между вторжением в Мезию и взятием Анхиала. О бегстве жителей на Эгину сообщает Монемвасийская хроника: Свод II. С. 328/329. Об археологических свидетельствах см.: Седов, 1995. С. 166. Евагрий (Euagr. Hist. Eccl. VI. 10: 21.: Свод I. C. 342) пишет в единой связке о захвате «Сингидуна, Анхиала и всей Эллады». Но поскольку он в целом повествует о событиях 583–584 и 586–587 гг., нет уверенности, что он имеет в виду именно коринфский поход, а не сокрушительное вторжение словен и авар на Пелопоннес в 587 г. 826 Седов, 1995. С. 159, 160, 166. Мнение о возвращении Коринфа Империей уже к 587 г. высказали А. Коллауц и Х. Миякава (Kollautz — Miyakawa, 1970. S. 284–285). Но это, скорее всего, ошибка. Монемвасийская хроника, на которую в этой связи ссылаются, ясно говорит о бегстве коринфян в 580-е гг. на Эгину и о наличии власти Империи «от Коринфа до Малеи» к рубежу VIII/IX в., но не ранее. Сообщает хроника, кстати, и о бегстве жителей Аргоса (также восточный Пелопоннес) (Свод II. С. 328/329). Восточная часть Пелопоннеса была гораздо больше разорена в конце VI в., чем западная (Седов, 1995. С. 166). Одно это указывает на невозможность интерпретировать сведения хроники о ее «свободе от славян» как относящиеся ко времени нашествия. 827 Основание Монемвасии спартанцами Монемвасийская хроника относит, кажется, к 587 г., но к тому же времени там относится и бегство коринфян (Свод II. С. 328/329). Поздняя (XVII в.) греческая «малая хроника» позволяет отнести заселение крепости к 582/3 г. (Свод II. С. 338). Наконец, патриарх Николай III и вслед за ним Исидор прямо связывают бегство из Спарты с падением Коринфа под ударом «оногуров» (Свод II. С. 340). О времени реального основания Монемвасии см.: Kalligas H. A. Byzantine Monemvasia. The sources. Monemvasia, 1990. P. 23–38. 828 Свод I. С. 262. Титул упоминается еще в императорском письме 584 г. 829 Свод I. С. 284/285 (Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца). Ср.: Свод I. С. 286/287 (Бар-Эбрей). Иоанн Эфесский помещает разоренную антами страну словен «на запад от реки, называемой Данубис». Считать эту область реально «западной», допустим, Паннонией было бы по меньшей мере странно — откуда тогда выступили анты? Представляется, что Иоанн, сириец, живший в Малой Азии и Константинополе, оценивал как «западные» все земли на запад от дельты Дуная. Для человека средневековья стороны света определялись не столько показаниями компаса, сколько направлением движения в соответствующую страну. Северо-запад, да и просто север от «западной» реки легко превращались в «запад». 830 Иоанн Эфесский (Свод I. С. 284/285, 286/287) следует в своем изложении за словенами, Феофилакт (1996. С. 14–15) — за главными силами кагана. Объединить все действия «варваров» попытался в своей краткой суммарной характеристике лишь Евагрий Схоластик. 831 Свод I. С. 284/285 (Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца); Theoph. Sim. Hist. I. 4: 4.: Феофилакт, 1996. С. 15. 832 Theoph. Sim. Hist. I. 4: 4–5.: Феофилакт, 1996. С. 15. 833 Свод I. С. 284/285 (Иоанн Эфесский у Михаила Сирийца). 834 Theoph. Sim. Hist. I. 4: 6–6: 3.: Феофилакт, 1996. С. 15–18. 835 Свод I. С. 278/279. 836 Theoph. Sim. Hist. I. 6: 4–6.: Феофилакт, 1996. С. 18–19. 837 Приток славян в будущую Хорутанию (Карантанию) с востока относится примерно к 580-м гг. (Grafenauer, 1978. C. 298–312). К середине 590-х гг. альпийские словене уже зависели от кагана (Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 10.: Свод II. С. 484/485). Ср.: Седов, 1995. С. 274–276. 838 Slovenska ljudska pripoved. Ljubjana, 1966. S. 42. Упоминается о неудачных попытках поселиться на «берегу Черного моря», в Польше, в Германии. Все это, видимо, отражает не реальные факты, а географические и климатические познания сказителя. 839 Slovenska ljudska pripoved. S. 29–30 (предания «Пес Марко» и «Аттила»; см. также примечания к текстам — S. 112). Предания об Аттиле изначально, вероятно, принадлежали не славянскому, а местному романскому фольклорному фонду. 840 Седов, 1995. С. 275–276. Возможно, со словенами здесь смешивались и авары (в одном из захоронений конца VI в. найдены стремена, что характерно для кочевников). 841 Известно о гепиде-христианине, жившем в племени Мусокия (Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 13.: Свод II. С. 22/23). 842 Седов, 1995. С. 166. 843 Theoph. Sim. Hist. I. 7.: Свод II. С. 12–15. Феофан (Свод II. С. 254/255) всецело зависит здесь от Феофилакта, вкратце повторяя сведения источника. 844 Theoph. Sim. Hist. I. 7: 1–3.: Свод II. С. 12/13. 845 Theoph. Sim. Hist. I. 7: 3–4.: Свод II. С. 12–15. 846 Theoph. Sim. Hist. I. 7: 5–6.: Свод II. С. 14/15. 847 Theoph. Sim. Hist. I. 8.: Феофилакт, 1996. С. 20–21. 848 ЧСД, 117.: Свод II. С. 102/103. 849 ЧСД, 117–118, 126.: Свод II. С. 102–105, 106–109. По оценке Иоанна, это было «самое большое войско, какое можно видеть в наши времена». Однако агиограф Иоанн, не в пример историку Менандру, писавшему о нашествии 577 г., с долей скепсиса отнесся к цифре в 100 000 воинов («постичь истину было нельзя, мнения видевших разделились»). Он предпочитает просто подчеркивать численное превосходство врага («если кто-либо представил бы себе не только всех македонцев, но и фессалийцев и ахейцев собранными тогда вместе в Фессалонике, то не получилось бы и ничтожнейшей части тех, кто окружил город снаружи»). Впрочем, огромная численность нападавших подтверждается характером использовавшихся ими осадных орудий — для их быстрого (не более суток) строительства и использования требовалась не одна тысяча человек; использовались же орудия по всей протяженности стен Фессалоники. 850 ЧСД, 125, 136.: Свод II. С. 106/107, 110/111. 851 ЧСД, 118.: Свод II. С. 104/105. 852 ЧСД, 119, 121.: Свод II. С. 104/105 853 ЧСД, 120–121, 136.: Свод II. С. 104–107, 110/111. Иоанн полагает, что безвестным воином был сам святой Димитрий Солунский; на стенах же в виду горожан появились «неизвестные воины, и притом такие, каких никто в городе никогда не видел». 854 ЧСД, 124, 127–128.: Свод II. С. 106/107, 108/109. 855 ЧСД, 122–124, 137.: Свод II. С. 106/107, 110–113. 856 ЧСД, 138.: Свод II. С. 112/113. 857 ЧСД, 139, 146, 151.: Свод II. С. 112/113, 114/115, 116–119. 858 ЧСД, 138, 139.: Свод II. С. 112/113. 859 ЧСД, 138, 139, 145–146.: Свод II. С. 112/113, 114/115 860 ЧСД, 137, 139.: Свод II. С. 112/113. О раздельном использовании провианта можно сделать вывод из упоминания, что позже осаждавшие «грабили друг друга» (ЧСД, 158, 160.: Свод II. С. 120/121, 122/123). 861 ЧСД, 136, 143.: Свод II. С. 110/111, 112–115. 862 ЧСД, 147–148.: Свод II. С. 114–117. 863 ЧСД, 154.: Свод II. С. 120/121. 864 ЧСД, 151, 153.: Свод II. С. 118/119. 865 ЧСД, 151–153.: Свод II. С. 118–121. 866 ЧСД, 155.: Свод II. С. 120\\121. Об идентификации упомянутых Иоанном «Иноратских» ворот см.: Свод II. С. 190. Прим. 64. 867 ЧСД, 163.: Свод II. С. 122/123. 868 ЧСД, 69, 137.: Свод II. С. 112/113, 124/125. 869 ЧСД, 157.: Свод II. С. 120/121. 870 ЧСД, 157.: Свод II. С. 120/121. 871 ЧСД, 157.: Свод II. С. 120/121. 872 ЧСД, 159–160.: Свод II. С. 120–123. 873 ЧСД, 161.: Свод II. С. 122/123. Так изображали Димитрия Солунского. 874 ЧСД, 163.: Свод II. С. 122/123. 875 ЧСД, 69.: Свод II. С. 124/125. 876 См.: Седов, 1995. С. 339. 877 Евагрий (Свод I. С. 342) приписывает разорение «всей Эллады» в 583–584 или 586–587 гг. аварам, но его очерк событий предельно обобщен. В Монемвасийской хронике вторжение в Элладу описывается как «второе вторжение» аварского кагана, а Пелопоннес захватывают «авары». Но далее авары внезапно превращаются в славян (Свод II. С. 328/329). Наконец, в «Схолии Арефы», который использовал близкие с Монемвасийской хроникой источники, захватчики именуются только славянами, а об аварах нет ни слова (Свод II. С. 348/347). Константин Багрянородный, рассказывая о борьбе со славянами Пелопоннеса в трактате «Об управлении Империей», также вообще не упоминает авар. 878 Свод II. С. 328/329 (Монемвасийская хроника), 346/347 (Схолия Арефы); Гимбутас, 2003. С. 126; Седов, 1995. С. 165 (археологическими подтверждениями нашествия служат массовые опустошения в названных областях). 879 Монемвасийская хроника и Арефа датируют захват Пелопоннеса шестым годом Маврикия (14 августа 587 — 14 августа 588 г.) (Свод II. С. 328/329, 346/347). Монемвасийская хроника при этом справедливо уточняет — 6096 г. от сотворения мира (1 сентября 587 — 31 августа 588 г.). Патриарх Николай III (XI в.), называя тот же срок владычества иноплеменников на Пелопоннесе (218 лет), ошибочно датировал его начало 589 г. (Нидерле, 2001. С. 60). 880 Свод II. С. 328/329. Идентификацию с нынешним островом Рови см.: Kresten O. Zur Echtheit des Kaisers Nikephoros I fur Patras// Romische historische Mitteilungen. Rom — Wien, 1977. Hf. 19. S. 49–50. Х. Каллигас полагает, что Аргос пал лишь во второй половине VII в., когда в нем прекратилась жизнь эллинов (Kalligas 1990. P. 29). Но славяне могли захватывать город и дважды. 881 Свод II. С. 328/329, 346/347. Некоторые исследователи предполагают, что Патры вообще не захватывались словенами (Kresten 1977. S. 52; Свод II. С. 336. Прим. 11). Основания — свидетельство Константина Багрянородного о большой роли Патр как опорного пункта Империи в начале IX в. (Константин Багрянородный, 1991. С. 216/217). Это действительно противоречит известиям местных хроник о восстановлении Патр лишь после победы над славянами в указанное время. По Константину, та война началась как раз с осады Патр. Но все это имеет отношение к истории начала IX, а не конца VI в. По большому счету, нет оснований датировать «выселение» Патр (сколько бы оно не продолжалось на самом деле) иначе, чем порой словенского нашествия 587–588 гг. Нет оснований отрицать и временный захват города словенами. В целом, впрочем, западная часть Пелопоннеса не пострадала (Седов, 1995. С. 166). Словене пришли сюда позже и, видимо, относительно мирно (находки в Олимпии, относящиеся к VII в. — Седов, 1995. С. 158–159, 162). 882 Свод II. С. 328/329. См. также: Седов, 1995. С. 166. Известие о падении Аргоса и археологические данные противоречат утверждению местных хронистов о сохранении Империей «восточной части Пелопоннеса от Коринфа до Малеи» — если относить это утверждение к концу VI, а не к началу IX в. 883 Свод II. С. 328/329 («напав… на Пелопоннес, они овладели им силой и, отбросив и унизив благородные эллинские народы, поселились на нем сами»), 346/347 («изгнали и унизили природные эллинские племена, а сами поселились»). Еще более сгустил краски патриарх Николай III (218 лет здесь «ни один ромей не смел появляться» — Нидерле, 2001. С. 60, 91). 884 Не считая раннего (из древнегреческого) заимствования *medь, в вышедших томах ЭССЯ отмечены два относительно бесспорных, и притом общеславянских заимствования: *bolenъ ‘вид рыбы’ (от греч. ‘кит’ — ЭССЯ. Вып. 2. С. 172), *kadь ‘кадь’ (ЭССЯ. Вып. 9. С. 112–113). К ним можно гипотетически добавить еще одно: *cabrъ ‘чабрец’ (ЭССЯ. Вып. 4. С. 101–102). Наконец, слово *nedel’a ‘воскресенье’ — калька с греческого слова со значением ‘нерабочий день’ (ЭССЯ. Вып. 24. С. С. 115–117). Даже при известной неполноте выборки ясен случайный и редкий характер заимствований. Их число несопоставимо даже с числом заимствований из кочевнических языков (иранских и тюркских), не говоря уже о языках германских и романских. Что касается славянских заимствований в новогреческих диалектах (Малингудис Ф. За материалната култура на раннославянските племена в Гръция.// Исторически преглед. Т. XLI. Кн. 9–10. София, 1985. С. 64–71; Malingoudis Ph. Fruhe slawische Elemente im Namensgut Griechenland // Die Volker Sudosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert. Munchen, 1987. S. 53–65), то они связаны с ассимиляцией славян греками начиная с IX в., когда на Пелопоннесе установился относительный мир. 885 Константин Багрянородный, 1991. С. 24/225, 440–441 (примечания Г.Г. Литаврина). 886 Свод II. С. 328/329. Иногда подозревают славянское происхождение этнонима «цаконы» (См. примечания Г.Г. Литаврина: Свод II. С. 337–338). 887 Ср.: Седов, 1995. С. 129, 131, 158–159, 162. 888 Помимо заимствований в новогреческих диалектах, свидетельство тому — мощный пласт славянской топонимики на Пелопоннесе (Malingoudis 1987). 889 Об этом свидетельствует состав заимствований в греческий язык (Малингудис 1985). 890 Свод II. С. 328/329, 891 Константин Багрянородный, 1991. С. 220/221. 892 Таких имен известно немало, некоторые (Милеш, Милята, Милик, Миливой, Миляй, *Milьсь) со смягченным — л-. Ср. еще белорусскую фамилию «Милевич». См. ЭССЯ. Вып. 19. С. 32–49. 893 Константин Багрянородный, 1991. С. 220/221, 435 (Прим. 16). 894 Находка «антской» пальчатой фибулы (Седов, 1995. С. 159–160). 895 Константин Багрянородный, 1991. С. 220/221; Georgakis D. The Medieval Names Milingi and Ezeritas of Slavic Groups in the Peloponesus// Byzantinische Zeitschrit. Bd. 49. Munchen, 1950. S. 327–330. В IX в. под давлением ромеев езеричи сместились к северу, обосновавшись на труднодоступном восточном склоне Тайгета, тогда как милинги отошли на западный (Константин Багрянородный, 1991. С. 220/221). 896 Константин Багрянородный, 1991. С. 224/225. 897 Константин определяет положение Майны именно относительно Езера, употребляя при этом славянское название: «у грани Малеи, по ту сторону Эзера по направлению к приморью» (Константин Багрянородный, 1991. С. 225). 898 См.: Феофилакт, 1996. С. 50–63. 899 Theoph. Sim. Hist. III.4: 7.: Свод II. С. 14/15. 900 По Фоме, в завоевании Далмации участвовали три племени: готы, приведенные ими «лингоны» (они же славяне), хорваты («куреты»), причем последние будто бы уже жили в Далмации и лишь позже смешались с «лингонами» (Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М., 1997. С. 35–36, 240). Писавший на три столетия ранее Константин Багрянородный говорит о двух враждебных друг другу волнах завоевателей — аваро-славянах («славянские… племена, которые называются также аварами») и хорватах (Константин Багрянородный, 1991. С. 110–113, 128–131, 136/137). Славяне, пришедшие с аварами, несомненно, тождественны «лингонам» Фомы. Позже, с VII в., они действительно смешались с хорватами. 901 Фома Сплитский, 1997. С. 35/240. 902 Лингоны — древнее кельтское племя. См.: Фома Сплитский, 1997. С. 159–160 (комментарий О. А. Акимовой). Непосредственным источником для образования формы «лингоны» могло послужить венгерское lengyen ‘лендзяне, поляки’ (См.: ЭССЯ. Вып. 15. С. 44). Далмация в XIII в. входила в состав Венгерского королевства. Доказательством участия лендзян во вторжениях авар в Иллирик может служить сербохорватский топоним Ledan (ЭССЯ. Вып. 15. С. 44). 903 Константин Багрянородный, 1991. С. 110/111, 128/129. 904 Константин Багрянородный, 1991. С. 110/111, 128/129, 363 (прим. 9). 905 Фома Сплитский, 1997. С. 35/240. 906 Константин Багрянородный, 1991. С. 110/111, 128/129. В первом случае он даже говорит о «безоружных племенах». Впрочем, другой вариант объясняет это тем, что мужчины в момент нападения ромеев из Клиса «находились в военном походе». 907 По словам славянских послов, которые уже в октябре 590 г. попали в руки ромеев после пребывания в ставке кагана, дорога туда заняла у них пятнадцать месяцев (Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 13.: Свод II. С. 16/17). Аварские послы, пробиравшиеся по неизведанным землям, едва ли потратили намного меньше времени. 908 Theoph. Sim. Hist. VI. 2: 10–16.: Свод II. С. 14–17. В науке долго господствовало скептическое отношение ко всей этой истории. Л. Нидерле, к примеру, определил повествование славян как «явную отговорку трех захваченных разведчиков, и к тому же перифразу древних сообщений о гетах» (Нидерле, 2001. С. 46). Археологические исследования последних десятилетий, однако, подтвердили факт подкупа поморской знати монетами Маврикия — то есть деньгами, которые каган получал в качестве откупа с ромеев (Herrman 1972). Тот же факт, что племена по Нижней Одре — поморяне и брежане — не откликнулись на призыв кагана, можно подтвердить их отсутствием на Балканах, в отличие от ободричей, смолян и стодорян. То, что славянские послы льстили Маврикию и преувеличивали миролюбие своего племени (о чем шла речь выше), не доказывает лживости всего рассказа. По большому счету, есть основания доверять всей канве изложенных фактов. 909 Annales regni Francorum. Hannover, 1895. A. 824. 910 Нидерле, 2001. С. 89. 911 Нидерле, 2001. С. 75. 912 Historia kultury 1978. S. 26, 35, 38. 913 Седов, 1995. С. 51–54. 914 Седов, 1995. С. 52–53 (погребальные памятники неизвестны, что сопоставимо с суковским материалом — венеды разбрасывали останки умерших на поверхности). 915 Седов, 1995. С. 52. 916 Herrmann J. Zu den kulturgeschichtlichen Wurzeln und zur historischen Rolle nordwestslawischer Tempel des fruhen Mittelalters // Slovenska archeologia. Bratislava, 1978. T. XXVI. S. 19–28. 917 Седов, 1995. С. 51, 54. 918 Седов, 1995. С. 52 (карта). 919 Седов, 1995. С. 43. 920 Седов, 1995. С. 47. 921 Седов, 1995. С. 51–52, 54. 922 Седов, 1995. С. 54. 923 Веселовский А. Н. Русские и вильтины в «Саге о Тидреке Бернском». СПб., 1906. 924 Веселовский 1906. С. 134–135. 925 Веселовский 1906. С. 136–138. 926 Седов, 1982. С. 66. 927 См., например: Федотов Г. П… Стихи духовные. М., 1991. С. 125–128; Былины. Русский музыкальный эпос. М., 1981. С. 470–471, 479–485; Голубиная книга. М., 1991. С. 34–48. 928 К этому времени относится его первая запись — «Повесть о царе Волоте Волотовиче» (Известия отделения русского языка и словесности. СПб., 1913. Вып. 18. Ч. 1. С. 78–81). 929 См., напр.: Федотов, 1991. С. 65 след.; Селиванов Ф.М. Русские народные духовные стихи. М., 1993. С. 23; Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология.// Славянская мифология. С. 14. 930 Wilzi — латинская форма, смешивающая, видимо, самоназвание «велеты» и славянское слово «волки» (так, возможно, велетов называли враждебные соседи — ободричи). Форма «лютичи» появилась в Х в. и несомненно как-то перекликается с традиционным для славянского фольклора образом «лютого зверя» (ср.: ЭССЯ. Вып. 15. С. 225). 931 Основаниями для датировки, как представляется, должны служить указание у Феофилакта на девятый год правления Маврикия (14 августа 590 — 13 августа 591 гг.) и на солнечное затмение (5 октября 590). Феофан описывает поход к Анхиалу именно под октябрем 590 г. Вместе с тем Феофилакта можно понять так, что поход произошел после окончания Персидской войны (то есть не ранее осени 591 г.) и, следовательно, после затмения 19 марта 592 г. Феофан, в результате, повторяя Феофилакта, дважды на основании разных источников описывает одно и то же предприятие Маврикия. См. о походе: Theoph. Sim. V. 16-VI. 3.: Феофилакт 1996. С. 156–162; Свод II. С. 14–17 (фрагмент о славянах), 47–48 (прим. 24). Ср. также Свод II. С. 254/255 (рассказ о славянах у Феофана). 932 У Феофилакта назван правивший с 596 г. Теодорих. Конечно, прав П. Шрайнер, считающий, что Феофилакт смешал его с отцом — Хильдебертом (Theophylaktos Simokates. Geschichte. Stuttgart, 1985. S. 325–326). Высказанная немецким исследователем идея о двух франкских посольствах к Маврикию интересна, хотя, как кажется, необязательна. Во всяком случае, нет нужды на базе одного известия о посольстве «Теодориха» ломать всю хронологическую сетку 590-х гг., стягивая под одни даты события явно разных лет, как поступали некоторые исследователи (Labuda G. Chronologie des guerres de Bysanze contre les Avares et les Slaves а la fin du VI s.// Byzantinoslavica. Prague, 1950. Vol. 11, № 2; Duket T. A. A study in Byzantine historiography. Boston, 1980. P. 34–65). 933 Письмо папы Григория I Великого коринфскому епископу, где речь идет об объезде последним своей епархии, датируется 591 г. См. Свод II. С. 337 (прим. 21). 934 Следуем здесь, как и с анхиальским походом, датировке П. Шрайнера (Theophylaktos, 1985. S. 326). Вопрос о дальнейшей хронологии Феофилакта чрезвычайно запутан. В науке встречаются разные определения дат, в том числе оригинальная версия Лабуды — Дакета, о которой речь шла выше. Ср. также: Феофилакт 1996. С. 262 след.; Вернадский 2000. С. 199–202. Как представляется, расчеты, лежащие в основе датировок П. Шрайнера и С. А. Иванова (Свод II. С. 149 след.) наиболее соответствуют букве источника и немногочисленным параллельным сведениям других авторов. 935 Theoph. Sim. Hist. VI. 3: 9.: Свод II. С. 16/17. 936 «Чего не сделает страх перед поставленными начальниками», — замечает о словенском усердии Феофилакт (Theoph. Sim. Hist. VI. 4: 5.: Свод II. С. 18/19). 937 Theoph. Sim. Hist. VI. 4: 1–3.: Свод II. С. 16–19. 938 Theoph. Sim. Hist. VI. 4: 4–5.: Свод II. С. 18/19. 939 Theoph. Sim. Hist. VI. 4–6.: Феофилакт 1996. С. 163–166; Свод II. С. 18/19. 940 Paul. Diac. Hist. Lang IV. 7.: Свод II. С. 482/483. Для франков Тассило оставался «герцогом», но для своих подданных — и для писавшего спустя два столетия лангобарда Павла Диаконы — был королем. Ср.: Свод II. С. 492–494. О локализации битвы см.: Там же. С. 494. Прим. 6. 941 Theoph. Sim. Hist. VI. 6: 2; 7: 1.: Свод II. С. 18/19. 942 О союзе местных славян с дунайцами свидетельствует их нападение на ромеев в ходе последующей кампании (Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 3.: Свод II. С. 20/21) 943 Theoph. Sim. Hist. VI. 6: 2; 7: 1.: Свод II. С. 18/19. События описывает также Феофан (Свод II. С. 256–259), всецело следующий здесь Феофилакту. 944 Theoph. Sim. Hist. VI. 6: 7 — 14.: Свод II. С. 18/19; Свод II. С. 256/257 (Феофан). «Геты» — ученое обозначение словен, которое Феофилакт использует и в других местах. 945 Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 1.: Свод II. С. 18/19. 946 Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 1–4.: Свод II. С. 20/21. 947 Theoph. Sim. Hist. VI. 7: 5–8: 3, 8.: Свод II. С. 20/21. Татимера часто считают славянином (Феофилакт 1996. С. 263 — «крещеный славянин, перешедший на византийскую службу»). Но такие данные отсутствуют в источниках. Имя же «Татимер (Тадимер)» — явно германское (Свод II. С. 51. Прим. 53). 948 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 9–10; 9: 1.: Свод II. С. 20–23. 949 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 9–13.: Свод II. С. 20–23. Любопытно, что Феофан Исповедник, признавая религиозную мотивацию действий гепида, вместе с тем дает им однозначную этическую характеристику — «предательство» (Свод II. С. 256/257). 950 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 14–9: 4.: Свод II. С. 22/23. 951 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 5–6.: Свод II. С. 22/23. У Феофилакта говорится о 30 гребцах, а Феофан вообще сильно сокращает эту историю. Представляется, что «30» — ошибка. Представить наличие двух гребцов в каждой лодке более вероятно, чем одного гребца на пять лодок; к тому же нелепым выглядит выставление против тридцати спящих словен в дальнейшем ста или тем более двухсот ромеев. 952 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 7–12.: Свод II. С. 24/25. Дальнейшая судьба перебежчика-гепида, строго говоря, неизвестна. Однако Феофилакт, кажется, отождествляет его с гепидом, арестованным вскоре в Константинополе. Гепид оказался бывшим императорским гвардейцем, во время анхиальского похода 590 г. убившим одного из свитских с целью грабежа. Изобличенного убийцу бросили на растерзание зверям, а останки сожгли (Theoph. Sim. Hist. VI. 10: 4–17: Феофилакт, 1996. С. 176–178). 953 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 12–13.: Свод II. С. 24/25. 954 Theoph. Sim. Hist. VI. 9: 14–15.: Свод II. С. 24/25. 955 Ср.: Свод II. С. 51. Прим. 54 956 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 3–8.: Свод II. С. 20/21. 957 Theoph. Sim. Hist. VI. 8: 8.: Свод II. С. 20/21. 958 Zrodla 1956. S. 180/181 («Китаб ал-мухасил ва’л-аддад», IX в.). Это арабское сочинение говорит, возможно, с преувеличением, о «сорока славянских царях». 959 Theoph. Sim. Hist. VI. 10: 1.: Свод II. С. 24/25. 960 Theoph. Sim. Hist. VI. 10: 1–3.: Свод II. С. 24–27. 961 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 2–4.: Свод II. С. 26/27. 962 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 5–6.: Свод II. С. 28/29. 963 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 7–17.: Свод II. С. 28/29. 964 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 18–21.: Свод II. С. 28/29. 965 Theoph. Sim. Hist. VI. 11: 2, 21.: Свод II. С. 26/27, 28/29. 966 Т. Дакет отождествил Радогоста с оплакивавшимся братом «Мусокия», который, по его мнению, на самом деле остался жив (Duket, 1980. P. 344). Как верно отметил С.А. Иванов, «вряд ли данная гипотеза обоснована» (Свод II. С. 54. Прим. 76). 967 У греческих авторов — ???????????. Об имени см.: Свод II. С. 59. Прим. 121. 968 То, что Пирогост являлся преемником Радогоста, а не просто другим словенским вождем, доказывается не только этим. Ставка его, судя по известию Феофилакта (VII. 4–5.: Свод II. С. 32–37), находилась в тех же областях между Дунаем, Арджешем и Яломицей, что и ставка Радогоста. Как и Радогост, он не титуловался «риксом», будучи лишь «таксиархом» — общим воеводой дунайского племенного союза. 969 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 2.: Свод II. С. 32/33. 970 Предание об этих распрях сохранилось у Масуди (Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870. С. 138). 971 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 15.: Свод II. С. 30/31. 972 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 2.: Свод II. С. 30/31. Разоренные крепости, видимо, названы у Феофилакта в неверной последовательности («разорив Залдапу, Акис и Скопис»). Акис расположен близ Дуная, а как раз неподалеку от Залдапы ромеи столкнулись со словенами. Исследователи почти единогласно сомневаются в достоверности известия о словенском рейде, точнее о его масштабах. Предполагается, что имеются в виду какие-либо неизвестные нам Акис и Скопис вне Дакии (особенно это касается Скописа — Duket, 1980. P. 117; Феофилакт, 1996. С. 264; Акис как дакийский город упоминался у Феофилакта ранее), иначе — что Феофилакт механически внес в текст перечень городов, подвергшихся разным славянским набегам (The History of Theophylact Simocatta. Oxford, 1986. P. 180; Свод II. С. 56). Считается, что столь масштабные действия одного небольшого отряда невероятны. При этом, как представляется, не учитываются два обстоятельства. Во-первых, первоначальная численность словен нам неизвестна. Под стенами каждой из взятых (а может, и из невзятых) крепостей они оставляли какое-то число соратников. Во-вторых, лишь втрое больший словенский отряд в 550 г. произвел страшное опустошение во Фракии, разгромил превосходящую ромейскую армию и создал угрозу для столичного округа — об этом рассказывает Прокопий. В данном случае масштабы и успешность словенских действий гораздо скромнее. 973 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 1–2.: Свод II. С. 28–31. Параллельный текст Феофана о походе Петра — Свод II. С. 260–263. Автор «Хронографии», кажется, вновь всецело следует Феофилакту, местами неверно толкуя его текст (так, он растягивает события на два года) и переставляя факты местами. Хронология действий Петра остается спорной. Так, Г.В. Вернадский полагал, что он действительно командовал войсками несколько лет (Вернадский, 2000. С. 201). Ср.: Свод II. С. 60. Прим. 127. Как представляется, в таких допущениях нет нужды. Петр не удалялся от Дуная дальше, чем Приск, которому нескольких лет не потребовалось. Действия же его на территории Империи просто не могли занять нескольких лет. 974 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 2–9.: Свод II. С. 30/31. 975 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 10–14.: Свод II. С. 30/31. У Феофилакта речь идет о «местах нахождения славян». Таковые и Феофилактом, и Маврикием Стратегом (Свод I. С. 372/373) всегда помещаются за Дунаем. Но Феофилакт не упоминает ни здесь, ни далее о переправе Петра через Дунай. Видимо, правы М. и Л. Уитби, связывающие это умолчание с явной неблагожелательностью историка к стратигу (The History, 1986. P. 185). В «Истории» Петр — невольный злой гений своего талантливого и благочестивого брата, основной виновник его падения. Образ стратига рисуется преимущественно в темных тонах. Феофан, кажется, отнес первую переправу за Дунай ко времени до ранения Петра (Свод II. С. 260/261). К сожалению, в тексте лакуна, и нельзя судить, пользовался ли автор «Хронографии» оригинальными источниками. Во всяком случае, картина, рисуемая Феофилактом, выглядит более или менее логично. Хронология устанавливается на основе упоминания дня святого Луппа (23 августа), проведенного стратигом в Новах (Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 17.: Свод II. С. 32/33). 976 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 15.: Свод II. С. 30/31. Обрывок текста «Хронографии» Феофана можно понять так, что Петр небезуспешно воевал со славянами. Сохранился лишь конец фразы: «и вернулись, завладев множеством пленных, в ромейские края» (Свод II. С. 260/261). Но нет уверенности, что это не интерпретация каких-то сведений Феофилакта. Предшествующий рассказ обрывается на словах об истреблении словенами пленников. Если далее содержались оригинальные сведения о задунайском походе, то следует предполагать утрату слишком большого фрагмента. Вообще, судя по изменениям в дальнейшем тексте, Феофану просто показалось нелогичным, что Маврикий ввиду угрозы отозвал стратига из-за Дуная. Но на самом деле в условиях децентрализации словен одни могли отбиваться от Петра, а другие — атаковать лимес, что Маврикий прекрасно понимал. Аналогичные опасения попали и в его «Стратегикон» (XI. 4: 21.: Свод I. С. 372/373). 977 Theoph. Sim. Hist. VII. 2: 16 — 3: 1.: Свод II. С. 30–33. 978 Theoph. Sim. Hist. VII. 3.: Свод II. С. 30/31; Феофилакт, 1996. С. 182–183. 979 Феофилакт и следующий ему Феофан о переправе не говорят ничего. Однако далее Феофилакт упоминает Иливакий (Яломицу) (Theoph. Sim. Hist. VII. 5: 6.: Свод II. С. 34/35), а значит, дело происходит уже к северу от Дуная. Уитби (The History, 1986. P. 183) и С. А. Иванов (Свод II. С. 58–59) пришли к логичному выводу, что опущенная Феофилактом переправа через Дунай предшествовала описываемой дальше встрече с болгарами. 980 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 1–6.: Свод II. С. 32/33. 981 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 6–7.: Свод II. С. 32/33. 982 Теоретически это мог бы быть и Олт (Свод II. С. 59. Прим. 119). Но от Олта невозможен безводный марш к Иливакию (Яломице), о котором Феофилакт рассказывает далее — на пути не мог не попасться Арджеш. Предполагать, что Петр настолько оторвался от Дуная, что оставил Арджеш к югу, невероятно. Помимо прочего, это противоречит хронологическим указаниям Феофилакта. Очевидно, Олт был форсирован ранее, и об этом Феофилакт умолчал, как и о пересечении Дуная. 983 Theoph. Sim. Hist. VII. 4: 8–13.: Свод II. С. 32–35. 984 Theoph. Sim. Hist. VII. 5: 1–5.: Свод II. С. 34/35. 985 Theoph. Sim. Hist. VII. 5: 6.: Свод II. С. 34/35. Маврикий, возможно, именно в этой связи предостерегал от доверия проводникам-перебежчикам (Strat. XI. 4: 30.: Свод I. С. 374/375). 986 Вероятно, именно экспедицию Петра имеет в виду Маврикий как источник негативных примеров в «Стратегиконе»: XI. 4: 24, 26, 34, 39.: Свод I. С. 372–377. 987 Theoph. Sim. Hist. VII. 5: 6–10.: Свод II. С. 34–37. 988 Theoph. Sim. Hist. VII. 5: 10.: Свод II. С. 36/37. 989 Византиски извори 1955. С. 137. 990 Maur. Strat. XI. 4: 15–26.: Свод I. С. 372–375. 991 Maur. Strat. XI. 4: 36.: Свод I. С. 376/377. 992 Maur. Strat. XII. B. 20: 1.: Свод I. С. 380/381. 993 Maur. Strat. XI. 4: 33–35.: Свод I. С. 374–377. 994 Maur. Strat. XI. 4: 32.: Свод I. С. 374/375. 995 Maur. Strat. XI. 4: 30–31.: Свод I. С. 374/375. 996 Maur. Strat. XI. 4: 15–26.: Свод I. С. 376–381. 997 Theoph. Sim. Hist. VII. 7: 1–3.: Свод II. С. 36/37; Свод II. С. 262/263 (Феофан). В описании аварских войн Феофан более самостоятелен от Феофилакта. Он мог пользоваться как общими с ним, так и собственными источниками, где события этих важных для Империи конфликтов описывались подробнее. Вся хронология войны немало обязана свидетельству Феофана о мартовской Пасхе (Свод II. С. 266/267). Таковая отмечена в 598 г. (Свод II. С. 304). 998 Theoph. Sim. Hist. VII. 7: 3–5.: Свод II. С. 36/37; Свод II. С. 262–265 (Феофан). 999 Свод II. С. 264/265 (Феофан). 1000 Свод II. С. 38, 264/265. 1001 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 10.: Свод II. С. 484/485. 1002 Свод II. С. 39, 266/267. 1003 Свод II. С. 39, 267. 1004 Theoph. Sim. Hist. VII. 15: 12–13.: Свод II. С. 38/39. 1005 О погибших пленных — главном грехе Маврикия за все его правление — сообщает Феофан Исповедник (Свод II. С. 266–269). Феофилакт, пристрастный к императору, предпочитает умолчать. Но и он говорит об увеличении дани на 20 тысяч номисм (VII. 15: 14.: Свод II. С. 38/39). У Феофана — 50 тысяч (Свод II. С. 267). 1006 Свод II. С. 38–39, 268. 1007 По Феофилакту, в последнем сражении в плен попало 8000 славян и 9200 представителей других племен — в том числе лишь 3000 авар (VIII. 3: 15.: Свод II. С. 40/41). 1008 Об этом есть упоминание в послании Каллинику римского папы Григория I Великого (IX. 154.: Свод II. С. 351). Папа вспоминает о происшедшем и в следующем году, в послании епископу Салонскому Максиму (X. 15.: Свод II. С. 351). 1009 У Константина Багрянородного (Константин, 1991. С. 110/111, 128/129) описываются события, непосредственно предшествовавшие аваро-словенскому вторжению в приморскую Далмацию. Приход словен в окрестности Салоны датируется на основании послания Григория Великого Максиму (Свод II. С. 351) 600 годом. Обе версии, передаваемые Константином, основаны на устной традиции далматинских романцев. По одной (Константин, 1991. С. 110/111) «римляне» безнаказанно нападали на аваро-славян «многие годы». Другая версия (Там же. С. 128/129) более внятна и достоверна. Она говорит об однократном набеге и ответе противника на следующий год. В ней авары не рисуются «безоружным» народом, и в целом нарисованная картина лучше соответствует реальной ситуации. 1010 Константин не делает различий между славянами и аварами («славянские безоружные племена, которые называются также аварами», «славяне, они же авары» — Константин, 1991. С. 111). Во втором отрывке славяне не упомянуты вовсе. Фома Сплитский, пользовавшийся той же далматинской традицией, но на месте, четко отделяет славян («лингонов») от «готов» (Фома, 1997. С. 35/240). 1011 Константин, опираясь на фольклор, пытается создать впечатление, что ромеи ничего не знали о народе, жившем за рекой (Константин, 1991. С. 128/129) или даже о самом его существовании (Там же. С. 110/111). Но в другом месте он сам признает, что стража отправлялась к Саве (у него — к Дунаю) как раз против авар (Константин, 1991. С. 128/129). 1012 Свод II. С. 39, 268–269. О «других варварах», не упоминаемых Феофилактом, сообщил Феофан. Оба называют цифру — 30 000 убитых. Это выглядит как преувеличение «победы». Едва ли средняя численность жителей гепидского или даже гепидо-словенского «селения» превышала 10000 человек, как можно заключить из этого. Разве что на праздник собрались многие тысячи гостей со всего края? Но праздновать так в военное время было бы верхом беспечности. 1013 Theoph. Sim. Hist. VIII. 3: 13–15.: Свод II. С. 40/41; Свод II. С. 268/269 (Феофан). Анастасий Библиотекарь, латинский переводчик Феофана, ошибочно говорит всего о 800 славянах (текст греческой «Хронографии» здесь испорчен). То, что это ошибка, подтверждается свидетельством «Библиотеки» патриарха Фотия, также перелагающего Феофилакта (Свод II. С. 307. Прим. 219). Авар было захвачено 3000. Феофилакт и Фотий говорят о 4000 «да еще» 2200 «других варваров». Анастасий здесь точнее, выделяя гепидов. Но, согласно ему, речь должна идти о 3200 гепидах и «2000 варваров». К последним относятся болгары, может быть, лангобарды и др. 1014 Theoph. Sim. Hist. VIII. 4.: Свод II. С. 40/41; Свод II. С. 268–271 (Феофан). 1015 Theoph. Sim. Hist. VIII. 4: 9.: Свод II. С. 40/41. 1016 Поход Апсиха против антов (Theoph. Sim. Hist. VIII. 5: 13.: Свод II. С. 42/43), захват аварским флотом «острова во Фракии» (Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 20; см. Свод II. С. 494. Прим. 10) — очевидно, дунайской дельты. Эти действия предпринимались в интересах словен, но без их непосредственного участия — через территорию «Склавинии». 1017 Письмо папы Григория Максиму Салонскому (X. 15.: Свод II. С. 351) датируется июлем. О словенах упоминалось в письме Максима в Рим, на которое и отвечает Григорий. 1018 Константин Багрянородный, 1991. С. 110–113, 128/129. 1019 Константин Багрянородный, 1991. С. 112/113, 130/131. Константин явно слил воедино легенды о захвате Салоны и прикрывавшего ее Клиса. Во второй версии легенды Клис не упоминается вообще. 1020 Greg. Reg. Epist. X. 15.: Свод II. С. 351. 1021 Фома Сплитский, 1997. С. 35–36, 240. 1022 Greg. Reg. Epist. X. 15.: Свод II. С. 351. 1023 Свод II. С. 41 (Феофилакт), 270/271 (Феофан). 1024 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 24.: Свод II. С. 484/485. Хронология Павла Диакона чрезвычайно сбивчива, а проверить ее трудно. События могут датироваться и 601, и 602 г. (Свод II. С. 494. Прим. 9). Вероятнее последняя дата — это год открытого нарушения мира между аварами и Империей согласно Феофилакту и Феофану. 1025 Седов, 1995. С. 323. 1026 Theoph. Sim. Hist. VIII. 5: 8 — 11.: Свод II. С. 40–43; Свод II. С. 270/271 (Феофан). Текст Феофана здесь опять сильно зависит от Феофилакта, содержа при этом отдельные искажения источника. 1027 Theoph. Sim. Hist. VIII. 5: 12.: Свод II. С. 42/43. 1028 Theoph. Sim. Hist. VIII. 5: 13.: Свод II. С. 42/43. 1029 Едва ли что-то иное, кроме изрезанной руслами дельты, может быть сочтено «островом во Фракии» (Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 20). Захват датируется временем вскоре после 600 г. Поставить его в связь с походом Апсиха естественнее всего. 1030 Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 1.: Свод II. С. 42/43. 1031 Феофан, сократив и невольно исказив текст Феофилакта, пишет: «Хаган отправил Апсиха с полчищами, чтобы он погубил племя антов как союзное ромеям. Когда это случилось, часть варваров перешла к ромеям» (Свод II. С. 270/271). Читая Феофилакта, понимаем, что «случилась» лишь отправка Апсиха, а «часть варваров» — мятежные авары. Но поскольку имя антов в источниках не упоминается после 602 г., часть исследователей сочла, будто Феофана следует понимать иначе, и Апсих в той или иной степени выполнил свою миссию. Так считают, например, П. Шрайнер (Theophylaktos, 1985. S. 357), Л. Вальдмюллер (Waldmuller L. Die ersten Begegnungen Slawen mit dem Christentum und den christischen Volkern vom VI. bis VIII. Jahrhundert. Amsterdam, 1976. S. 162). Но многие исследователи сомневались в справедливости этого вывода (Нидерле, 2001. С. 152–153; Avenarius, 1974. S. 162). Детальный критический разбор дан в статье Г. Г. Литаврина (пересмотревшего прежнюю точку зрения — Литаврин, 2001. С. 203–204) «О походе аваров в 602 г. против антов» (Литаврин 2001. С. 568–578). Мнение об «уничтожении» антов противоречит археологическому материалу (Седов, 1982. С. 28). Хочется, однако, отметить, что несостоявшийся поход Апсиха отнюдь не исключает возможности последующих, возможно, более успешных аварских экспедиций против антов — после 602 г., когда те остались наедине с каганатом. 1032 Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 1.: Свод II. С. 42/43. 1033 Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 2.: Свод II. С. 42/43. Рассказывает о событиях и Феофан (Свод II. С. 270–273). 1034 Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 3.: Свод II. С. 42/43. 1035 Theoph. Sim. Hist. VIII. 6: 7–10.: Свод II. С. 42/43; Свод II. С. 272/273 (Феофан). |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
