|
||||
|
|
Рождение славянского мира. VII–VIII ввИсточникиВ 602 г. для славянских племен и для всей Восточной Европы начинается новый исторический период. Прорвав границу ослабевшей и раздираемой внутренними смутами Империи, славяне широко расселяются по ее территориям, не только европейским. Одновременно долго сдерживавшиеся государственными и племенными границами потоки славянской колонизации устремляются и на север — к Балтике по всему ее протяжению. На востоке славяне глубже внедряются в лесостепные и лесные земли по границам тюркских степей. На западе они сталкиваются с франками и лангобардами. Катализатором этого бурного движения являлись сначала аварское нашествие, захватившее почти всю славянскую ойкумену, а затем борьба славян за свое освобождение от аварского гнета. В результате всех этих событий Славянская Европа из сравнительно небольшой совокупности племенных территорий превращается в известный нам сегодня Славянский Мир. Его границы уже во второй половине VII столетия простирались от южной оконечности Пелопоннеса до Ладожского озера, от верховий Дона до Рейнского бассейна. Эпоха великих славянских переселений охватила значительную часть VII в., начиная с уже названного 602 г. Условный итог ей подводит болгарское вторжение на Балканы и основание дунайского Болгарского ханства около 680 г. Для описываемого далее периода несколько сокращается и число, и значимость византийских греческих источников. Причиной тому и общий упадок Империи, до которой, наконец, добрались «темные века», и, как ни парадоксально это звучит, сокращение ее контактов со славянами. Ведь теперь греки общались только с той их частью, которая осела к югу от Дуная. Наиболее глубокий след в исторической памяти византийцев оставила осада Константинополя в 626 г. объединенными силами авар, персов и славян — кульминационный эпизод длительного «варварского» натиска на Империю. Сведения об этом событии содержатся у трех современников. Первый — придворный поэт-панегирист Георгий Писида, автор поэмы «О случившемся нашествии варваров». Второй — неизвестный автор «Пасхальной хроники», создано около 628 г. Третий — автор проповеди «О безумном нападении безбожных аваров и персов на богохранимый Град» Феодор Синкелл. Позднее о тех же событиях писали Феофан Исповедник и патриарх Никифор. Наконец, хронист XII в. Георгий Кедрин использовал наряду с «феофановской» традицией и какие-то несохранившиеся известия о происходившем в 626 г. под стенами столицы. Основные источники по истории Византии и славяно-византийских отношений описываемого времени — созданные на рубеже VIII/IX вв. «Бревиарий» патриарха Никифора и «Хронография» Феофана Исповедника. Авторы, в свою очередь, использовали разнообразные несохранившиеся источники по истории VII–VIII вв., в том числе общие. Труд Никифора продолжает «Историю» Феофилакта Симокатты и описывает события с 602 по 769 г. Феофан, в целом более подробный и пользовавшийся большим кругом источников, описал события с 284 по 814 г. Его сочинение представляет собой в буквальном смысле «Хронографию», построенную по летописному принципу. Именно у Феофана и Никифора сохранился восходящий к общему источнику детальный рассказ о болгарском нашествии на Фракию. Наиболее подробный греческий источник о славянах VII в. — «Чудеса святого Димитрия Солунского». Автор Второго собрания Чудес, присоединенного к Первому (пера архиепископа Иоанна Солунского) в конце VII в., использовал местные письменные источники и собственные воспоминания. В его труде, по сути являющемся историей Фессалоники VII в., отразились расселение славян в Македонии, их сложные отношения с Империей, тщетные попытки отдельных славянских князей захватить город. Одно из упомянутых в собрании нашествий отразилось и в местной эпиграфике. Столь же уникальные сведения о славянах содержат и другой греческий житийный памятник. Продолжатель Мосха (чей труд сохранился только в грузинском переводе) в своем собрании житий сообщает о вторжении славян в Малую Азию. Сведения о славянах на Сицилии содержатся в «Житии святого Панкратия» (30-е гг. VIII в.). Для этого времени мы имеем единственный документальный источник о славянах — упоминание о христианизации далматинских славян в послании римского папы Агафона на VI Вселенский собор, открывшийся в Константинополе в 680 г. При всей краткости этого упоминания, значение его для славянской истории, особенно в сопоставлении с другими источниками, весьма велико. Из источников позднейшего периода следует упомянуть Монемвасийскую хронику, «схолию Арефы» и созданную в том же Х в. анонимную эпитому (сокращение) «Географии» Страбона. Они рисуют нам картину расселения славян в Элладе. Особенную же ценность имеют свидетельства Константина Багрянородного (Х в.). Основанные отчасти на далматинской, отчасти на сербохорватской традиции, они излагают связную историю расселения славян на северо-западе Балкан. Об этом более ранние источники сообщают лишь отрывочные сведения. Именно на основе известий Константина, прежде всего, восстанавливаются ранние этапы истории сербов и хорватов на Балканах. С другой стороны, эти известия представляют собой древнейший записанный вариант сербохорватской устной традиции, которая позднее легла в основу «Летописи попа Дуклянина». Уникальным памятником грекоязычной историографии является сохранившийся до нас в славянском переводе конца IX или начала Х в. «Именник болгарских князей». Составленный в 60-х гг. VIII в. при дворе болгарских ханов, он представлял собой их официальный перечень от легендарной эпохи Аттилы до описываемого времени. Первоначально, подобно ханским наскальным надписям, он записан по-гречески, но содержит в себе массу явных «тюркизмов», отражение родного языка болгар. Здесь имеется независимое от византийских историков, пусть и краткое, описание прихода болгар на Балканы, а также некоторые иные ценные для славянской истории данные. Ряд разрозненных сведений по истории славян в VII в. сообщается ближневосточными источниками. Краткое упоминание о нашествии «варваров» (без имени славян) на Византию в начале VII в. есть у коптского хрониста Иоанна Никиуского. Среди сирийских источников надо назвать «Смешанный хроникон», сборник из 4 хроник VI–VII вв. В хронике, доведенной до 636 г., есть уникальное упоминание о вторжении славян на Крит. Автор одной из сирийских «малых хроник» IX в. и еще позднейший хронист Илья Нисибинский, подтверждают византийское известие о походе императорской армии на славян в 658 г. Все эти позднейшие сирийские хронисты прямо или опосредованно использовали несохранившиеся труды своих соотечественников VII–VIII вв. Арабский историк Х в. Масуди передает восточнославянское предание о расцвете и гибели волынского племенного союза. Различные сведения о славянах содержатся в т. н. «Армянской географии», созданной в VIII или IX в. В частности, здесь приводятся данные о расселении славян во Фракии и еще один независимый от византийских источников рассказ о переселении болгар хана Аспаруха. По мере расширения контактов славян с Западной Европой и возрождения там латинской книжности возрастает число латиноязычных источников о славянах. Некоторые упоминания о славянах, в том числе о расселении на Балканах, есть у знаменитого испанского историка и богослова начала VII в. Исидора Севильского. Наиболее ценные данные сообщает наш основной источник по истории Франкского государства в VII в. — Фредегар (имя автора хроники считается в науке условным). «Хроника Фредегара» повествует о взаимоотношения франкских королей с сопредельными славянскими племенами. Много места занимает история крупнейшего западнославянского предгосударственного образования, возглавлявшегося князем Само. Позднейшие источники при описании сюжетов, связанных с Само, следуют за Фредегаром. Это анонимный трактат IX в. «Обращение баваров и карантанцев» (опирающийся также на устные предания Карантании) и «Деяния короля Дагоберта». Не меньшее значение для истории продвижения славян на запад имеет «История лангобардов» Павла Диакона (конец VIII в.). Обобщив лангобардские хроники и предания, Павел Диакон рассматривает в том числе и взаимоотношения славян с лангобардами, баварами и аварами, эпизоды проникновения грозных соседей в Италию. Для событий начала VII в. он использует «Историю лангобардов», написанную современником — аббатом Секундом Трентским. Сведения Павла Диакона несколько дополняет позднейшая (IX в.) т. н. «Хроника св. Бенедикта Кассинского». Из житийных латинских источников в связи с событиями VII в. о славянах говорят «Житие святого аббата Колумбана и его учеников» Ионы и «Житие святого епископа Аманда». В обоих случаях сообщается о ранних, более или менее безуспешных попытках христианской проповеди у альпийских славян. Из источников географического характера о славянах упоминает в середине — второй половине VII в. т. н. «Франкская космография». Ее известие более оригинально, чем зависимое от Иордана сообщение чуть позднейшей «Космографии Равеннского Анонима» (ок. 700 г.). Из поздних латинских источников (не говоря о происходящих с территории славянских государств) важны памятники, характеризующие ситуацию в Далмации. «Книга понтификов», официальная история римского папства, сведенная воедино уже в IX в., сообщает о папском посольстве в разоренную «варварами» Далмацию VII в. Об этих и других событиях, в том числе о разрушении древней Салоны, подробно пишет хронист XIII в. Фома Сплитский в своей «Истории архиепископов Салоны и Сплита». Источниками для него послужили и письменные данные (легенда XI в. о перенесении мощей свв. Домния и Анастасия), и устная далматинская традиция. Ее он фиксирует в более позднем, но местами более достоверном варианте, чем Константин Багрянородный. Другая ветвь далматинской традиции — дубровницкая — записывалась с XIV–XV вв. (стихотворная хроника Милеция, анналы рагузского Анонима). Ранее (X в.) она уже отразилась как у Константина Багрянородного, так и в итальянской Салернской хронике. В трудах авторов XVI в. (А. Цриевич-Туберон, М. Орбини и др.) дубровницкое предание уже соединяется с данными барской «Летописи попа Дуклянина». Эти труды содержат не столько оригинальные версии древних преданий, сколько их интерпретацию, причем на основе письменных источников. Что до барской традиции, то она отразилась, помимо «Летописи попа Дуклянина», в грамоте XIII в., отражающей притязания Барской епархии в ее споре за первенство с Дубровником. «Летопись попа Дуклянина» — в большей степени славянский исторический памятник. С конца VII в. ситуация в славянском мире стабилизируется, эпоха великих переселений для славян завершается. Правда, не прекратилось движение славян на восток и северо-восток, в глубь территории современной России. Но это направление славянского расселения останется неизменным и на протяжении всей истории русской цивилизации до минувшего века включительно. В целом же VIII столетие для славянской Европы — время стабильных, устоявшихся границ, пора зарождения новых общественных и культурных явлений. Эти явления в IX–X вв. лягут в основу молодых славянских цивилизаций, родившихся из лона уходящего в небытие древнего племенного строя. История славянского мира в этот период становится более «дробной», рассматривать все его многочисленные племена в едином комплексе становится невозможно. Достаточно четко выделяется три области — южнославянская, западнославянская и восточнославянская. Промежуточное положение между западными и южными занимали альпийские славяне — хорваты и хорутане. Точно так же между западными и восточными оставались еще племена крайнего славянского Севера — словене ильменские, кривичи и, с другой стороны, жители Полабья и Поморья. Но в целом контакты между «зонами» весьма эпизодичны, и эпизоды эти известны нам преимущественно из поздних преданий. Это позволяет рассматривать историю различных групп славянских племен по отдельности. В обстановке временного упадка Византии и культурного взлета на каролингском Западе в этот период окончательно меняется соотношение греческих и латинских источников по славянской истории. Численность первых исчисляется единицами, вторых — десятками. Тем не менее и эти единицы весьма важны. Прежде всего, они предоставляют основную массу информации по истории южных славян, практически неизвестной западным авторам. Основными поставщиками материала по византийской и южнославянской истории «темных веков» Империи являются, как уже говорилось, патриарх Никифор и Феофан Исповедник. Их сочинения, используемые, но и подтверждаемые позднейшими авторами IX и Х вв., позволяют создать целостную, связную и достоверную картину данного исторического периода. Имеются отдельные источники документального характера с упоминанием фактов южнославянской истории конца VII в. К таковым относятся указ императора Юстиниана II от 688/9 г., сохранившийся в виде надписи на мраморной плите в храме Святого Димитрия в Фессалониках, а также печать 694/5 г. с упоминанием переселенных тем же императором в Малую Азию славян. Неизвестный автор Второго собрания «Чудес святого Димитрия Солунского» оставляет нас в конце VII в., с описанием попытки болгарского завоевания Фессалоники. Отчасти дополняет его данные об истории македонских славян афонская легенда об основании Кастамонитского монастыря, записанная, впрочем, века спустя. «Житие святого Панкратия» сообщает ценные сведения о расселении и культуре славян Адриатики в VIII в. Некоторые эпизодические сведения по истории южных славян в VIII в. приводит Константин Багрянородный (с опорой в том числе на сербские предания). Помимо трактата «Об управлении Империей», отдельные факты, касающиеся славянской истории конца VII–VIII в., имеются в его же сочинении «О фемах». Некоторые поздние византийские источники содержат уникальные сведения о начале Руси. В «Хронике» Симеона Логофета (середина Х в.) излагается русское предание о князе-родоначальнике «Росе». «Чудеса св. Стефана Сурожского» (конец Х в.), сохранившиеся в русском переводе, описывают поход русского князя Бравлина на византийский Крым и его крещение. Это предание соединяет в себе древнерусскую и местную крымскую традиции. В условиях арабских завоеваний и первых арабо-славянских контактов возросло число источников восточного происхождения. Первые впечатления от встреч со славянами отразились у двух арабских поэтов второй половины VII в. «Область славян» фигурирует в географическом труде Мухаммада ибн Ибрахима ал-Фазари (вторая половина VIII в.). Историки Арабского халифата IX в. (Йакуби, Балазури, Куфи) с опорой на свидетельства участников завоеваний сообщают ряд фактов, касающихся арабо-славянских контактов VIII в. Речь у них идет, во-первых, о походе арабов на Хазарию в 737 г., приведшем к столкновению со славянами, во-вторых, о южных и восточных славянах, переселенных на земли Халифата. Персидское «Собрание историй» начала XII в. сообщает не вошедшее в русские летописи предание о происхождении Руси от героя-родоначальника Руса. Многочисленные латинские источники по славянской истории конца VII–VIII в. четко распадаются на три группы — документы, исторические хроники и сочинения религиозного характера. Группа документальных источников весьма обширна. Непосредственные контакты славян с франками и баварами на западной границе привели к появлению упоминаний восточных соседей в актах каролингской эпохи. Преимущественно актовый материал отражает взаимоотношения Церкви со светской властью и вотчинниками. Это две грамоты баварского герцога Тассило III, грамоты германских феодалов Пейгири и Эгилольфа, опись Херсфельдского монастыря («Бревиарий святого Лулла»), грамоты каролингских монархов Вюрцбургской епархии. Близки к документальным источникам как непосредственные отражения исторической реальности сохранившиеся от каролингской эпохи письма церковных деятелей. Славяне упоминаются в переписке «апостола германцев» Бонифация, в письме придворного ученого Алкуина, в письме неизвестного аббата, сохраненном одним из письмовников. О славянах говорится и в ряде латинских житийных памятников VIII — начала IX в. Это «Житие святого Бонифация» англосакса Виллибальда, анонимные «Жития Виллибальда, епископа Эйхштеттского» и «Житие Стурми» (оба — соратники и ученики Бонифация). Из ученых сочинений можно упомянуть лишь стихотворные «Загадки, посланные сестре» того же Бонифация. Историко-церковные сочинения по характеру чрезвычайно близки к житиям. В то же время их информация о славянах гораздо обширнее, что, впрочем, и неудивительно. Наиболее ценно для славянской истории уже упоминавшееся «Обращение баварцев и карантанцев», включающее целостный очерк истории славянского Хорутанского княжества. Интерес для истории того же региона представляют «Бревиарные записи» (история земельных пожалований Зальцбургской епархии, созданная в конце VIII в.). Истории обращения хорутан посвящена и записанная три века спустя, в XI столетии, легенда о миссионерской деятельности Фрейзингской епархии. Основной объем информации представляют, разумеется, исторические хроники. Это и «История лангобардов» Павла Диакона, и франкская хроника «Продолжателя Фредегара», и, в первую очередь, особенно для конца VIII столетия — многочисленные франкские анналы. Более или менее оригинальные упоминания о славянах содержатся в 14 памятниках франкской анналистики VIII–IX вв. (Лоршские, Мозельские, Петау, св. Назария, Алеманские, Вольфенбюттельские, Королевства франков, Королевские, Зальцбургские, Фульдские, Мецские, св. Максимина анналы, фрагмент Дюшена, «Фульдская компиляция»). Они стали основой для «славянских» известий ряда позднейших латинских сочинений, перешли, в том числе, в позднейшие анналы. Для установления названий и границ славянских, особенно западнославянских племен VIII в., огромное значение имеют их древнейшие перечни. Это, прежде всего, «Баварский географ», фиксирующий ситуацию на IX в., а также жалованная грамота Пражской епархии 1086 г. (восходящая в своей основе к последней четверти Х в.). Последняя позволяет воссоздать племенную структуру древней Чехии, в основных чертах сложившуюся уже в VII–VIII вв. Славяноязычные и латиноязычные источники, созданные в средние века в славянских государствах, основываются при изложении древнейшей истории своих стран на устном предании. При этом на латинских авторов более влияли шаблоны латинской историографии, что сказалось на качестве воспроизведения древних легенд в их трудах. С другой стороны, славянские авторы пытались воспринимать доставшиеся от предков предания и мифы рационально. Они опирались на складывающиеся и в Византии, и в Болгарии, и на Руси представления христианской научной мысли. Это привело к тому, что история лишается мифологических элементов, выглядит более достоверно. Но и древние сюжеты серьезно искажаются, нередко миф (лишенный мифологической формы) может смешиваться с подлинно историческим преданием. В результате славяноязычные источники сохраняют древние предания подчас в менее «литературной», более приближенной к фольклорной стихии форме. Тогда как латинские писатели нередко передают в первозданном виде фантастические мифы (например, о драконоборце Краке). Памятники южнославянской средневековой историографии XI–XIV вв. немногочисленны. Древнейшие памятники болгарской исторической традиции — «Апокрифическая летопись» («Сказание Исайи пророка») и летописные заметки при переводе византийской хроники Константина Манассии. Уникальный образец югославянской средневековой историографии — т. н. «Летопись попа Дуклянина» («Барский родослов», в оригинале — «Королевство славян» или «Книга Готская»). Это сочинение, являющееся, по собственным показаниям, переводом со славянского языка, — наиболее значительный и подробный памятник средневековой южнославянской исторической книжности. В Болгарии в результате утраты политической независимости в XI в. произошло умирание дружинно-аристократической культуры и, соответственно, дружинно-аристократической устной традиции. Характерно в этой связи, что «героический век» народной болгарской эпической поэзии совершенно не захватывает эпохи Первого царства. Как следствие этого процесса — болгарские средневековые историки имели дело с разрозненными народными преданиями топонимического толка. При этом следует отметить довольно позднее и скупое развитие жанра собственно историописания в болгарской литературе. Древнейшее собственно славянское сочинение исторического типа в Болгарии — «Сказание Исайи пророка» («Апокрифическая летопись») второй половины XI в. В этом старейшем памятнике славянской исторической литературы болгарская история вводится в контекст легенды, отражающей религиозно-политические воззрения ереси богомилов. Ориентированный на пропаганду памятник содержит сознательные вымыслы и домыслы, адресован малообразованной среде. При этом согласование с научно-познаваемой историей христианской ойкумены и рациональной логикой мало занимает автора. Пространство «летописи» глубоко мифологично. Это позволяет сохраняться в ней многим элементам языческого мышления (даже тотемному мифу о рождении хана Аспаруха), особенно если они согласны с базовыми концептами автора. Противоположный «Апокрифической летописи» подход отразился в позднейших (XIV в.) заметках при переводной «Хронике» Константина Манассии. Это памятник официальной исторической мысли времен Второго Болгарского царства, создатель которого, напротив, ориентировался на воссоздание подлинной болгарской истории. При этом сама форма заметок ориентировала его на включение в контекст истории мировой. Но он имел дело с традицией того же рода, что и его далекий предшественник. Поэтому в заметках мы имеем разрозненные свидетельства об истории Болгарии, в качестве «стержня» для которых использованы сразу два памятника византийской хронографии. Один — это сама переведенная «Хроника», второй — сочинение Иоанна Зонары, основной для автора заметок источник. Тем не менее скудость оригинального материала не помешала автору заметок продуктивно использовать его для возвеличения древнейшей болгарской истории. Тем самым создавалась искусственная замена исчезнувшей исторической традиции Первого царства. Иные по сравнению с Болгарией политические условия, длительное сохранение племенных «княжений» и непосредственное их перерастание в государства, породили совершенно иную литературную реальность в сербских землях — Дукле и Рашке. Здесь имел место прямой перенос жанра «родослова» в письменную культуру. Перенос не обошелся без потерь. В первую очередь, это связано с политическими концепциями создателей конкретных памятников. В единственно сохранившемся в латинском переводе или пересказе памятнике дуклянской историографии — «Книге Готской», относящейся ко второй половине XII в., произошла контаминация устных преданий Дукли, Рашки и Хорватии. На стадии самого сочинения или перевода сказалось также воздействие романского далматинского предания. Оно отразилось, в том числе, в искусственно соединенном со славянскими сюжетами предании об основании Дубровника. Наконец, древнейшие сказания переосмыслены автором «Книги Готской» в русле ученой «славяно-готской» легенды, направленной на возвеличение правящей династии. Тем не менее «летописцу» удалось создать целостное, почти лишенное внутренних противоречий и довольно рациональное с позиций христианского сознания повествование. Несмотря на очевидные искажения первоначальной традиции в «Летописи», именно ее изучение приводит к продуктивным выводам о характере бытования древнеславянского исторического предания. Этим, впрочем, мы обязаны и богатому сопоставительному материалу из иностранных источников — как синхронных, так и более ранних. Но «Летопись» не имела продолжения в славянской литературе. Литературная традиция нового центра сербской государственности в Рашке в поисках предыстории правящей династии Неманичей обратилась не к народному преданию, а к внешней истории. Это привело к появлению фантастической легенды о происхождении Неманичей от римского императора Лициния. При этом фантастичность этой легенды в немалой степени подчеркнула ограниченность литературной формы «родослова», склонного игнорировать строгую линейную хронологию и ориентированного исключительно на поколенный счет. Это же, кстати, серьезно дискредитировало в глазах первых исследователей «Летопись попа Дуклянина». Ее автор, создавая на страницах книги мифическое «королевство славян», механически свел в единый генеалогический ряд князей различных славянских государств. При этом, не ведя точного счета лет, совершенно не позаботился о создании хронологической достоверности. Он следовал схеме «родослова», где время считалось поколениями, а не годами или веками. Из русских летописей преимущественное значение имеют древнейшие разделы памятников киевского летописания времен единого государства и начала удельной раздробленности (XI — начало XII в.) — Начального свода и «Повести временных лет». Стоят внимания и памятники эпохи раздробленности начиная с XII в., прежде всего, предания, отраженные в летописях «Софийско-Новгородской» группы. Наконец, имеется еще один текст, сохранившийся только в латинском переложении — гипотетическая русская летопись, послужившая непосредственным источником для польского хрониста Я. Длугоша. Русское летописание предлагает иной по сравнению с южнославянским вариант восприятия и обработки древних сюжетов племенной устной истории. Его особенности связаны не в последнюю очередь с особенностями формирования древнерусской государственности и культуры. В восточнославянском регионе в IX–X столетиях более десятка племенных «княжений» оказались включены в новое политическое единство — Древнерусское государство, во главе с новой династией Рюриковичей, — и поглощены им. К концу Х в. процесс повсеместной смены Рюриковичами правящих родов, за исключением отдельных, и в культурном плане периферийных областей, завершился. Соответственно, племенное предание всех древних племенных общностей утрачивало в едином государстве характер официальной исторической традиции. Таковой статус обрело теперь родовое предание Рюриковичей, не уходившее далеко в глубь языческой эпохи. В этом принципиальное отличие Руси от Чехии Пржемысловичей или Дукли, и сходство ее, например, с Польшей. Там также в историографии сравнительно молодой династии Пястов сюжетам древней племенной истории на первых порах уделялось крайне мало внимания. Для древнерусских авторов главной задачей при описании событий до Рюрика становилось обоснование прав династии на власть, подготовка «декораций» для ее выхода на сцену. В то же время вполне мог присутствовать (но ни в коем случае не на первом плане), особенно в Киеве и в Новгороде, и элемент заинтересованности отдельных знатных родов. Они возводили себя еще к до-Рюриковым временам и сохраняли память о героях-предках предшествующей эпохи. Другой важной особенностью древнерусской исторической традиции явилось развитие ее с самого начала под мощным воздействием византийской хронографии. Образцом исторического труда с XI в. становится «Хроника» Георгия Амартола, отчасти более раннее, также построенное по хронологическому признаку сочинение Иоанна Малалы. Соответственно, и русские исторические сочинения, по крайней мере, с середины XI в., оформляются как летописи в собственном смысле слова. В известной степени это рационализировало и внутренне дисциплинировало труд, заставляло его автора внимательнее относиться к параллельно излагаемым фактам «большой» истории. Введение этнического прошлого в широкий мировой контекст и четкие хронологические рамки выдавливали за пределы текста мифологизм, а также и размывали архаическую структуру родословного предания. Поэтому в русском летописании XI–XV вв. рационализирующее воздействие христианской мысли выразилось по максимуму. В сравнении и с сербской, и с болгарской, и с польской — и со многими образцами неславянской средневековой хронистики Европы в русских исторических сочинениях при описании дохристианской эпохи до удивительного мало фантастического и мифического. Это способствовало некоторому смещению исследовательского восприятия применительно к русским памятникам. Даже полные эпики повествования о походе Олега на Византию, войнах Святослава и т. д. производили подчас на первых исследователей ощущение (конечно, ошибочное) документального отчета. Характерно, кстати, что с русской традицией многим здесь роднится чешская средневековая историография, также изначально ориентированная на форму развернутых анналов. Впрочем, здесь присутствовали причины и более высокого характера. Для славянской культуры средневековья (в наименьшей мере для польской, которая не испытала влияния кирилло-мефодиевской традиции) характерен более глубокий разрыв с языческим прошлым, чем для германцев и для кельтов. Ничего подобного «Эддам» или ирландским скелам с их поэтизацией языческой старины мы не находим в славянских литературах — подобное даже трудно представить в их контексте. Начало русского летописания (но не появление целостных памятников) следует относить ко времени распространения христианства и византийской по происхождению книжкой культуры. Это не исключает появления еще ранее каких-то отрывочных лапидарных записей. Первый же свод исторического (не обязательно, впрочем, летописного) характера сложился не позднее третьего десятилетия XI в. В этом раннем памятнике древнейшая история не рассматривалась. Тем не менее и в нем отразились некоторые предания не только о древнейшей поре истории Руси, но и отчасти о прошлом отдельных восточнославянских племен (уличей, радимичей). Новый этап в отражении событий ранней восточнославянской истории открыл Киевский свод 1070-х или начала 1080-х гг., к которому восходит, во всяком случае, основной объем древнейшей части Новгородской 1 летописи младшего извода. Свод, легший в основу древнейших известий последней, идентифицируется как Начальный свод. Позже он станет основным источником «Повести временных лет». Начальный свод излагает уже основную канву преданий о начале Киева, Руси и династии Рюриковичей. Его автор попытался при изложении истории до-Рюриковой остаться, тем не менее, в рамках династического предания. Поэтому он не концентрируется на ранней племенной истории, ограничиваясь пересказом преданий о Кие и хазарской дани. Его попытка ввести раннюю историю в хронологический контекст через группировку всех событий, связанных с «началом Русской земли», под 854 г., выглядит еще очень искусственно. За узкие рамки исключительно «преддинастической» традиции решительно выходит «Повесть временных лет», автор которой Нестор в начале XII в. создал широкое полотно ранней истории восточного славянства и Руси. Повесть временных лет дошла в позднейших редакциях, созданных в том же XII в. Однако детальное изучение текстов сохранившихся (в том числе фрагментарно у В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина) летописных памятников позволяет с известной долей уверенности воссоздать первоначальный текст. Внутренняя цельность и полнота Повести, а также ее роль как официальной киевской летописи стали причинами, по которой ее воспроизводили все летописцы до XVII в. Иногда, впрочем, наряду с ней привлекался и Начальный свод. Нестор уже детализировал (заметим — весьма талантливо и по-своему убедительно) хронологию первых десятилетий Рюриковичей, но принципиально отказался от датировки предания о Кие и иных «додинастических» сюжетов. В этом проявился здравый смысл, указывавший на отсутствие датирующих оснований в преданиях преимущественно топонимического и эпического характера. Но в таком отказе нет ни тени пренебрежения к не связанной с первыми Рюриковичами устной традиции. Напротив, для автора Повести сюжеты предыстории Руси («откуду есть пошла») равноценны истории собственно ее возникновения («стала есть»). Это отражено и в заглавии предпосланного летописи введения. В то же время отказ от хронологии в этом введении — и не возврат к архаической модели вневременного, не ищущего внешних опор предания. Напротив, внешний контекст древнейшей истории неимоверно расширялся по сравнению с Начальным сводом. Происхождение славян прослеживалось летописцем начала XII в. уже от времен Ноя, им подыскивались античные соответствия, а история христианства на Руси теперь начиналась с апостола Андрея. При воспроизведении огромного количества известных ему из разных источников преданий о происхождении восточнославянских «родов» летописец прибег, по сути, к назывному методу. Предания не столько пересказываются, сколько перечисляются, за весьма редким изъятием. Исключение представляла только исключительно важная для летописца, очевидного патриота Киева, киевская традиция. Обогащенная легендой об апостоле Андрее, она, кроме того, и дополнена новыми сведениями о Кие, происходящими из области песенного эпоса. При интенсивном обращении к фольклору в Повести временных лет сохраняется основная тенденция русской традиции — последовательное изгнание связанных с язычеством фантастических, мифологических сюжетов. Единственным исключением, и то связанным уже с Рюриковичами, может быть сочтен широко известный рассказ о гибели князя Олега от коня. Однако он нужен летописцу в целях антиязыческой полемики. Ничего же подобного повествованию польского хрониста Винцентия Кадлубка о битве Крака с драконом, или упоминанию болгарской «Апокрифической летописи» о рождении Испора от коровы, мы не находим на Руси еще долгие века. Используя Повесть временных лет и Начальный свод, позднейшие авторы в ряде случаев дополняли их новыми сюжетами и мотивами, заимствованными из местной устной традиции. Такие новые сюжеты и мотивы находим в ряде памятников эпохи феодальной раздробленности. Это, прежде всего, памятники новгородского летописания — в том числе местная редакция вводной части Повести, вошедшая в состав общерусского митрополичьего «Софийско-Новгородского» летописного свода начала XV в. В среде новгородского боярства имелась собственная, независимая от родового предания Рюриковичей, устная историческая традиция. Вместе с тем консерватизм летописной формы определял случайность заимствований из этих источников. Мы вновь имеем дело с называнием, но не с воспроизведением предания. Время воспроизведения новгородской традиции уже в явно разложившейся форме, но зато с сохранением ряда весьма архаичных мифологических элементов (например, сюжет о князе-оборотне Волхе), настало только в XVII столетии. Подобно новгородским поступали и летописцы других земель, в частности киевский летописец 1230-х гг., чье сочинение легло в основу «русских» известий польского хрониста XV в. Яна Длугоша. Этот автор основывал свое повествование на Начальном своде, но дополнил его рядом оригинальных известий, отражающих устные предания. И здесь мы встречаем тот же назывной метод вкраплений новых мотивов в летописный образец, и опять-таки отсутствие мифологических элементов фольклора. Из позднейших летописных памятников стоит выделить фундаментальные летописные своды XVI столетия — Воскресенскую и Никоновскую летописи. Эти и подобные им памятники нередко привлекали дополнительные сведения из становившихся известными их авторам преданий, в том числе местных. Однако информация из устных, подлинно народных источников, подчас смешивалась с домыслами и откровенными вымыслами. Следует помнить, что дружинно-аристократические родовые предания русской знати киевского периода безвозвратно ушли в прошлое после монгольского нашествия, с усилением новых политических центров — Московской Руси и Великого княжества Литовского. Это сказывалось на качестве информации, попадавшей в руки местных историков XVI–XVII вв. Из многочисленных источников, отражающих местные предания XVII столетия, для нашей темы значительный интерес представляет «Сказание о зачале Новаграда», имеющее как литературные, так и фольклорные параллели. Легенды, вплетенные его создателем в ткань возвеличивающего родной город повествования, конечно, не должны приниматься на веру. Даже просто как подлинное отражение «древних» преданий. Они должны тщательно анализироваться. Только установление всех внешних источников и параллелей позволяет выделить в «Сказании» зерно, действительно восходящее к народным преданиям. И «работать» с целью выявления исторических оснований тысячелетней давности уже с этим зерном. Дело несколько осложняется тем, что «Сказание» оказалось в тени т. н. «Иоакимовской летописи» — близкого по характеру сочинения конца XVII или первой половины XVIII в., сохраненного русским историком В.Н. Татищевым. Свидетельства самого В.Н. Татищева о ее происхождении и изучение «летописи» наводят на мысль, что на самом деле это компиляция на основе разных, в том числе несохранившихся, источников, создание которой невольно инициировано самим Татищевым. Что касается западнославянской латиноязычной традиции, то ее представляют чешские и польские средневековые хроники. Основу чешской исторической традиции составило родовое предание правящей (с VII–VIII вв.) династии Пржемысловичей, в начале XII в. перенесенное в письменную латинскую форму Козьмой Пражским. «Богемская (Чешская) хроника» Козьмы стала основой для всей позднейшей чешской анналистической и хроникальной традиции. Лишь отдельные авторы (Неплах из Опатовиц, Пржибек Пулкава) добавляли в схему Козьмы новые элементы, воспринятые из народных преданий. Наиболее независим (и стал самостоятельным источником для позднейших хронистов) Далимил, создавший в XIV в. «Чешскую рифмованную хронику» на родном языке. Здесь особенно много неотраженных ранее Козьмой фольклорных мотивов. XVI в. в Чехии, как и повсеместно, стал временем многочисленных псевдоисторических домыслов, романтического поиска новых сюжетов, обогащающих древнюю историю. Особенно отличился на этой ниве Гаек из Либочан. Его монументальная «Чешская хроника» в своей древнейшей части является кладезем в большей степени творческой фантазии автора, чем исторического или даже фольклорного материала. В пястовской Польше к давней племенной истории допястовской эпохи первым обратился в XII в. Винцентий Кадлубек. В его «Хронике» впервые отражаются мифы и предания краковского цикла. С соперничеством Великой и Малой Польши связаны основные отличия древнейших разделов хроники Кадлубка и приписываемой Богухвалу «Великой хроники» XIII в. Опираясь почти исключительно на труд Кадлубка, автор «Великой хроники» вместе с тем возвращает (после легендарного Крака) центр изложения допястовской истории в Великую Польшу. Это, надо отметить, соответствовало древнейшим преданиям, отраженным еще у Анонима Галла, предшественника Кадлубка. Позднейшие польские хронисты всецело следовали заданной Кадлубком и Богухвалом традиции, практически не дополняя ее новыми деталями. Исключение представляли лишь чисто литературно-«научные» по происхождению домыслы XVI–XVII вв. Польские хронисты лишены уходящей в глубь веков легендарной генеалогии (имевшейся у Пржемысловичей). Потому они решали важную для латинской историографии проблему удревнения своей истории через своеобразное «размножение» доставшихся от легендарной эпохи имен. Так, князь Лех-Лешко в польском историческом предании расчетверился, Попель — раздвоился. Кроме того, польские хронисты большее, чем ранние чешские, внимание уделяли проблеме соотнесения своей и античной (древнеримской) истории. Эти обстоятельства сближают польских средневековых авторов с некоторыми скандинавскими — прежде всего, с Саксоном Грамматиком. Среди западноевропейских средневековых источников по ранней славянской истории скандинавские стоят особняком. Они так же, как и славянские, всецело восходят к устной традиции. При этом ее отражение существенно разнится в двух основных ветвях средневековой скандинавской традиции — латинской и древнеисландской. Латинские источники («Хроника Лейре», «Деяния данов» Саксона Грамматика и др.) иногда сравнительно древнее. Однако они сильнее зависят от шаблонов западноевропейской исторической науки того времени. Так, версия древнейшей истории датских конунгов Саксона резко расходится с данными всех остальных скандинавских источников. Однако это расхождение при ближайшем рассмотрении оказывается не в пользу латинских «Деяний». Во всех основных расхождениях Саксона и исландских саг он резко противоречит и более древним записям традиции — англосаксонской поэме VIII в. «Беовульф», скальдическим и эддическим песням X–XII вв. Пользуясь различными устными и письменными источниками, Саксон произвольно компилировал их, пытаясь создать связную историю не существовавшего в I тысячелетии н. э. единого Датского королевства. Иногда он в своих интерпретациях и политически ангажирован. В результате получилась версия весьма литературная, вторичная интерпретация саг, еще менее достоверная, чем они сами. В то же время литература на родном языке (для Дании, например, — «Сага о Скъельдунгах», «Обзор саг о датских конунгах»), лучше отражая строй традиции, фиксирует ее в чуть позднейшей форме. Эддическая и скальдическая поэзия, генеалогии являются исключением, восходя напрямую к устным первоисточникам — но их сведения подчас слишком кратки для ясной интерпретации. Кроме того, сюжетика древнеисландской литературы более «канонична». Ее авторы стремятся к взаимной согласованности, созданию единой, непротиворечивой картины истории и генеалогии. Это приводит к зависимости вторичных памятников от своих источников, к естественным искажениям противоречивой и многовариантной устной традиции. Что до данных по славянской истории, то они за VII–VIII вв. еще довольно бедны. Это припоминания об отдельных контактах с западными и северной частью восточных славян на заре викингской эпохи. Интересен — и важен для самой скандинавской традиции — сюжет о происхождении датской и шведской королевской династий, связываемом с восточнославянским князем «Радбардом». Он представляет собой исключение на фоне довольно рутинных и отрывочных свидетельств о стычках приморских племен Балтики. Близкий аналог славянским и скандинавским в смысле происхождения от устных преданий представляют прусские источники. Отличие в том, что запись преданий производилась не собственно пруссами, а завоевателями-тевтонцами или онемеченными потомками аборигенов. Монах Симон Грунау (XVI в.) в своей «Прусской хронике» сохранил предание о войне прусских князей с мазовшанами. По собственному утверждению Грунау, его труд основывается на хронике немецкого епископа XIII в. Христиана, побывавшего в плену у пруссов. Некоторая сомнительность этого свидетельства перевешивается большим объемом достоверной информации Грунау, крещеного прусса, об обычаях, мифологии, языке своего народа. Позднейшие прусские хронисты при изложении тех же событий лишь перемешивают информацию Грунау с обычными домыслами. По разряду домыслов проходят и «оригинальные» свидетельства мекленбургских и померанских немецких хронистов XVI–XVIII вв. (Фома Кантцов и др.). Оторванные от умирающей, но еще живой в те века славянской народной культуры Поморья и Полабья, городские немецкие писатели просто не могли черпать из нее. Главной задачей для авторов из Мекленбурга и Померании являлось повысить исторический и политический статус владетельных родов, чье родословие восходило к онемеченным славянским князьям. Генеалоги чрезвычайно вольно обходились с остающимися им источниками — франкскими хрониками, их позднейшими переделками, «Деяниями данов» Саксона Грамматика и др. Результатом этого стали, в частности, фантастически скомпилированные родословия, в том числе — для VIII–IX вв. — абсурдно смешивающие княжеские линии вильцев и ободритов. Примеры вольных домыслов и откровенных вымыслов можно умножать. Наивность их объяснима. Методы современного научного анализа компиляторам оставались недоступны, а задача их состояла всего лишь в том, чтобы максимально расширить круг родичей правящих династий. Подобное происходило и в других европейских странах, не обошло «поветрие» и Московскую Русь. Ознакомление с этими хрониками полезно. Однако использовать подобные опусы как источники по описываемому в них периоду едва ли целесообразно. Продуктивнее обращаться к их собственным источникам, которые легко выявляются. Они уже названы. По мере приближения к «историческому» периоду славянской истории естественно возрастает число устных преданий, отражающих события прошлого. Однако предания, записанные в XVIII–XX вв., надо крайне осторожно привлекать в качестве исторического источника по событиям тысячелетней давности. Разновременное историческое и мифологическое сплелось в них неразрывно. Кроме того, следует учитывать уровень достоверности самих записей, возможность литературных влияний, отсутствие четких датирующих описываемые события указаний и т. д. Только установление праформы преданий, выявление их происхождения и источников позволяет нам прибегать к их помощи. Основной костяк представлений о внутреннем устройстве славянского общества, материальной и отчасти духовной культуре, хозяйстве и быте по-прежнему обеспечивают археология и языкознание. Данные языка в минувшем веке стали не менее важны для специалистов, чем постоянно пополняющийся археологический материал. Современные методы позволяют использовать язык в качестве исторического источника по самой различной проблематике. ПрологОбновляющаяся Европа602 год не относится к числу столь переломных дат европейской истории, как, скажем, 476-й — год падения Западной Римской империи — или 800-й — год основания Империи Карла Великого. Причиной тому — во многом неожиданная живучесть, проявленная последним оплотом античной цивилизации, Вторым Римом, Византией. Однако для своего времени это, без сомнения, дата рубежная. В тот год Восточная Римская Империя оказалась на краю гибели — и перестала быть прежней навсегда. 23 ноября 602 г. в Константинополь вступила восставшая армия под предводительством младшего офицера Фоки. Император Маврикий погиб. Впоследствии расправы над представителями ромейской знати сторонники нового правителя чинили регулярно. В Империи разразилась гражданская война, длившаяся восемь лет. В течение этого времени персы развернули мощное наступление на Востоке, а на западе безнаказанно хозяйничали авары, славяне и лангобарды. Вступление на престол императора Ираклия в 610 г. само по себе не могло стабилизировать ситуацию. Ираклию пришлось оборонять от «варварских» полчищ сам Константинополь (626 г.). В конце же его долгого и небезуспешного в целом правления (610–641) восточные провинции накрыл вал арабского нашествия. Итог внутренних и внешних смут для Империи оказался, естественно, весьма трагичен. Надежды на восстановление прежнего Рима окончательно рухнули. Более того, Империя как могучая политическая реальность перестала существовать. Границы Державы Ромеев в Европе к середине VII в. сжались до городских округ — Константинополя, Рима, Равенны, Фессалоник. Малая Азия осталась, но находилась под постоянным прессом захвативших большую часть Востока арабов. Отрезанная от основных имперских земель Северо-Восточная Африка, оказавшись в аналогичной опасности, продержалась только до начала VIII в. Спорным является само воспроизведение Византией в «темные» VII и VIII вв. основных признаков цивилизации. Указывалось на незначительное число письменных памятников, на практическое отсутствие градостроительства и монументального зодчества. За политическим упадком естественно следовал экономический и культурный. Однако VII–VIII вв. являлись для Восточной Империи не только порой упадка. Это еще и время консолидации общества на новых началах, превращения Восточного Рима в средневековую Византию. Уже при Ираклии это проявляется в ряде зримых перемен — например, в официальном принятии древнегреческого именования царя «василевс». Византия остается страной полиэтничной, становится с приходом славян даже более полиэтничной. Но вместе с тем она становится и более греческой. Греческий язык окончательно получает статус официального. Окончательно ушли в прошлое попытки языческой реакции. Византия VII–VIII вв. являлась уже страной, безусловно, христианской — хотя и не безусловно православной. Монофелитство VII в. и иконоборчество VIII в. принесли Империи немало тревог. Но все идейные споры проходили в рамках победившего христианства — единой и неоспоримой духовной основы средневековой Византии. Меняется византийская знать. Значительная часть старой аристократии погибла в ходе «революции Фоки». При Ираклии в Константинополе обосновываются провинциалы, преимущественно греческого, армянского и малоазийского, а не римского или германского происхождения. Значительная часть уцелевших еще латифундий оказалась потеряна или разорена в ходе внешних и гражданских войн. Новая знать обладала меньшей земельной собственностью, более зависела от милостей императора. И в то же время ввиду ослабления центральной власти и разбросанности имперских территорий она обладала большей личной самостоятельностью на деле. Знать все более сближается с перестроенным военно-бюрократическим аппаратом, по сути составляя с ним единый общественный слой, регулярно пополняясь за его счет. Отражением социальных изменений стало проведенное в VII–VIII вв. деление Империи на новые административно-территориальные единицы — фемы. Автономные от центра, фемы обладали собственными войсками и управлялись военными чиновниками-стратигами, обладавшими всей полнотой власти. Набирались они, как правило, из уже заслуженных и богатых родов местного происхождения. Одновременно с подобным закреплением прав местной знати, в центре укрепляется династический принцип преемства власти. Наследование императорского престола рассматривается как нечто естественное, а занятие его человеком не из правящего рода — как узурпация. Смена династий происходит только в результате государственных переворотов. Однако наследие Республики с идеей «власть достойнейшему» делает такие перевороты довольно частыми. Социально-экономическое лицо Империи тоже меняется. Гибель латифундий, о которой уже говорилось, сделала основой экономики крестьянскую общину — местную или «варварскую». Свободный крестьянин-воин, стратиот, — не только основной производитель, но и главная массовая опора фемной армии. Общины, конечно, зависели от государственной власти и в известном смысле от местной военной аристократии. Но до феодализма, подобного сложившемуся к началу IX в. на Западе, Византии весьма далеко. По мере упадка городов, а соответственно ремесла и торговли, значение сельского хозяйства для экономики Империи резко возрастает. Оно становится, помимо прочего, основным источником государственного дохода. Многие города превращаются в сельскохозяйственные по сути поселения. Борьба за расширение облагаемых сельскохозяйственных территорий — не последняя причина освободительных походов против славян и болгар на протяжении VII–VIII вв. Такова ситуация в Византии. Империя перестала быть доминирующим фактором европейской политики, однако осталась — в отсутствие подлинных конкурентов — фактором ведущим для Востока Европы. На Западе же VII–VIII вв. — время подъема одних и упадка других «варварских» королевств. В эту эпоху они только в начале пути, который приведет их к восстановлению городской жизни и к сложению феодального общества. Тем не менее многие признаки средневековой Европы мы уже начинаем встречать в источниках этого времени — зачатки вассальной системы, развитое церковное землевладение, полуавтономные городские общины. После крещения в первых десятилетиях VII в. большинства англосаксонских королевств вся цивилизующаяся часть западной Европы оказалась христианской. После того как в том же VII в. от арианства вслед за вестготами отступились и лангобарды, она стала и кафолической. Различия между Западной и Восточной церквями уже наметились в конце VI в., но еще отнюдь не превратились в основания раскола. Ортодоксов и будущих «католиков» сплачивали и совместная борьба с монофелитством и иконоборчеством, и стремление нести свет христианства язычникам. Сильнейшими королевствами Запада в первой половине VII в. являлись Франкское в Галлии, Лангобардское в Италии и Вестготское в Испании. Меньшие владения уже, как правило, поглощены ими. Исключение (помимо защищенных Ла-Маншем англосаксов) представляли несколько пограничных герцогств или королевств на восточной периферии Франкской державы. Частые распри за франкский престол, трудности утверждения христианства позволяли правителям баваров, тюрингов и алеманов (швабов) сохранять значительную степень автономии или даже независимости. Впрочем, единство всех трех королевств-лидеров не стоит преувеличивать. Каждое разветвление местных династий приводило к дроблению государства на уделы королей-соправителей. На местах пользовались широкой самостоятельностью отдельные принцы и герцоги некоролевского рода. В Испании и Италии ситуация выливалась в частые усобицы и смены династий. Для готского королевства это оказалось роковым — в 711–713 гг. большую часть Пиренейского полуострова захватили арабы. Отступив на север, остатки вестготской знати лишь тогда сплотились под властью одной династии — Кантабрийского дома, правителей королевства Астурия. Лангобардская Италия, в отсутствие столь же грозного врага, устояла до конца VIII в., что, однако, не прибавило ей стабильности. У франков измельчание династии Меровингов постепенно привело к переходу власти в руки управителей королевского двора — майордомов. Распри между династиями майордомов уже в VIII в. вылились в единственную за всю франкскую историю смену королевского рода. Так появилась династия Каролингов, правители которой не только стабилизировали и объединили свое королевство, но и оказались в силах стать гегемонами всего Запада. Свою роль сыграли в этом и прочный союз с римскими папами, отвернувшимися от иконоборческого Константинополя, и создание цельной вассально-ленной системы. Этот костяк европейского феодализма на первых порах обеспечил верность основной части аристократии королю. За пределами сильнейших «варварских» королевств Запада оставались пока северо-восточные германские земли. По-прежнему раздробленные саксы упорно, тем не менее, отстаивали свою самостоятельность от франкских королей. К северу, в Скандинавии, ускоренно строились пока еще эфемерные племенные «королевства». Их возглавляли довольно живучие, но переходившие с одного местного престола на другой династии. Некоторые вожди (подобно Ивару в конце VII в.) могли объединять под своей «властью» почти всю Скандинавию. И в политике конунгов, и в экономике скандинавских земель все большую роль играют дальние морские походы за военной и реже торговой добычей. Уже в начале VII в. скандинавы совершают далекие набеги на восточнобалтийские земли — предвестие грядущей эпохи викингов. В Восточной Прибалтике существовали собственные племенные объединения. Из них наиболее значительным являлось племенное «королевство» пруссов, управлявшееся дуумвиратом из военного и сакрального (Криве) вождя. Возникновение его связывается с легендарными братьями Видевутом и Брутеном и может относиться к V–VII вв. Дальше на север, у предков литовцев и латышей, объединительные процессы только начинались. Внутренний строй финно-угорских племен (в том числе тогда не звавшихся еще на Западе «эстами» предков эстонцев) оставался еще более архаичным. Хотя и здесь уже складывались племенные союзы. Главной угрозой для оседлых народов Центральной и Восточной Европы в начале VII в. являлся Аварский каганат, располагавшийся на землях Паннонии (ныне западная Венгрия). Аварская опасность являлась одним из главных факторов во внешней политике и Византии, и Франкского государства в первой половине VII в. Но и позднее, после временного упадка, каганат оставался мощной и опасной, пусть и более локальной, кочевой империей. Долгое время он не знал соперников на востоке. Только в 20-х — 40-х гг. в европейские степи на время возвращаются тюркюты. Возвращаются, чтобы исчезнуть со сцены европейской истории (под этим именем) навсегда, уступив место своим преемникам — хазарам и болгарам. Впрочем, эти события уже не столько авансцена, сколько непосредственное содержание славянской истории VII–VIII столетий. Славяне включились в строительство европейской средневековой цивилизации немногим позднее западных германцев, но как минимум не позже германцев северных, и намного раньше балтийских народов. Их история являлась органичной и неотъемлемой частью того на первый взгляд хаотичного движения, которое привело к появлению новой Европы в начале IX в. С другой стороны, и сама эта история не может быть представлена вне своего величественного фона, в отрыве от истории соседей, союзников и противников. Славяне к началу VII в.К началу VII в. славяне прошли уже длительный путь общественного развития. Славянский мир того времени представлял собой, с одной стороны, совокупность десятков малых племен-«родов» с собственными структурами власти, во главе с собственными князьями и воеводами. Но, с другой стороны, племена эти уже сплачивались в племенные союзы — первые зародыши государственности. Появляется подобие государственной власти в виде княжеской дружины. В юго-восточных, более захваченных Переселением Народов землях она постепенно становится разноплеменной, а оттого и скорее надплеменной. Княжеская власть превращается в наследственную — сначала в рамках одного клана, затем собственно в династии. Параллельно слабеют иные, архаичные институты, сыгравшие ранее немалую роль в складывании предгосударственного устройства. Относится это, прежде всего, к воинским и иным ритуальным союзам. В славянском обществе разворачивался процесс расслоения, формирования новой социальной структуры. Отчетливо заметна родоплеменная знать (господа, паны), чье могущество пока основывалось на общинном старшинстве. Еще четче выделяется в древнеславянском обществе жречество (ведуны), хотя верховным жрецом являлся сам князь. Постепенно начали оформляться новая военная, дружинная знать и тесно с ней связанная племенная «администрация». Бурные события времени великих переселений привели к росту роли рабства и данничества. Основными занятиями славян являлись земледелие и скотоводство. Земледелие носило на юге переложный или даже уже пашенный, на севере — преимущественно (но не исключительно) подсечно-огневой характер. На севере же, в том числе и из-за недостатка сельскохозяйственной продукции, обильнее занимались охотой, рыболовством, бортничеством. Жили славяне по преимуществу разбросанными поселениями-весями, объединенными в общинно-родовые и племенные «гнездовья». Укрепленные грады — пока большая редкость. Ремесло развивалось почти исключительно как домашний промысел. Но гончары и кузнецы, по меньшей мере, уже изготовляют продукт на заказ. Религия славян остается многобожной, сильно варьирующейся по отдельным племенным волостям. Первые попытки проповеди христианства в VI в. имели весьма скромный, если не почти нулевой успех. Во главе пантеона стоит, как правило, бог грозы Перун, покровитель князей и дружинников. Но с ним вполне успешно соперничает его антагонист, змееобразный бог загробного мира и даритель богатств Велес. Славянская обрядность носила еще первобытный характер, хотя наиболее буйные и жестокие черты архаики начинают понемногу уходить в прошлое. Политическая карта славянского мира на рубеже VI/VII вв. пусть с известной долей приблизительности, но может быть восстановлена. Восточные земли от левых притоков Днепра до Прута и Карпат занимали антские племена. Номинальным центром не очень прочной антской общности, предполагаемым местом общеантского веча являлось городище Пастырское в лесостепи между Днепром и Южным Бугом. Общего князя или вождя анты не имели. Анты к концу VI в. являлись союзниками Византии в войне против авар и собственных сородичей словен — последними в Европе. На востоке они соседствовали с кочевыми племенами — болгарами, хазарами, савирами. Восточную ветвь словен представляли дулебы. Дулебский племенной союз во второй половине VI в. достиг наивысшего расцвета. Северная, основная его часть охватывала территории от Днепра до Западного Буга, с севера ограничиваясь припятскими топями. На юге в состав дулебской общности в этот период временно, как автономная единица, вошли дунайские словене, занимавшие земли между Прутом, Карпатами и Дунаем и включавшие (как, впрочем, и большинство дулебов) значительный антский элемент. Во главе дулебского племенного союза с центром в городище Зимно на Западном Буге стоял правитель-князь с титулом «Маджак» (в арабской транскрипции) или «Мусок» (в греческой). «Малые» князья и воеводы отдельных племен или племенных групп формально подчинялись его верховной власти. В Аварских войнах конца VI в. дулебы и дунайцы выступали на стороне авар. Это сблизило их с каганатом и привело в конечном счете к распространению аварского влияния на восток до низовий Дуная. Западная ветвь словен, ляхи, потомки живших по левобережью Западного Буга лендзян, во второй половине VI в. расселились вверх по Висле и Бугу, на земли современной Польши. Здесь в результате смешения с разрозненными родами венедов (суковско-дзедзицкой археологической культуры) сложилась новая этническая группа. Политического единства она не представляла, но представляла ритуальное — вокруг капища Змея-Велеса на горе Вавель (ныне Краков). В конце VI в. лендзяне вступили в союз с Аварским каганатом и участвовали в переселениях на Балканы. Также поступили и оттесненные ими на северо-запад, в земли по Лабе (Эльбе) венедские племена ободричей и др. В описываемый момент их движение на север, к Балтике, еще продолжалось, что не помешало части их переместиться на Балканы в ходе Аварских войн. Противостоящую натиску авар группу северных славянских племен представляли, прежде всего, западные хорваты — переселенцы из антских прикарпатских областей. Сплотив вокруг себя часть славянских племен Чехии (Богемии) и Силезии, а также своих сородичей сербов, они в VI в. создали единый племенной союз во главе с сакральными правителями, носившими титул Крок или Крак. Борьба хорватов и сербов против авар становится важным движущим фактором развития событий не только в этих землях. В то же время жившие к юго-востоку от чехов мораване в числе первых попали под власть Аварского каганата и также участвовали в балканских войнах и переселениях. К северу от хорватского к концу VI в. возникает еще один враждебный аварам и их славянским союзникам племенной союз. Его создатели — выходцы из Силезии велеты, создатели фельдбергской археологической культуры. Велетский союз со своей единой княжеской властью, жесткой общественной структурой и высокой боеспособностью надолго превратился в серьезного противника соседних племен и государств. И в то же время он оказался в состоянии обеспечить себе независимость и обширные земли. Далеко на северо-востоке, в полной изоляции от южных сородичей, развивалась племенная общность славян-кривичей. Ее главным центром являлись земли к югу от Чудского озера, по реке Великой. Но кривичские поселения уже в V–VI вв. распространились далеко на восток, до Поильменья и даже Белозерья. На юге кривичи рассеянно жили среди балтов Подвинья и Верхнего Поднепровья. Смешение с балтскими и финскими племенами наложило отпечаток на историю и культуру кривичей. Они пока не представляли политического единства — но осознавали свою общность, основанную на происхождении от божественного предка Крива (Бая, Велеса). Перечисленные здесь племенные союзы было бы не совсем верно определять как непосредственных предшественников славянских государств средневековья. Бурные исторические события VII–VIII столетий существенно перетасовали племенные границы, породили новую политическую реальность. Но кое-какие линии преемства все же прослеживаются. И именно в VII–VIII вв., по мере зарождения средневековых народностей, начинается строительство тех государств, которые известны из писаной славянскими хронистами истории. Часть 3Глава первая. Завоевание БалканНачало последнего нашествияНа момент «революции Фоки» дела аваро-словенского союза в его противостоянии с Империей обстояли далеко не лучшим образом. Словене только что понесли тяжелое поражение от ромейских войск, хотя и сохранили волю к сопротивлению. Аварский поход против союзников Константинополя, антов, оказался сорван мятежом в каганате. При этом мятежники откочевали за Дунай, под власть и защиту императора Маврикия. В этих условиях мятеж Фоки, оголивший границу на Дунае, оказался для кагана и его союзников наилучшим подарком. Падение же Маврикия, начавшее гражданскую войну в Империи, послужило сигналом к масштабному вторжению. Нельзя сказать, чтобы Фока никак не пытался этому помешать. Он присвоил себе императорский титул, конечно, не ради того, чтобы потерять половину имперских земель. Но главной заботой узурпатора сразу же оказались азиатские провинции. Персидский царь Хосров, многим обязанный Маврикию, под лозунгом мести за него возобновил ромейско-персидскую войну. На его стороне выступила и часть самих ромеев во главе с самозванцем Феодосием, выдававшим себя за якобы спасшегося сына Маврикия. В условиях развала государственной машины Фока сделал выбор в пользу именно восточной войны. На западе он обязался выплачивать кагану повышенную дань, фактически признав поражение Империи. Каган принял и эту щедрость нового императора, но от завоевания балканских провинций не отказался. Можно не сомневаться, что наблюдавшие развал Ромейской державы и лишенные ее поддержки авары-перебежчики не преминули вернуться к прежнему властелину. Теперь они превращались в авангард масштабного аваро-славянского нашествия. О нем мало что известно. Греческие историки о действиях авар сообщают в общих фразах, а о славянских вообще не упоминают. Сколько-нибудь ясные и все равно отрывочные сведения о действиях «варваров» в Европе при Фоке имеются только в негреческих источниках (Хроника Иоанна Никиуского, «Армянская география»). Действительно, правители Империи за ожесточенной Персидской войной и собственными раздорами просто не обращали внимания на происходившее в Европе. Дань, выплачиваемая кагану, давала призрачную безопасность Константинополю. Во всех остальных землях Балкан «варвары» действовали по своей воле, но это Фоку и его окружение волновало тем меньше, чем сильнее качался престол под узурпатором. Так что письменные свидетельства о событиях поистине значимых, положивших начало истории южных славян, крайне скудны. Историю начального этапа последнего славянского нашествия на земли Империи можно восстановить лишь по названным негреческим сочинениям, данным археологии, языка,[1036] а отчасти и по поздним южнославянским преданиям. На основе болгарского средневекового предания можно заключить, что местом переправы стали окрестности Видина (Бдына), ромейской Бононии.[1037] Это подтверждают и наблюдения за распространением славянских местных названий на Балканах. Они же позволяют заключить, что к начатому славянами Мунтении и Олтении нашествию присоединились во множестве сородичи с запада, из земель, подвластных напрямую аварскому кагану. Общее число принявших участие в нашествии племен, по «Армянской географии», — 25.[1038] Речь на этот раз шла не просто о завоевательном походе, но о массовом переселении. Славяне, конечно, и ранее оседали на имперских землях целыми семьями и «родами». Но в этот раз поток переселенцев несказанно превысил все предыдущие. К тому же за ним последовали новые и новые вливания из-за Дуная, продолжавшиеся почти весь VII в. Столь грандиозное вторжение не могло быть разовым «предприятием» одного-двух вождей и тем более провокацией аварского кагана. Несомненно, он изначально приложил к этому руку и первые годы действовал со славянами в союзе — но не более того. Переселенцами определенно двигали не зависевшие от их воли обстоятельства. Перенаселение придунайских областей ощущалось все тяжелее. Разорение их в ходе Аварских войн усугубляло проблему. Из племен, участвовавших в нашествии, нам известны далеко не все. Многие племенные названия возникли уже на Балканах. Встречались племена антского (северы, сагудаты), ляшского и полабского (смоляне и действовавшие на западе, в Далмации, лендзяне) и дулебского (дреговичи, берзичи) происхождения. Наряду с ними участвовали в переселении и племена, сложившиеся собственно на Дунае — или южнее, в ходе самого переселения. Таковые мы можем предполагать в племени с выразительным наименованием «войничи» (греч. ??????????) и в велеездичах (???????????), чье название происходит от двусоставного «княжеского» имени «Велеезд».[1039] В переселение на самых разных участках оказались втянуты десятки племен и «родов», прежде всего с территорий, так или иначе подвластных аварскому каганату. Культурой своей и языком они уже отличались от составивших основу переселенческого потока восточных славян — антов и дулебов. В заселении Фракии и Македонии, например, определенно приняли участие «ляшские» выходцы (известны нам смоляне). Участвовали в движении на Балканы с первых его лет и пришельцы из «чешско-словацких» земель (мораване и др.).[1040] 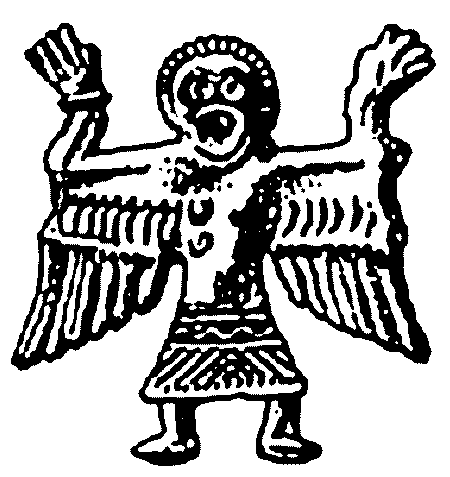 Славянские женские украшения Переправившись в районе Видина, славяне разделились на два потока. Один, главный, двинулся прямо на юг, к «Охридской земле», где первые славяне осели уже в конце VI в. Другие переселенцы разными путями шли вниз по Дунаю, по южному берегу. В их числе сильнейшим племенем были северы, возглавившие возникший во Фракии союз Семи родов.[1041] Это вторжение с запада покончило с нижнедунайским отрезком лимеса. Славяне разрушили ряд нижнедунайских крепостей. В частности, тогда погиб античный город Каллатии в самых низовьях, один из важных центров провинции Скифия.[1042] Под натиском новопришлых бежали местные жители, прежде жившие еще совместно с фракийскими словенами. Это видно, например, на примере туземного кладбища Петра-Фрэкецей в северной Фракии. К началу VII в. на нем появляются славянские погребения, а затем хоронить здесь вовсе перестали.[1043] Двигавшиеся на юг, к Охриду, славяне также в итоге разделились на два потока. Зримая причина тому — необходимость обойти с востока и с запада неприступную Фессалонику. Иоанну Никиускому казалось, что это единственный греческий город, кроме столицы, оставшийся свободным от «варваров» в Европе к 610 г.[1044] Здесь некоторое преувеличение, однако ни славяне, ни авары действительно не стали штурмовать Фессалонику при Фоке. Западная ветвь свернула также во Фракию. На границе провинций Родопа и Македония образовался очаг славянского расселения, занятый позднее, в числе прочих, племенем смолян. Возможно, что еще одной причиной разделения стали какие-то разногласия между выходцами из далекого полабского региона и племенами восточного происхождения, осевшими затем в Македонии. Район древнего Лихнида славяне освоили еще в конце нашествия 580-х гг. Теперь основанное на развалинах античного города славянское село превращается в укрепленный град Охрид, столицу племени берзичей.[1045] По соседству с ними осели сагудаты, дреговичи, велеездичи, войничи. VII в. — время строительства многих славянских поселений на Балканах. Некоторые из них возникали на месте прежних неславянских — как разрушенных крепостей (Долно Церово, Перник в верховьях Струмы), так и сел, покинутых прежними обитателями.[1046] Из Македонии славяне во множестве проникали на запад от Охридского озера, в Старый Эпир. Населявшие эти земли едва романизированные горные иллирийцы вскоре начали смешиваться с пришлыми «варварами» — процесс, положивший начало албанской народности. Это отразилось в древностях команской культуры VII–IX вв.[1047] Такое мирное или в основном мирное смешение завершилось «в пользу» иллирийского элемента, но гораздо позднее. В VIII же в. окрестности Диррахия, древней столицы Старого Эпира, числились «аварской» территорией.[1048] «Авары» же — обычное наименование заселивших Элладу славян среди греков. Южноэпирские земли оставались славянскими еще долгое время после того. На завоевании Фракии и Македонии первая волна нашествия остановилась.[1049] Славяне начали расселяться на новых землях, замиряясь и смешиваясь с местными сельскими жителями. Впрочем, во многих местах, опустошенных внешними и внутренними войнами, голодом и эпидемиями, славяне не встречали никакого туземного населения и обосновывались беспрепятственно. Особенно это касалось приграничных земель Нижней Мезии и Скифии, где осела основная масса Семи родов.[1050] После 610 г. воины-завоеватели в массовом порядке начали перевозить из-за Дуная свои семьи. Именно тогда появляются на юге «антские» пальчатые фибулы — застежки женских плащей.[1051] Расселение во Фракии и Македонии происходило, как уже сказано, во многом стихийно — не против воли аварского кагана, но и вряд ли по его велению. Несколько иначе обстояло дело на западе, где переселенные самим каганом к границам Империи племена лендзян и стодорян штурмовали границы провинций Далмации и Истрии. После крушения пограничной обороны в Далмации на рубеже VI/VII вв. аварский каган предоставил земли провинции в полное распоряжение своей основной ударной силе на этом участке — лендзянам. В первые десятилетия VII в. лендзяне обживали Далмацию, не упуская, естественно, стеснять при этом романское население прибрежных городов, в том числе столицы провинции — Салоны.[1052] Но, несмотря на все чинимые салонитам тяготы, занятые заселением доставшейся территории славяне не посягали на сами стены далматинских городов до воцарения Ираклия. Приход на рубеже VI/VII вв. в Далмацию славян вместе с аварами подтверждается археологами. Данные археологии свидетельствуют не только о конфликтах, но и о мирном взаимодействии славян с местными жителями.[1053] Как и в других местностях, славяне и авары воспринимали как своих врагов, в первую очередь, жителей городов — основной опоры имперской власти и армии. Поселяне, готовые нести повинности в пользу победителей (не более тяжкие, чем имперские подати), могли оставаться на своих местах, жить бок о бок со славянами, родниться с ними. Наряду с заселением в Далмацию продолжались в царствование Фоки и набеги славян в западном направлении, на Истрию и ромейскую Италию. Движущей силой выступали стодоряне и соседние с ними племена, издавна оседавшие в альпийском Норике. В этот период разнородные элементы — славянские, лангобардские, романские, — сливаются здесь в новую славянскую культуру.[1054] Это, разумеется, нисколько не мешало славянам под главенством авар и в союзе, кстати, с теми же лангобардами вести войну против ромеев. О ходе этой войны мы имеем несколько более четкое представление, чем о событиях на востоке — благодаря «Истории лангобардов» Павла Диакона. В июле 603 г. король лангобардов Агилульф выступил из Милана на принадлежавшую ромеям Кремону. Лангобарды, как и авары, спешили воспользоваться последствиями византийской смуты. На помощь союзнику аварский каган отправил славянские отряды. Вместе с ними Агилульф осадил Кремону. 21 августа город пал и по приказу короля-победителя был до основания разрушен. Затем лангобарды и славяне направились к Мантуе. Последовала новая осада — и когда стены разрушили с помощью таранов, гарнизон сдался под гарантии безопасности. Агилульф разрешил ромеям уйти в Равенну и 13 сентября вошел в Мантую. За Кремоной и Мантуей последовали другие ромейские крепости. В конечном счете правивший Равенной экзарх вернул Агилульфу захваченных ранее дочь и зятя (главный повод к войне) и заключил перемирие. Только так удалось остановить успехи лангобардов и их славянских союзников.[1055] Переселение масс славян на обширные земли к югу от Дуная, естественно, сопровождалось постепенным запустением территорий к северу от великой реки. Ипотештинская культура медленно, но неуклонно приходит в упадок. Уже в начале VII в. прекратились захоронения на самом крупном ее могильнике — Сэрату-Монтеору.[1056] Но другие могильники (например, в Ловне) продолжают пополняться погребениями и в эти годы. Возникают и новые поселения (например, Лозна-Дорохой).[1057] При явном сокращении населения северодунайские земли пока отнюдь не запустели. Не стало их население и менее славянским. На юг уходили не только славяне, но жившие с ними бок о бок романцы-данувии. Более того, они уходили даже с большей охотой. Массовое переселение позволяло разорвать узы зависимости от славян, основывать собственные поселения, слиться с давно потерянными задунайскими сородичами. В итоге получилось так, что доля славянского населения к северу от Дуная в VII в. только возрастала.[1058] Аварское игоВ результате событий 602-го и последующих годов Аварский каганат на короткое время оказался в роли сильнейшего государства как минимум Восточной Европы. Для кочевой знати во главе с каганом это само про себе означало сигнал к активным действиям. Не только по окончательному сокрушению врагов, но и по покорению вчерашних союзников. Внезапный успех вскружил верхушке каганата голову. Мы достаточно подробно можем наблюдать это на примере отношений с лангобардами. Уже очень скоро объектом агрессии кочевников, наряду с ромейской Истрией, оказался и лангобардский Фриуль. Но один из первых ударов пришелся по «союзным» каганату славянам. Переселение славян за Дунай отвечало интересам авар — в том числе и в смысле установления более прочной власти над «союзниками». Разрозненные по большей части «роды», не обосновавшиеся еще на новых землях, естественно, искали объединяющее начало, могущественных покровителей. А такими могли выступить только авары. С другой стороны, переселение, начавшееся от избытка народа, постепенно начало ослаблять, даже обескровливать славянские земли к северу от Дуная. Авары быстро подметили, что это открывает для них новые возможности. Еще в первые годы VII в. (если не ранее[1059]) авары установили более плотный контроль над славянскими землями к северу от Среднего Дуная. Эти территории — Поморавье и примыкающая к нему южная Словакия. Здесь в VII в. распространяется культура, названная археологами «аваро-славянской».[1060] Авары не только обложили данью подвластные славянские племена, но и взяли себе в обычай зимовать в славянских придунайских землях. Во время этих зимовок они брали себе на ложа и дочерей, и жен славян.[1061] Детей от этих браков каганы намеревались использовать в своих интересах. Памятниками авар к северу от Дуная остались кочевнические захоронения в славянских или смешанных могильниках — в сопровождении коней, с предметами конской сбруи. Они обнаружены повсеместно — но в небольшом по отношению к общему числу погребений количестве. Наиболее крупные аваро-славянские кладбища появились в VII в. в Поморавье и Словакии. В Голиаре 26 аварских всадников с конями погребены на старом славянском могильнике, среди сожжений славянских общинников. Вместе с ними появляется гончарная керамика позднеримских и дунайских типов. В Нове Замку близ Нитры из 514 погребений — 26 всаднических с конями, в 4 случаях с оружием. Основанный в начале VII в. могильник в Желовцах (Словакия) в числе 870 могил содержал немало всаднических погребений. В 18 из них найдены кочевнические сабли, в том числе в одном детском, в 10 — луки. При оценке этих данных надо иметь в виду, что погребения совершались на протяжении весьма долгого времени, до полутора-двух веков. Аварские вещи обнаруживаются и на славянских поселениях в Словакии и Южной Моравии. Дальше на север проникали лишь отдельные авары — или аварские предметы. Богатые поясные наборы, к примеру, ценила и чешская знать.[1062] Аварские воины-всадники пытались заменить собой и своим полуславянским потомством племенную верхушку, но численность их оставалась незначительной. Местная же знать в значительной части оказалась истреблена. Остатки родовых «господ» служили завоевателям в качестве старшин административных округов каганата, жуп — жупанов. Этот титул для обозначения мелкого племенного вождя-старейшины позднее прижился у западных и юго-западных славян. Жупы примерно соответствовали (а затем стали точно соответствовать) малым славянским племенам, включавшим по нескольку «родов»-общин. Славяне обеспечивали завоевателей не только продуктами земледельческого труда, но и воинской силой. «Когда гунны шли в поход, — пишет Фредегар, — против какого-либо народа, гунны, собрав свое войско, стояли перед лагерем, виниды же сражались. Если они оказывались в состоянии победить, тогда гунны подходили, чтобы захватить добычу. Если же винидов одолевали, то, поддержанные гуннами, они вновь обретали силы… Они шли впереди гуннов, образуя в сражении двойную боевую линию». Отсюда происходило наименование славян в аварской среде — латино-германское слово «бифульки», «двойное войско».[1063] Помимо всего прочего, славянские мастера изготавливали для авар ремесленные изделия — в том числе оружие и детали высоко ценившихся кочевой (и славянской) знатью поясных наборов. Привезенные с востока образцы становились импульсом для дальнейшего развития славянского ремесла.[1064] На обширных покоренных каганатом пространствах естественным образом встречались и сливались различные культуры. Так и славянская культура на среднем Дунае уже в самом начале VII в.[1065] переплелась с романской и германской. Ранее подобное происходило преимущественно в приальпийских землях Норика с их смешанным населением. Теперь это характерная черта аваро-славянской культуры Подунавья. Поспособствовали принудительные переселения целых племен и жителей придунайских римских городов, устраивавшиеся каганами. В процесс включились и подвластные кагану племена балканских славян. Потому языки предков чехов и словаков (особенно среднесловацкие диалекты) сблизились со славянским югом.[1066] Северные славяне восприняли от новых соседей гончарный круг. В славянской среде к северу от Дуная на смену лепной пражско-корчакской приходит новая гончарная керамика так называемого дунайского типа. Родившись в центральных областях каганата, у славян она восприняла многие черты местной посуды. Керамику украшали простейшим, но богатым орнаментом — волнистым или линейным.[1067] Уже скоро, в считанные годы, гончарство (как и другие черты аваро-славянской культуры) выходит за пределы каганата и распространяется среди его врагов. Культурное взаимодействие славян по обе стороны аварской границы не прерывалось. К тому же из аварской Паннонии бежали на свободный еще север как славяне, так и создавшие дунайскую керамику романские гончары.[1068] Появляются в славянской среде и погребения по обряду трупоположения здесь как раз под воздействием самих завоевателей, а не только покоренных ими народов. Славяне хоронили умерших на одних кладбищах с аварами. Славянские могилы отличаются западной или юго-западной ориентировкой погребенных и сравнительно небогатым инвентарем (посуда, отдельные украшения). В некоторых из них, как и у авар, — романское влияние, — находят остатки деревянных гробов или обкладки захоронений досками. Но в основном славяне сохраняли верность своему обычаю кремации. К VII в. относится ряд грунтовых могильников с трупосожжениями в Поморавье и других славянских землях.[1069] Наконец, вслед за своими сородичами с приальпийских земель, славяне Среднего Подунавья восприняли от романцев начала крепостного строительства. Стены градов начали местами строить из камня, а на подсыпанном к стенам валу устраивались деревянные палисады, решетки или иные дополнительные заграждения. Эту новую технику тоже быстро восприняли и противники каганата. Уже в первых десятилетиях VII в. грады нового типа вырастают в Чехии, Моравии и даже в междуречье Лабы и Заале.[1070] Интенсивное градостроительство, развернувшееся по обе стороны границы, — недвусмысленное свидетельство разжигавшихся аварами распрей между союзными и враждебными им славянскими племенами. Оно принесло наступившей на землях Чехии и Словакии в VII в. эпохе название «старогородищенской». К этому периоду относится возникновение целого ряда важных в будущем градов Моравии (Микульчице, Старе Место, Бржецлав-Поганско, Зноймо и др.) и Словакии (Нитра). В их древнейших слоях преобладает еще пражско-корчакская керамика. Некоторые из них, впрочем, еще не были тогда укреплены. Но Микульчице — самый старый и значимый среди градов Моравии — уже на первом этапе своего существования, с начала VII в., защищен частоколом. Здесь вместе со славянами жили и завоеватели-авары.[1071] Авары и их поданные чаще выступали как нападающая сторона. Поэтому большинство градов строилось к северу от аварских границ. Особенно много их в Центральной Чехии, вплоть до границы с Моравией. Но есть они и в других областях. Ранние грады являлись, прежде всего, убежищами от кочевнических набегов. Со временем, однако, в них появляется постоянное население. Жители градов занимались возделыванием окрестных земель. Но размещение в градах князей с их дружинами притягивало мастеров, работающих на заказ. Так грады превращались в центры ремесла. Защищались они обычно деревянным палисадом. Но тогда же, в VII в., славяне возводят уникальную оборонительную систему в Праховских скалах. Используя выгоды гористой местности, они восстановили и расширили древние валы, превратив гнездовье неукрепленных сел в настоящую крепость против кочевников.[1072] Грады с рубежа VI–VII вв. строят славяне и дальше на север, в Силезии. Среди первых силезских градов — Гостынь, Кленица, Пшыток, Попенчыце, Полупин, Каменец. Все это небольшие племенные крепости-убежища. Но некоторые из них определенно возводились и как политические центры племен.[1073] Авары не ограничились закреплением власти над уже покоренными славянами Среднего Дуная. Следующий удар направили на восток, в земли дулебов. Уже на рубеже VI/VII вв. каганат установил контроль над Нижним Подунавьем. В условиях оттока отсюда славян на Балканы этот контроль неизбежно укреплялся. В то же время дулебы, отдавшие великому переселению на юг немало и своих людских сил, имели основание считать земли дунайцев (а может, и задунайские) своими. Это — наиболее вероятная причина прямого столкновения между ними и аварами, происшедшего в пору наивысшего расцвета каганата, в первой четверти VII в. Столкновение это положило конец дулебскому союзу племен под главенством «царя» бужан Мусока (Маджака). То ли в связи с аварским ударом, то ли независимо от него (или даже невольно создавая для него условия) в среде дулебов разразилась распря. Власть бужанского великого князя над огромной территорией, на которой расселились происшедшие от бужан племена, неизбежно стала призрачной — а со временем и вызвала раздражение. «Раздоры» привели к распаду союза и возникновению независимых племенных «княжений». Это событие отразилось не только в волынском предании, записанном в Х в. Масуди,[1074] но и в русских летописях. «Повесть временных лет» говорит об одновременном возникновении племенных «княжений» у древлян, дреговичей и полян. Правда, киевский летописец предпочел приурочить это событие не к гибели древнего дулебского союза (о чем говорит в другой связи), а к смерти основателя Киева, Кия.[1075] «Повесть временных лет» сохранила иное волынское предание — об установившемся теперь и над дулебами аварском иге. «Обры, — повествует летописец, — воевали со словенами и угнетали дулебов, сущих словен, и насилье творили женам дулебским. Если ехал куда обрин, не давал впрячь ни коня, ни вола, но велел впрячь 3, или 4, или 5 жен в телегу и везти обрина, — так вот мучили дулебов. Были ведь обры телом велики, а умом горды…»[1076] Как и в среднедунайских землях — хотя и совсем в ничтожном количестве — на Буге появились аварские наместники. Они наезжали в основные земли дулебов-бужан, в прежний центр племенного союза. Число их, повторим, было крайне мало, и едва ли они отдалялись от реки на восток. Но память о чинившихся ими насилиях крепко держалась еще спустя почти полтысячи лет.  Воин. Велестинская коллекция После аварского завоевания, в первой половине VII в. (вследствие аварского погрома или племенных распрей) прекратилась жизнь на городище Зимно[1077] — в стольном граде «Маджака». Бывший дулебский союз распался не на четыре, как можно было бы заключить по племенной карте X–XI вв., а на гораздо большее число независимых племенных «княжений». Совсем не обязательно «княжения», особенно на первом этапе, соответствовали целому племенному союзу. Более вероятно, что первоначально независимыми объявили себя все «малые» князья отдельных племен. Среди них, несомненно, древляне, дреговичи и поляне, — но также и берзичи, и жеревичи, и многие иные племена, забытые к моменту создания летописей, но известные источникам еще IX столетия. При этом многие из них еще сознавали свое дулебское единство (принадлежали к одному роду?) и продолжали титуловать себя «малыми» — как древлянские князья вплоть до конца своего племенного княжества. В прямое подчинение аварам перешли лишь земли собственно бужан вдоль Западного Буга, где прежде стояло Зимно. При этом какая-то часть дулебской знати ушла от завоевателей на восток, в земли племенного союза лучан. По крайней мере, складывается ощущение, что автор «Повести временных лет» считал бужан (волынян) лишь территориальными преемниками древних дулебов. «Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне», — сказано в летописи.[1078] Потомками же, своеобразными наследниками дулебов числили себя, судя по известию Яна Длугоша, жители восточной Волыни — лучане.[1079] Этот племенной союз существовал к IX в. и являлся одним из сильнейших в регионе. В VII же в. какая-то часть и лучан была подчинена или пленена аварами — составив основу позднейшего чешского племени лучан. Дальше, однако, «обры» вряд ли продвинулись. «Дерева» на западе и полесская «дрегва» на севере без местной подмоги становились неодолимой преградой. Если дулебы являлись пусть условными, но союзниками каганата, то другая племенная группа тогдашних восточных славян — анты — всегда находилась с каганатом во вражде. Аварский каган готовил поход на антов еще в 602 г., но тогда тот прервался мятежом его подданных. Теперь, после краха ромейского могущества, анты, вчерашние союзники Империи, остались с аварами наедине. Возмездие за помощь ромеям должно было последовать неизбежно. И есть все основания считать, что оно последовало — до или после покорения дулебов. Следов массового разорения и истребления антов нет.[1080] Но авары и не ставили это всерьез своей целью. Они нуждались в антских землях с населением, а не без. Следом обоснованной тревоги, охватившей антскую дружинную знать на рубеже VI/VII вв., остались, прежде всего, невскрытые клады Среднего Поднепровья — в том числе знаменитый Мартыновский, давший имя всей этой группе антских древностей.[1081] Оставшиеся в живых владельцы вещей бежали от авар в глубь Левобережья, либо дальше на восток — в союзную болгарскую Степь. Авары на несколько десятилетий оказываются западными соседями болгар приазовской Великой Болгарии, и хан Куврат вынужден вступить с ними в прямые сношения — на первом этапе враждебные.[1082] Восточную границу продвижения авар в начале VII в. отмечает местное древнерусское название «Обров» на Левобережье, в окрестностях города Переяславля.[1083] Новое аварское нашествие поставило точку в более чем столетней истории антского племенного объединения. Оно окончательно распалось и исчезло со страниц источников. Последнее упоминание антов — кратковременное воскрешение титула «Антский» византийским императором Ираклием в новелле 612 г.[1084] За этим упоминанием не стоит ничего конкретного. Пышная титулатура восточно-римских императоров, от использования которой Ираклий вскоре вовсе отказался, являлась лишь следом неподкрепленных притязаний на наследие Юстиниана. Разве что можно с какой-то степенью вероятности допустить, что Ираклий уже тогда искал связей с сербами и хорватами в Центральной Европе. Равеннскому Анониму, писавшему на грани VIII в., встреченное у Иордана имя антов ни о чем не говорило, и он передал его как Itites.[1085] Так сошли со сцены большой истории племена, некогда державшие в страхе немалую часть Европы. Впрочем, сами анты остались — просто потеряли свое политическое влияние. Они, как видно, сохраняли еще и свое забытое остальной Европой самоназвание. Некоторые из них, на Левобережье и в лесостепном Среднем Поднепровье, либо сохранили независимость от каганата, либо быстро восстановили ее. Подобно дулебам, анты разделились на несколько племенных «княжений», практически не привлекающих внимания тех держав, что строили в Северном Причерноморье свою политику. Участь же дулебов и антов, оказавшихся под аварским игом, отягощал не только аварский гнет. Стремясь обеспечить центр каганата податным земледельческим и ремесленным населением, а заодно сплотить разноплеменные провинции в единое целое, каганы и Восточную Европу вовлекли в водоворот своей переселенческой политики. Множество выходцев из антских[1086] и дулебских областей, сорванных с родных мест, принудительно расселили на западе. Дулебы осели в пределах каганата целыми племенами — в Паннонии, в Норике и, прежде всего, в Южной Чехии, где стали основным населением. Поселяя чужаков-дулебов к северу от Дуная, в землях, пограничных с враждебным хорватским племенным союзом, каган укреплял, а не ослаблял этот участок рубежей своей державы. Выселяли для этой цели преимущественно боеспособных мужчин, которые женились на местных славянках.[1087] Дулебы принесли в Чехию курганный обряд захоронения, дотоле на Среднем Дунае неизвестный. Он распространился у племен, подвластных каганату, — у заселивших большую часть Южной Чехии дулебов, у соседних с ними с востока мораван, у части северо-западных и восточных словацких «родов». В эту же группу зависимых от каганата племен вошли (или произошли от них) жившие к северо-востоку от дулебов зличане. Их регион с центром в Либице неглубоко, но врезался между чешским и собственно хорватским. Зличане сложились в результате смешения хорватов и продвинувшихся на север дулебов. Один из позднейших градов этих мест недаром носил имя Дудлебу. Отпадение зличан от хорватского союза, при небольших размерах их территории, являлось довольно значимым успехом авар. Он доказывал эффективность опоры на вынужденных переселенцев-дулебов. Именно от зличан восприняли позднее курганный обряд сами хорваты — единственные из враждебных аварам племен. Впрочем, давление авар привело к более плотному заселению в этот период не только юга, но и хорватского северо-востока Чехии. Среди переселенцев, конечно, были и беженцы из числа тех же дулебов.[1088] Авары покорили и часть Чехии к западу от Лабы. Здесь, по Огрже до ее впадения в Лабу, они расселили зависимых от себя лучан.[1089] Следы присутствия переселенных аварами славян в Паннонии довольно многочисленны. Сначала славяне сохраняли верность исконному погребальному ритуалу — трупосожжениям, заключая прах в урны пражско-корчакского типа. Затем, на протяжении VII–VIII вв., можно наблюдать постепенное восприятие ингумации. В отличие от авар, славяне хоронили умерших головой к западу. Подобные захоронения отмечены на многих паннонских могильниках аварского времени (Орослан, Покасепетк и др.). Среди встречающихся в захоронениях славянских вещей — пальчатые фибулы, ритуальные ножи с волютообразной рукоятью. В свою очередь, паннонские славяне, как и сородичи в Поморавье, освоили гончарный круг и стали изготавливать посуду дунайского типа. Ассимиляции славян не произошло — при всем взаимодействии с аварами, романцами, германцами они сохраняли свою самобытность.[1090] Избыток славянского населения в среднедунайских областях, образовавшийся в результате переселений, позволил каганам использовать славян и для освоения иных земель. Часть таких переселений могла происходить стихийно, но другая, вне сомнения, являлась частью каганской политики. На юго-востоке в VII в. усилилось проникновение славян в населенные прежде гепидами и отчасти влахами земли Трансильвании. При этом приходят славяне вместе с аварами. Двигались они из Потисья или из Закарпатья, по реке Сомеш. По приходе они подселялись на уже существующие поселения гепидов и романизированных туземцев.[1091] На западе славяне, носители аваро-славянской культуры, постепенно осваивают будущую Нижнюю Австрию.[1092] Наконец, ко времени наивысшего могущества каганата в первых десятилетиях VII в. относится проникновение славян из Среднего Подунавья в верховья Майна. Здесь у впадения реки Регнитц, неподалеку от современного города Бамберг, известны урочище Кнетцгау, «винидский холм» Винидсхейм и «княжий град» Кнетцбург. Обнаружено множество фрагментов пражско-корчакской керамики — явное свидетельство существования здесь с первой половины VII в. славянских поселений.[1093] Их возникновение могло объясняться бегством славян (лучан или их соседей) от аварского гнета под защиту противостоящего аварам Франкского государства, ближе к его границам. Выход на Майн мог быть и просто естественным следствием движения чешских «родов» вверх по Огрже — движения, которое, конечно, ускорилось и аварским натиском, и переселением лучан. С другой стороны, имели место и обратные переселения славян из придунайских земель в Восточную Европу. Находки на Пастырском, в Зимно и на ряде других переселений свидетельствуют о присутствии здесь мастеров-ремесленников со Среднего Дуная. Они принесли на юг Восточноевропейской равнины некоторые новые техники работы по цветным металлам, свой художественный стиль, типы украшений.[1094] Среди этих переселенцев имелись и славяне. Мастеров, работавших на заказ, приводили с собой воины-авары. Славяне, как мы видим, немало нового восприняли в свою культуру под властью каганата. В отношениях их с аварами на первых порах трудно увидеть явную враждебность. Славянские воины не только сражались вместе с аварами против общих врагов — прежде всего, ромеев. Они, пусть вынужденно, бились и против собственных, славянских же, сородичей, в подталкиваемых каганом распрях. Однако все это, разумеется, не свидетельствует о смирении славян с аварским игом, насильственным и унизительным — скорее, в конечном счете это только усиливало чувство унижения. Если же говорить о культурном взаимодействии, то оно происходило главным образом не с завоевателями, а с такими же завоеванными народами — романцами, гепидами. Следы тесных контактов с альпийскими романцами сохранились в праславянском языке. Происшедшие примерно в аварскую эпоху языковые заимствования широко разошлись не только в приальпийских землях, но по всему северном славянскому ареалу, вплоть до восточнославянских языков. Заимствования эти по преимуществу (но не исключительно) отражают взаимодействие в хозяйстве — растениеводстве, металлургии и т. д.[1095] Сокрушение аварами существовавших около века славянских племенных союзов само по себе подавило волю к активному сопротивлению у многих славян. Причины падения антской и дулебской племенных конфедераций для современной науки лежат на поверхности — прежде всего, это сама их непрочная структура. Однако первое поколение очевидцев, славян-язычников, победа авар сама по себе заставляла видеть в завоевателях некую потустороннюю силу, борьба с которой бесполезна. Авары, разумеется, использовали в своих интересах и представления самих славян о ритуальных и общественных обязанностях любых покоренных перед покорителями. Это не исключало, однако, ни ненависти к «насильникам», ни пассивных форм борьбы — прежде всего, тайной помощи противникам авар. Об одном таком эпизоде, имевшем место где-то в приальпийских землях Норика после 610 г., рассказывает Павел Диакон. Его прадед Лопихиза при разорении аварами[1096] в 610 г. лангобардского Фриульского герцогства с другими детьми авары увели в Паннонию. Спустя годы ему удалось бежать из плена. Приют он нашел в каком-то славянском селении. «Когда одна женщина, уже пожилая, его увидела, то сразу поняла, что он беглец и страдает от голода. Движимая жалостью к нему, она спрятала его в своем доме и тайно давала ему понемногу еды, чтобы не погубить его совсем, если сразу накормит его досыта. Именно так, надлежащим образом, давала она ему пищу, пока, отдохнув, он не восстановил свои силы. А когда она увидела, что он уже в состоянии идти, то, снабдив его провизией, указала, в какую сторону он должен держать путь. Через несколько дней он вступил в пределы Италии и пришел к дому, где родился».[1097] Именно в эти десятилетия наивысшего могущества каганата в северные славянские диалекты входит слово «обры» — авары. Оно на долгие века осталось обозначением мифических злых великанов, богоборцев, «варваров».[1098] Такое же представление мы находим запечатленным и в летописной притче об «обрах». Значения этого слова лучше всего характеризуют отношение славян к культурному и политическому «симбиозу» в рамках Аварского каганата. Установившееся аварское иго с самого начала вызывало всеобщую ненависть. Оно держалось только на представлении об исключительном могуществе завоевателей, сложившемся из-за их впечатляющих ратных успехов. Свержение аварского господства являлось делом времени. Рождение южного славянстваVII в., время широкого расселения славян по всему Балканскому полуострову, положил начало истории южнославянских народов — болгар, македонцев, сербохорватов, словенцев. Складывание первоначальных южнославянских народностей и их культур происходило в условиях масштабных племенных передвижений и смешений. Источниками ему послужили различные этнические группы — как славянские, так и неславянские. Со славянской стороны прослеживается участие, помимо придунайских словен-дулебов и антов (составивших основу южного славянства), также выходцев из разных западнославянских областей. Из неславян свой вклад в формирующееся единство внесли местные романцы (влахи), иллирийцы, фракийцы. Все это отразилось как в языках, так и в материальной культуре древнейших южных славян. Языки южных славян разделились в итоге на две ветви — болгаро-македонскую и сербохорватско-словенскую.[1099] Языки западной ветви позднее обособились от общеславянского, что можно особенно четко видеть по судьбе языковых заимствований и новообразований. Десятки из них наличествуют в северных славянских языках и южнославянских западной группы, но отсутствуют в болгарском и македонском. Объяснение налицо — сербы и хорваты переселились на Балканы только во второй четверти VII в., а словенцы (хорутане) и позднее сохраняли теснейшие связи с западными славянами. Тем не менее различия между западной и восточной ветвями южного славянства глубоки изначально. Как увидим по археологическому материалу, они и в повседневной культуре были очевидны уже с первых десятилетий VII в. Участие западных славян в сложении южнославянских народов нашло отражение в языковых параллелях (в том числе на уровне произношения отдельных звуков и звукосочетаний праславянского языка). Болгарский и македонский имеют такие схождения с западнославянскими, в первую очередь с лехитскими. Некоторые из таких схождений сближают эти языки славянского юго-востока со словенским (который в целом близок к западным). Все южнославянские языки близки в ряде черт с чешско-словацкими, причем словацкий (особенно среднесловацкие диалекты) показывает родство и с общими чертами южнославянских и восточнославянских.[1100] Исторические объяснения таких связей столь же прозрачны. Переселенцы из ляшского региона участвовали в заселении и восточной части Балкан, и будущей Словении. Предки чехов и словаков тесно общались с южными славянами в рамках аварской сферы влияния, в том числе переселялись на Балканы вместе с аварами и без них. Участие неславян проявилось в массиве словарных заимствований. Некоторые из них даже распространились на несколько южнославянских языков — те, что относились к самому раннему этапу завоеваний начала VII в. Их крайне небольшое число[1101] свидетельствует о враждебных отношениях между славянами и местными жителями. Вместе с тем среди них есть весьма показательные — названия культурных растений (чечевицы, латука), термин *bъkъ, обозначавший открытый каменный очаг (в отличие от обычной для славян печи-каменки). С обоснованием славян на новых землях число заимствований из местных языков резко возрастает. В болгарском это заимствования из греческого и местной народной латыни, а также выразительные «балканизмы» в самой языковой структуре.[1102] В македонском — еще большее число структурных «балканизмов» и многочисленные заимствования из греческого.[1103] Гораздо слабее «балканизация» в сербохорватском языке, но и здесь немало греческих и романских (а также древних германских) заимствований.[1104] Наконец, в языке словенцев присутствуют многие слова романского и германского происхождения.[1105] Все эти заимствования охватывают различные сферы жизни, в том числе повседневной, не ограничиваясь, к примеру, неизбежно пришедшими с христианством церковными понятиями. Скажем, среди болгарских заимствований из греческого — пирон ‘гвоздь’, стомна ‘глиняный (гончарный?) кувшин’, хора ‘люди’ и т. д.; из романского — комин ‘дымовая труба’, маса ‘стол’, сапун ‘мыло’ и т. д. Рост числа заимствований, как и археологический материал, отражает начало мирного взаимодействия и взаимного смешения народов на балканской земле. VII век беден письменными свидетельствами о славянском образе жизни. Это касается в равной степени всех групп славянских племен. Даже «случайная» информация на эту тему в источниках того времени крайне редка. Византийская «этнография» вместе со всей культурой пришла по сравнению со временами Прокопия и Маврикия в крайний упадок, а латинская еще не родилась. Единственное «этнографическое» упоминание о славянах — ставшая притчей во языцех их «нечистота» в перечне «О недостатках народов», который связывают с именем Исидора Севильского. Ничего, кроме известного еще с VI в. презрения цивилизованного писателя к невзыскательной жизни «варваров», мы из этой заметки извлечь не можем. Нет в ней, кстати, и чего-то специфически антиславянского — парой строк выше Исидор (?) поминает «пьянство испанцев», своих соотечественников, а на первом месте (славяне на предпоследнем) мы наблюдаем «зависть иудеев». Другое дело, что целому ряду «варварских» племен Исидор (?) не подыскал никаких положительных черт. Помимо славян — «жестоким» гуннам, «раболепным» сарацинам, «алчным» норманнам, столь же «нечистым» свевам и «тупым» баварам. У римлян же и у правивших Испанией готов он не нашел отрицательных.[1106] Как бы то ни было, этот памятник позднеантичной мизантропии полновесным источником нам не послужит. Итак, при практическом отсутствии письменных свидетельств почти единственным источником данных о материальной культуре и общественном устройстве славян, в том числе и южных, становятся данные археологии. В южнославянском ареале в первой половине VII в. складываются четыре археологические культуры. На севере, за Дунаем, продолжает существовать культура Ипотешти. На землях бывших Скифии и Нижней Мезии развивается попинская культура. В западной и южной части Балканского полуострова древности «пражского типа» в первых десятилетиях VII в. сменились т. н. мартыновской культурой, получившей название по находкам, близким к антскому Мартыновскому кладу. Наконец, на севере современной Албании в ходе взаимопроникновения славян и иллирийцев сложилась уже упоминавшаяся культура Коман.  Волк. Велестинская коллекция Лицо ипотештинской культуры на протяжении VII в. практически не претерпело изменений — не считая некоторого возрастания доли славян, уже отмечавшегося. Оставшиеся на местах прежнего обитания дунайские словене продолжали хоронить своих умерших по древнему обряду кремации в грунтовых могильниках, с редким инвентарем.[1107] Жители этих мест входили в сложившийся на землях Фракии союз Семи родов во главе с северами. По крайней мере, в IX в. Баварский географ знал «эптарадичей» (Eptaradici; от греческого ‘???? ‘семь’ и ??????? ‘корни’ — «семь корней»[1108]) к северу от Дуная. Не разделяет дунайских словен («дунайцев») по реке древнерусская «Повесть временных лет», всегда говорящая о них как о едином целом.[1109] Есть все основания полагать, что переход за Дунай не разрушил полностью племенного единства, и союз Семи родов являлся прямым продолжением прежнего дунайского племенного союза. Основные его центры, однако, теперь располагались к югу от Дуная, где осели северы и другие выселившиеся «роды». На захваченных ими землях ромейского диоцеза Фракия уже с конца VI в. развивается славянская попинская культура. Она сохраняет многие черты преемства с ипотештинской, но имеет и яркие особенности. Основные памятники попинской культуры найдены на северо-востоке современной Болгарии, в придунайских областях Скифии и Нижней Мезии. Здесь в результате нашествий конца VI — начала VII в. образовалась территория, сплошь заселенная славянами, без существенных следов туземного населения или присутствия авар. В Нижнем Подунавье (Гарван, Попина и др.) археологами открыты неукрепленные поселения с квадратными полуземлянками. Близ поселений располагались могильники с погребениями исключительно по обряду кремации. Дальше на юг эти приметы славянской культуры уже несколько размываются. В центральных районах будущей Болгарии пришельцы чаще подселялись к местным жителям и использовали их могильники. Вместе с тем и здесь известны как поселения, так и могильники чисто славянского типа. На юге их ареал захватывает долину Марицы, не доходя, однако, до Эгейского моря.[1110] Заселенные славянами земли к югу от гор Гема получили уже в то время название Загорье, или Загора. Славяне попинской культуры жили, как и их сородичи к северу от Дуная, в полуземлянках площадью около 12 м2. В одном из углов дома располагалась округлая с внешней стороны славянская печь-каменка. Давшее имя культуре селище Попина занимает площадь 3700 м2 и включало 63 дома. Переселение «родов» различного происхождения ускорило разложение большесемейного и старого общинного уклада. «Попинская» соседская община состояла из отдельных дворов-домохозяйств. Около жилищ располагались связанные с ними хозяйственные ямы. Кроме того, на некоторых поселениях обнаружены вкопанные в грунт «цистерны» для воды.[1111] Тем не менее еще и в новое время большая семья у болгар распалась не вполне. Ее пережитком оставалась задруга — объединение родственных малых семей в хозяйственных делах. Но даже при распаде задруги малые семьи объединялись в «фамилии», а те — в «роды», наследники древних племен.[1112] Древности попинской культуры включают, прежде всего, керамику. Лепная посуда пражских типов постепенно уходит в прошлое, уступая место ипотештинской гончарной. На попинских могильниках ипотештинские сосуды, часто с волнистым орнаментом, уже в подавляющем большинстве. Но на поселениях преобладает лепная.[1113] Это свидетельствует и о том, что основная масса гончаров-инородцев действительно ушла вместе со славянами за Дунай, и о том, что за Дунаем гончарный круг восприняли сами славяне. Использовали его, однако, в основном для изготовления ритуальной посуды. И в попинских низовьях Дуная, и в долине Марицы находили пальчатые фибулы — свидетельство участия племен антского происхождения в заселении земель Фракии.[1114] Одно из антских по корню племен — северы — хорошо известно нам здесь из письменных источников. Впрочем, на Марицу антские фибулы попали вместе со смолянами из западного переселенческого «котла», также включавшего антов. Помимо этого, в поселениях и погребениях обнаружены предметы быта — железные ножи, ножницы, скобы, гвозди, остатки ведер, пряжки, а также украшения из бронзы. Из оружия встречаются только наконечники стрел. В целом металлических изделий сравнительно немного. Мастера по металлу на новых местах были пока немногочисленны, а их ремеслу еще предстояло развиться.[1115] Главными занятиями «попинцев» являлись земледелие и скотоводство. Охота играла вспомогательную роль. Судя по остаткам костей домашних животных, разводили в первую очередь крупный рогатый скот (чуть менее половины стада), далее шли свинья и мелкий рогатый скот. Развивалось и коневодство. Охотились на кабана — излюбленную дичь древних славян, — а также на серн, оленей, туров. Олень среди дичи в среднем даже преобладал, хотя кое-где предпочитали по-прежнему кабана.[1116] Хоронили своих умерших «попинцы», как уже сказано, по обряду кремации. Прах вместе с оставшимся после сожжения скудным инвентарем (остатки поясного набора, украшения) клали в глиняную урну и зарывали на глубину от 20 до 80 см. Курганов «попинцы» не строили. В более южных областях славяне могли перенимать от местных жителей ритуал трупоположения, но определенных доказательств этому нет.[1117] Племена попинской культуры, в основном — осевшая к югу от Дуная часть Семи родов. Земля смолян на Марице являлась пограничной между попинской и западно-балканской культурными областями. Таким образом, этнографическое деление южных славян в VII в. не вполне соответствовало описанному выше делению языковому. Скорее — римскому провинциальному делению. Македонские племена в целом не входили в попинскую культуру, охватывавшую преимущественно славян диоцеза Фракия. Славяне Нижнего Подунавья находились в известной зависимости от Аварского каганата.[1118] Однако следов аварского присутствия и культурного воздействия среди «попинцев» практически нет. Семь родов сложились как самостоятельное племенное объединение — поставлявшее при необходимости кагану воинов, но управляемое собственными князьями-«архонтами». Свой князь имелся у каждого вошедшего в союз «рода». У северов такой «архонт» Славун упоминается уже в VIII в., под властью болгар.[1119] О том, что власть в роду северских князей передавалась много лет по наследству вместе с родовыми именами, быть может, свидетельствует предание о «царе» Славе из «Апокрифической летописи» XI в. Слава якобы поставил сам пророк Исайя в качестве «царя» «куманам» (болгарам) после их переселения в Нижнее Подунавье. «И тот-то царь населил хору и грады. Люди же те в некоей части были поганые. И тот же царь устроил 100 могил в земле Болгарской; тогда нарекли имя ему «100-могил царь». И в те лета было изобилие всего. И появились 100 могил в царствование его. И тот же был первый царь в земле Болгарской, и царствовал лет 100 и 14, и скончался». Только после этого летопись переходит к «царю Испору», то есть к правившему с 680 г. хану дунайских болгар Аспаруху.[1120] Слав «Апокрифической летописи» — явно персонаж топонимического предания, связанного с реальной местностью «Сто Могил» на северной, задунайской, периферии древнего Болгарского ханства.[1121] Устное предание (как и большинство преданий такого рода) не несло в себе никаких хронологических указаний. Не звучало в фольклоре, конечно, и имя библейского Исайи. «Летописец» мог хронологически расположить Слава перед болгарскими ханами, князьями и царями именно потому, что Слав, герой местного предания, выпадал из их последовательности и казался изолированным. Таким образом, однозначно видеть здесь отражение реалий доаспаруховой, «славянской» Фракии[1122] все-таки рискованно. Историческим прототипом (или одним из прототипов) Слава, в принципе, мог быть и тот же известный нам Славун. Но, учитывая традицию «родовых» имен у славян, нельзя исключить за известным нам «архонтом» северов и после него длинный ряд князей со схожими именами. Беря в расчет становление в том же VII в. наследственной власти у других славянских племен, отрицать такую возможность не стоит. В западной и южной части Балканского полуострова (ромейской префектуре Иллирик) складывание славянской культуры проходило в три этапа. На первом этапе, на рубеже VI/VII вв., произошло расселение на западе Балканского Подунавья славян, относившихся к пражско-корчакской археологической культуре. Из них нам известны лендзяне в Далмации и мораване на балканской Мораве. Их древности продолжают развитие прежней культуры. Но в начале VII в. они перекрываются новым культурным типом, охватившим гораздо большие пространства — от Дуная до Фессалии включительно. Эта так называемая мартыновская культура сложилась в рамках того культурного «симбиоза», который характеризует и культуру аваро-славянскую. Многими своими чертами она близка к ней. Развиваясь сначала параллельно с пражско-корчакскими древностями, затем она поглотила и сменила их. Окончательная смена, вместе с почти полным исчезновением аварского элемента, наступает на третьем этапе, — который на основе данных письменных источников можно связать уже с приходом сербов и хорватов в 620-х — 630-х гг. Именно тогда сложились и языковые особенности западной части южного славянства. Древности первого, «пражского» этапа появились на Балканах уже в VI в. В первой половине наступившего века по Адриатике и в югославянском Подунавье отмечены немногочисленные следы принесшего их населения. Это могильники и отдельные захоронения с трупосожжениями, поселения с типично славянскими полуземлянками, расположенные в Хорватии, Сербии и Боснии. Еще один небольшой могильник с 15 трупосожжениями VII в., в урнах и без урн, найден в древнеэллинской Олимпии. Это след продвижения «пражских» племен на юг вместе с переселенческим потоком тех лет. Часть находок — на Неретве, в Олимпии, — сделаны среди развалин ромейских строений прежней эпохи.[1123] Жилища югославянских «пражан» — те же известные по всему славянскому миру прямоугольные полуземлянки. В мораванской Слатине они отапливались печами-каменками, но в лендзянском (по всей видимости) Кршце — ямным очагом.[1124] В олимпийских захоронениях есть инвентарь, отражающий и соприкосновение похороненных с ромейской культурой, и их сравнительную зажиточность. Это не только железный нож и кольцо, но также стеклянный сосуд и еще неопределенное «изделие из голубого стекла».[1125] Почти во всех местонахождениях обнаружена лепная керамика пражских типов, но можно видеть, как ее сменяет гончарная дунайская.[1126] Это явное следствие смешения с местным населением и с другими переселенцами из Среднего Подунавья. О первом свидетельствуют и находки отдельных захоронений-кремаций на местных могильниках.[1127] Результатом смешения, собственно, и стало появление мартыновской культуры. К нему вели и новые славянские переселения, и поступательное развитие местных славян, все глубже взаимодействовавших с жителями покоренных ромейских провинций. Переход от пражской к мартыновской культуре с ее гончарной керамикой и наземными домами особенно заметен на материале боснийских поселений. Облик их на протяжении VII в. разительно изменился.[1128] В сложении мартыновской культуры, наряду с местными жителями и славянами первой волны, несомненно, участвовали и новые пришельцы из-за Дуная. Среди них и авары, но в меньшинстве.[1129] Основную массу составляли именно славяне — как пришедшие из Нижнего Подунавья через Видинскую переправу, так и вновь переселяемые на ромейские земли по приказу кагана. Поэтому в Среднем Подунавье оказались восприняты сложившиеся в Поднепровье традиции антского искусства, давшие имя новой культуре. Поэтому же не повлек заметных культурных изменений последующий приход на Балканы антских племен сербов и хорватов — к тому же так или иначе вовлеченных еще в Центральной Европе в орбиту аварского культурного «симбиоза». Южнее, в Македонии, антский элемент изначально представлен, как минимум, сагудатами. Поселения и могильники, которые можно связывать с мартыновской или балканской аваро-славянской культурой, охватывают обширную территорию. Это земли Сербии, Боснии, Хорватии, Македонии, Греции.[1130] На севере, в Сербском Подунавье, племена мартыновской культуры еще сохраняли заметные черты древнеславянского быта. Так, обитатели селища VII в. Кула жили в квадратных полуземлянках глубиной около 70 см, площадью от 6,25 до 12,25 м2, с печами-каменками в углу.[1131] Вместе с тем на боснийских селищах прослеживается смена их наземными домами. Эта смена ускорялась и знакомством с местными традициями. Только наземные дома строили в Далмации и в южной части Балкан. Впрочем, и они довольно скромны, на взгляд ромейских горожан.[1132] Нередко славяне не разрушали (как подчас на востоке) занятые поселения туземцев, а обживали их дома. Полное восприятие местного домостроительства уже после разрушения античного города демонстрирует славянское селище VII в. на острове Керкира. Здесь славяне жили в большом селении на возвышенном плато, в наземных двухкамерных домах площадью около 20 м2, с кирпичными стенами, каменным цоколем и черепичной крышей.[1133] Занятия славян оставались традиционны — земледелие, скотоводство, в меньшей степени охота и рыболовство. Все эти виды хозяйствования находят археологическое подтверждение. Среди орудий труда южных славян отмечены железные серпы, косы, деревянные рала с наральниками из железа, каменные жернова, многочисленные пряслица, рыболовецкие снасти. Наряду с костями домашних и диких животных обнаружены и кости рыб (сом, осетр). О развитии техники земледелия свидетельствует появление в Восточной Македонии больших зернохранилищ, где запасались пшеница и просо.[1134] Известно, что в Греции славяне занимались садоводством, выращивая плодовые, в том числе на продажу. Достойно замечания, что продавали они и хлеб, и овощи.[1135] Керамика «мартыновских» поселений — гончарная, дунайского типа, иногда напоминает пеньковскую. Находки лепных «пражских» сосудов крайне редки и относятся к раннему периоду.[1136] «Чудеса святого Димитрия» говорят о наличии у славян Македонии искусных ремесленников-специалистов: кузнецов, плотников, оружейников, изготовителей осадной техники.[1137] Плотницкие орудия отмечены на поселениях.[1138] Помимо орудий труда, находят и иные вещи — железные ножи, украшения, фибулы, изредка оружие. На Керкире в женских могилах наряду с глиняными обнаружены и стеклянные сосуды.[1139] Похоже, славяне если сами и не освоили в Элладе стеклоделие, то ценили продукцию местных мастеров. Широко распространились на Балканах антские пальчатые фибулы и ювелирные изображения из цветных металлов «мартыновского» стиля. Самая южная из пальчатых фибул обнаружена в Спарте, самые восточные — в Малой Азии.[1140] Изделия с Балкан демонстрируют дальнейшее совершенствование умений антских мастеров. Ярчайшим памятником южнославянского искусства в век его зарождения является коллекция металлических фигурок из Велестино в Фессалии. Велестинская коллекция позволяет, хотя и довольно приблизительно, судить о внешнем облике славян, создавших «мартыновскую» культуру. Мужчины носили довольно длинные, но уже не до плеч, волосы и густые бороды. Одежда их — типично славянская рубаха с узорчатой вставкой, штаны и сапоги. Один из персонажей изображен в застегнутом на груди наряде вроде кафтана или даже тулупа. Все убранство этого лица покрыто пышным узором, заставляя думать, что перед нами носитель власти. На голове у этого «князя» диадема, наподобие убора византийских императоров. Женщины прятали волосы под головными уборами, носили покрытые узорами юбки или опять же штаны.[1141] В набор украшений входили серьги, височные кольца, перстни, браслеты, бусы, гривны. Верхней одеждой и мужчинам, и женщинам служил плащ типа корзна, застегивающийся на плече фибулой. В могильниках мартыновской культуры безраздельно господствует обряд ингумации. На севере изредка встречаются захоронения авар с конями, кочевническим оружием и конской сбруей. Но трупоположение распространилось в славянской среде не столько под кочевническим, сколько под местным, в том числе и христианским влиянием. Далеко не всегда речь шла о принятии славянами христианства. Просто смешение с местными жителями способствовало перениманию их обычаев. При этом, конечно, не обошлось совсем без влияния и авар. Но следует помнить, что славяне начали перенимать новый обряд еще в Норике, а антам Среднего Поднепровья (по меньшей мере, антской знати) он и ранее хорошо знаком. Осевшие в Иллирике славяне, отказавшись от обряда трупосожжения на протяжении VII в., стали погребать умерших в землю, головой, как правило, на запад. В головах и в ногах покойного нередко устанавливали камни, иногда всю могилу обкладывали камнями, и еще реже отмечены намогильные плиты. Наибольшее влияние христианского ритуала мы можем видеть у вполне «огреченных» в быту славян Керкиры. Здесь умерших клали в примитивные саркофаги из плитняка. Как правило, славянские могилы лишены инвентаря, либо инвентарь очень беден. Однако имеются и богатые захоронения, подражающие кочевнической пышности (Чадовице в Хорватии). На той же Керкире инвентарь довольно богат и разнообразен.[1142] Об общественно-политическом строе славян Иллирика мы можем судить не только на основании данных археологии, но и по письменным источникам. Если на востоке Балкан влияние авар лишь угадывается, то на западе оно не вызывает сомнений. Аварские воины-всадники присутствовали, пусть в ничтожном числе, на придунайском севере мартыновского ареала, селились (и погребались) вместе со славянами. Мартыновская культура в целом довольно близка к культуре каганата. Но дальше на юг о присутствии небольших аварских отрядов можно говорить лишь предположительно. Во всяком случае, они быстро растворились в славянской среде.[1143] Отношения местных славян с каганатом в результате строились иначе, чем в Поморавье. Аварский каган передавал славянам совместно (в основном силами славян) завоеванные земли.[1144] За это они обязывались, как минимум, помогать ему в войне. Славяне у самых границ Паннонии, в том числе в Далмации, платили кагану дань и считались его подданными.[1145] Новые племенные земли делились на жупы во главе с наместниками-жупанами из славянской же среды. Дальше на юг зависимость естественным образом слабела. Македонские славяне, прибегая по нужде к военному лидерству кагана, могли сообщаться с ним почти на равных. Их обращение к нему за военной помощью выглядит скорее «дипломатическим», чем подданническим.[1146] В этом они напоминали своих дунайских предков, которые искали в могучем кагане общего воеводу в 580-х гг. Наконец, в Греции (притом что именно тамошних славян греческие писатели именуют иногда «аварами») власть кагана вообще не ощущалась, о чем говорит и один из этих писателей.[1147] 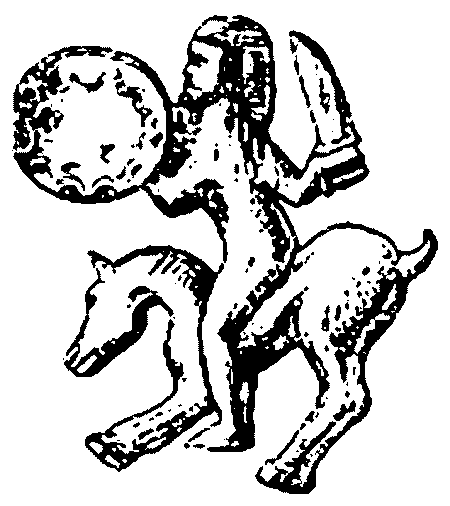 Воин. Велестинская коллекция Конечно, в таких условиях не могло быть и речи о тех насилиях, которые потрясали народную память в Поморавье или на Волыни. Авары на Балканах стремились не ссориться со славянской знатью, не пытаться истребить ее, а опираться на нее. Именно с этим связано появление здесь «антских» древностей. Быть может, авары переселили в виде компенсации на новые, более просторные земли побежденных антских аристократов. Возможен и иной вариант — они предоставили местной знати на службу переселенных антских мастеров. Соответственно, влияние и богатства славянских родовых «господ» и удачливых воинов-дружинников возрастали. Укреплялась и их власть. При этом дружина где-то оттесняет родовую старшину, а где-то сливается с ней. Появление новой, воинской знати находит отражение в материалах славянских могильников. Происходит оно не без подражания аварам. На Керкире некоторых мужчин по аварскому обычаю хоронили вместе с оружием.[1148] Нельзя исключить, что и ряд «аварских» захоронений принадлежит на самом деле подражавшим кочевническому быту славянским дружинникам. Дружинная культура у всех народов Европы вбирала в себя разноплеменные элементы — в том числе и через родственные связи. Имущественное расслоение, конечно, ускоряло распад старых общинных связей. Происходил повсеместный переход к чисто соседской общине, создаваемой независимыми домохозяевами. Подгонялся он и межплеменным смешением. Тем не менее на западе Балкан «родовые» объединения-задруги сохранялись гораздо дольше и прочнее, чем на востоке. При этом кое-где задруга еще оставалась совместно ведущей хозяйство большой семьей.[1149] Не приходится сомневаться, что в VII–VIII вв. большая семья, пусть и делившаяся на отдельные дома, сохраняла свои права как основная ячейка соседской общины. При этом при освоении новых земель или на периферии освоенной территории, в горных областях, могли сохраняться и патронимические общины, происходившие от одного предка. Богатства знати складывались, конечно, не только за счет освоения славянами давно окультуренных балканских земель. «Гощения» у только устроившихся соплеменников едва ли были выгодны, да и с точки зрения воинской этики не являлись чересчур достойным прибытком. Главным источником дохода еще долго оставалась война. Военная добыча обогащала не только знатных людей, к тому же победы сулили и приобретение новых земель. Среди добычи, помимо скота, оружия и любимых знатью предметов роскоши, присутствовали и высоко ценились рабы. О рабах-пленниках, захватывавшихся и на войне, и в набегах, неоднократно упоминает основной источник наших знаний о славянах Македонии — собрание Чудес святого Димитрия Солунского.[1150] Рабов делили между участниками набегов и «использовали, как кому из них случилось, соответственно с более кротким или суровым нравом».[1151] Между отдельными племенами развивалась работорговля, причем обращенным в рабство и проданным рисковал оказаться любой незащищенный родовым правом чужак.[1152] Раба могли выкупить соплеменники, в пору мира «недорого».[1153] По мере нормализации отношений с ромейским населением развивался еще один источник дохода — меновая торговля. Многие предметы «римского» облика на славянских памятниках получены именно этим путем, а не как трофеи. Ромеям представлялось, что славяне в торге дешевят.[1154] Как нередко при встрече «варварской» и «цивилизованной» культур, славян больше привлекали внешняя красота и необычность той или иной вещи, чем ее реальная стоимость. Выменивали, кстати, они и захваченную на войне у самих ромеев добычу — на нечто более интересное. Наряду с меновой торговлей, под влиянием ромеев и авар у славян развивалось и денежное обращение.[1155] Во главе воинской знати стояли вожди славянских племен. На севере в первые годы это жупаны, которых лишь формально назначал каган. Говорящий о Македонии автор Второго собрания «Чудес св. Димитрия» не слишком последователен в обозначении здешних славянских вождей, именуя их «экзархами», «риксами», «архонтами».[1156] Сопоставление упоминаний наводит на мысль, что «архонт» и «рикс» являются синонимами, переводами славянского слова «князь». Можно было бы предположить, что «экзарх» — воевода, но так же автор называет и аварского кагана.[1157] Для него это просто «военный предводитель», в том числе и тот же князь в этом качестве. Понятие «рикс» по отношению к славянским князьям появилось в византийской книжности конца VI в., воспринятое от соседних со славянами германцев. Оно отражало возникновение у князей признаков власти, напоминающих германских королей-«риксов» — прежде всего, передачу ее по наследству в пределах одной семьи. К середине VII в. в Македонии «риксами» являлись, по ромейским представлениям, и главы обширных племенных союзов, и вожди обычных племен. Риксами же называет позднейших сербохорватских вождей Феофан. Упоминает он притом и «экзархов» — отличая князей от жупанов или выборных воевод.[1158] Фактически власть князей приобретает наследственный характер. Это хорошо отразилось в родословных преданиях сербов и хорватов.[1159] Но формальная выборность князей долго сохранялась. Ключевую роль в выборе играли родоплеменные «господа», «старцы», кметы, те же жупаны — когда их жупы вошли в состав более крупных «княжений». Они могли и сменить, и подменить собой правящую династию.[1160] По крайней мере, теоретически князь мог избираться из числа племенной знати, «более благородных».[1161] Тем не менее власть князей существенно укрепилась. Выразительный памятник мощи обогатившихся славянских «риксов» уже в начале VII в. — пышное «княжеское» погребение с мартыновскими изделиями в Чадавице на Драве.[1162] В основном ареале ипотештинской и попинской культур славяне составили большинство населения. При этом их древности довольно легко отделяются от туземных. В ареале «мартыновской» культуры славяне гораздо интенсивнее смешивались с местными жителями, но при этом преимущественно оставались в большинстве. Иная ситуация сложилась в горных областях у границы Нового Эпира и Превалитании. Славяне («аварского» потока) пришли сюда из переселенческого «котла» у Охридского озера. В прибрежной полосе они обосновались довольно прочно, заняв окрестности Диррахия и Диоклеи.[1163] В горах же современной Северной Албании сложилась в VII в. особая команская культура. Основное население горных областей составляли еще иллирийцы, едва подвергшиеся воздействию римской культуры, сохранявшие свой язык и — в основной массе — верность языческим традициям. Они легко смешивались с новыми завоевателями, вбирая их в свою среду. Памятники команской культуры — могильники с трупоположениями. Умерших хоронили на них в грунт на глубину до 1,4 м, в гробах из камня на известковом растворе. Ориентация большинства умерших неславянская, по линии север — юг. В довольно богатом вещевом инвентаре (украшения, оружие, железные ножи и поясной набор) зачастую попадаются и славянские предметы. Это, прежде всего, пальчатые фибулы и височные кольца, типичные для славянских древностей Адриатики. Изучение команской культуры показывает постепенное, длившееся не один век, растворение славян в среде горных иллирийцев — процесс, завершившийся сложением албанской народности.[1164] В политическом отношении здешние славяне и иллирийцы сначала подчинялись обосновавшимся в далматинском Приморье и в Македонии славянским князьям. Археологические материалы мартыновской и команской культур позволяют судить о восприятии славянами в пору великого расселения ряда новшеств в военном деле. В общении с аварами и ромеями для южных славян более привычны становились мечи,[1165] тяжелые доспехи, конный бой. Копье и лук со стрелами перестали на Балканах считаться почти единственным оружием славянских воинов. Среди фигурок из Велестино — изображения двух воинов. Один из них вооружен массивным боевым топором, прикрывается круглым щитом. Другой — восседает верхом на коне с гораздо большим, чем у первого, тоже круглым щитом, в шлеме, а в правой руке заносит короткий меч.[1166] Впрочем, в первой четверти века легкое вооружение все еще преобладало.[1167] Еще одной стороной развития военного дела являлось совершенствование осадной техники. Его результаты мы можем видеть по сборнику «Чудес св. Димитрия», при описании славянских осад Фессалоники в VII в. К середине VII в. южные славяне в Македонии имели уже развитую военную организацию. В «Чудесах св. Димитрия» упоминаются различные роды войск, слаженно действующие при осаде городских стен — «вооруженные лучники, щитоносцы, легковооруженные, копьеметатели, пращники, манганарии, храбрейшие с лестницами и с огнем».[1168] Упоминаются у славян и тяжеловооруженные «гоплиты» — как самая мощная и ценная часть воинства.[1169] Манганарии — инженеры осадной техники — составляли, судя по известиям этого источника, особый, привилегированный разряд мастеров в славянском обществе. При осаде вражеских крепостей на них возлагались особые надежды. Больших успехов славяне достигли в мореплавании. По оценке Феодора Синкелла, «славяне приобрели большой навык в отважном плавании по морю с тех пор, как они начали принимать участие в нападениях на ромейскую державу».[1170] Выстроенные славянскими плотниками долбленые ладьи-однодеревки («моноксилы» по-гречески) могли теперь преодолевать огромные водные пространства. От устья Дуная они доплывали до Константинополя, пересекали Эгейское и Адриатическое моря.[1171] Славяне не только совершали набеги на острова Адриатики и Эгеиды, но и селились на них. Все это свидетельствовало о появлении и бурном развитии мореходных навыков, в частности — об освоении паруса. Соленые воды перестали быть для славян краем света и неодолимой преградой. По археологическим данным, как уже не раз отмечалось, прослеживается раннее знакомство южных славян если не с христианством как системой взглядов, то с христианскими обычаями. Однако славянская знать (по крайней мере, часть ее) еще пребывала в ожесточении эпохи Аварских войн. Христианство для многих «риксов» было религией врагов, ромеев. Раз за разом вспыхивавшая война с ними мыслилась и как война с их верой. Один из славянских князей в Македонии, по утверждению описателя «Чудес св. Димитрия», намеревался даже «воевать непрестанно и не оставить в живых ни одного христианина».[1172] Многие ромейские перебежчики то ли славянами принуждались, то ли сами считали необходимым отступиться от веры.[1173] Один из славянских племенных союзов на далматинском побережье в конечном счете принял как самоназвание романское обозначение язычников «паганы», славянское «поганые». Этим они противопоставляли себя крещеным сородичам.[1174] Как убежденных гонителей христианства рисует некоторых древних далматинских князей «Летопись попа Дуклянина».[1175] Однако такая жесткость — именно сопротивление наступлению христианства, ответ на ощутимую угрозу его победы. В немалой степени — показатель слабости. Те из славянских вождей, кто искренне или относительно искренне искал дружбы с Империей, проявляли терпимость или даже интерес к христианству. В народной среде этот интерес пробуждался по мере — и в меру — смешения с местными, балканскими христианами. Славянское же многобожие на Балканах не пустило особенно глубоких корней. Характерно, что к югу от Дуная выявлены только два славянских капища — в Костоле в Югославии (недатированное) и в Брановцах в Болгарии (уже IX в.).[1176] Костольское капище представляет собой каменную площадку (под деревянным идолом), на которой приносили в жертву птиц. Южнославянские находки и позднейшие обряды[1177] свидетельствуют о простейших животных жертвах, сопровождавших, в том числе ритуал гадания — о нем у македонских славян упоминают «Чудеса св. Димитрия».[1178] О почитании у болгар и македонцев богов языческого пантеона Перуна (Додола) и Велеса можно сделать вывод лишь на основании топонимики и отчасти фольклора. С ними народная память связывала урочища, в которых они будто бы лично обитали. Именно в таких местах, без строительства капищ, их и почитали.[1179] Во времена становления христианских литератур боги оказались напрочь забыты. Правда, одно упоминание южнославянского языческого божества все-таки имеется — в болгарском переводе «Хроники» Иоанна Малалы имя Зевса заменено на «Поруна». Память о пантеоне сербохорватов и словенцев (теснее связанном с северным славянским) столь же смутна.[1180] Высших богов и других персонажей славянской мифологии представляют нам фигурки из Велестино. Бородатый воин с топором и щитом — надо думать, громовержец Перун. «Князь» в богатом наряде и украшенной шапке — не предок ли славянских князей, бог Солнца? Устрашающая женская фигура в расшитой юбке, с крыльями и воздетыми когтистыми руками изображает богиню-мать в ее гневном, губительном обличье. Другие женские фигурки держат на руках младенцев. У одной из них в руке к тому же гусли. Среди 15 фигурок животных и птиц — изображения священных для славян коров, волка, некоего «лютого зверя» из кошачьих.[1181] В дружинном «мартыновском» быту VII в. богов знали и помнили хорошо. В целом же создается впечатление, что переселение довольно резко оборвало развитие «высшей мифологии» и организованной религии у южных славян. Причина этому — в недостаточно большом числе, а то и в полном исчезновении среди переселенцев мужчин-священнослужителей, ведунов. Женщины-ведьмы по вполне очевидным причинам казались воинам в долгих походах гораздо меньшей обузой. Но после возникновения постоянных общин с вполне патриархальным укладом ведьмы вновь стояли особняком от них. Единственными хранителями языческих традиций, как правило, остались князья и местные «старцы» — и дальнейшая судьба религии зависела теперь от их ревностности. Степень же этой ревностности чаще всего зависела от состояния отношений с Империей или просто с соседними городами. Имелись, конечно, еще воинские братства, замешанные на языческих поверьях об оборотничестве. Но они, естественные соперники крепнущей княжеской власти, либо сливаются с дружиной, либо вырождаются в не влияющие ни на что разбойничьи ватаги.[1182] Со временем закоренелые ненавистники христианства среди славянских «риксов» превратились скорее в исключение. Но все же для этого должно было пройти несколько десятилетий, а где-то и веков. Парадокс заключается в том, что при заметном пренебрежении к «высокому» язычеству с его богами южные славяне сохранили весьма прочные следы язычества народного. Впрочем, парадокс это кажущийся. Язычество осталось в народной толще в форме разнящихся обычаев и поверий, не нуждающихся в княжеско-жреческом пантеоне, живущих самостоятельной жизнью. Памятником этой жизни являются «мифологические» эпические песни, сохранившиеся до нового времени именно у южных славян. Персонажами этого эпоса, противниками или помощниками героев, являются не только духи низшей мифологии (вилы, юды, змеи, заимствованные из греческого фольклора чудовища ламии). Мы встречаем здесь и некоторых древних божеств — в первую очередь, Солнце. Эпос сохраняет, например, осколки древнего мифа о «небесной свадьбе». В этом варианте рассказывается о земной девушке, похищенной Солнцем с помощью взлетевших в небо качелей и ставшей его женой. В других песнях Солнце состязается (не всегда успешно) с похваляющимися людьми.[1183] Очень древняя, и восточным славянам известная, песня рассказывает о споре Солнца, Месяца и Дождя — кто из них более полезен и любим.[1184] Многочисленные пережитки языческой поры веками сохранялись в обрядности. Среди них — следы брака умыканием, встречающиеся у многих южных славян.[1185] Впрочем, не приходится сомневаться, что преобладала повсеместно «чинная» свадьба. В ее обрядности у южных славян также немало древних пережитков — например, ритуальная «враждебность» родни невесты к сватам или к самому жениху.[1186] В условиях разрушения родовых и традиционных свойственных связей в годы переселения такая враждебность могла являться отнюдь не просто ритуальной. То, что ее разновидности известны разным славянским племенам, — след сходных проблем в их истории. Эти проблемы, кстати, могли способствовать и воскрешению обычая умыкания невест. К древнейшим славянским обычаям восходят многие календарные обряды южных славян. Однако иные из них еще в дохристианскую эпоху испытали местные, балканские влияния — также еще языческие. К исконно-славянским обычаям относится, например, летнее животное жертвоприношение громовержцу.[1187] К славянским обычаям восходит и качание на качелях, сопровождавшее многие календарные праздники и приносящее, по поверью, плодородие земле.[1188] Исконно-славянский же по происхождению — обряд вызывания дождя посвященными громовержцу девственницами («додолами», «пеперунами»). Нагих, украшенных зеленью, их в этом обряде под пение заклинаний щедро обливали водой, имитируя дождь. По завершении обряда участники одаривались, приносились жертвы и следовала ритуальная трапеза.[1189] Через славян этот обычай восприняли соседние балканские народы. Но и сами славяне восприняли местный, балканский обычай вызывания дождя, языческий, приуроченный в христианском календаре ко дню святого Германа (12 мая). В нем женщины хоронили или топили фигуру «Германа», понимаемую как искупительная жертва, умершая от «засухи ради дождей».[1190] Обычай восходил к почитанию фракийских умирающих и воскресающих богов плодородия человеческими жертвами. Но славяне восприняли его уже у крещеных фракийцев и уже в «замещенном», игровом виде. Подобное же произошло с «кукерскими» играми — шествием ряженых «кукеров», которое вобрало в себя и исконно славянские, и балканские мотивы. Магические ритуалы и игровые бесчинства ряженых, облаченных в вычурные костюмы, завершались шуточным «убийством» и «воскрешением» их «царя».[1191] Источники обычая — древние фракийские дионисии и сходные с ними славянские ритуалы. Именно южные славяне, встретившись с замещением и пародированием ритуальных убийств у принявших крещение балканских народов, первыми отказались от подлинных сезонных человеческих жертв. Их заменили сожжением чучел, игровыми действами и т. д. Позднее примеру южных сородичей последуют и северные славяне. В то же время культура и самих туземцев Фракии и Иллирика еще оставалась наполовину языческой. Об этом свидетельствует, помимо прочего, грубый эротизм воспринятых у них славянами обрядов (впрочем, совершенно не чуждый и исконно-славянскому язычеству). Например, «Германа» и «кукеров» наделяют подчеркнутыми мужскими признаками, каковые с азартом используются в обряде. Среди чуть более ранних, известных и северным славянам языческих заимствований — праздник русалий (латинские розалии), совместившийся у славян с их «навьей» неделей поминания умерших, а в христианстве с праздничным циклом Троицы. У южных славян праздник русалий включал поминальные трапезы и ритуальные «целительные» омовения. Главная же часть празднования — шествия ряженых «русальских дружин», призванные обезопасить селения от нечисти и обеспечить плодородие. У сербов и хорватов (более ранний вариант) «дружины» составляют девушки, у болгар — мужчины. Но у болгар «дружины» лучше сохранили черты языческого ритуального союза — замкнутость и строгий иерархический порядок. Ряженые обходили дома, собирая дары, распевали заклинания, вводя себя в будто бы целебный экстаз, даже устраивали между собой (при встрече двух разных «дружин») смертельные побоища.[1192] Славянские русалии, в свою очередь, «вернулись» от южных славян в обрядность неславянских народов Балкан. Контакты южных славян с местным населением были широки и многообразны. В конечном счете именно они придали южнославянской культуре ее неповторимый облик. Это обеспечило ей уникальную роль посредника между ромейской цивилизацией и славянским миром. Роль, которую южные славяне не перестанут играть на протяжении восьми веков. И одним из важнейших достижений их в этой роли стало восприятие и передача северным сородичам христианских ценностей. Мы увидим, как уже в VII столетии начинается принятие балканскими славянами христианства. Новая культурная область, возникшая в итоге разрушительной войны на стыке византийского и «варварского» мира, как будто специально предназначалась стать первой на этом пути. Но путь — повторим еще раз — предстоял неблизкий. Поздние антыВ то время как на южной периферии зоны аварского влияния происходило становление культуры южных славян, на востоке продолжалась история антов. Как уже говорилось, аварское вторжение в начале VII в. хотя и имело место, но не оставило в антских землях заметных материальных следов. Авары не оседали в антской лесостепи. Антские земли не подверглись масштабному опустошению. Часть населения и особенно знати истребили или увели на запад — но в целом антская культура между Прутом и Днепром продолжала развиваться без заметных изменений. Это поздняя («сахновская») стадия существования пеньковской археологической культуры. В таких условиях антские племенные «княжения» должны были сохранить широкую автономию — хотя некоторые из них наверняка платили дань каганату. Из числа антских племен VII–X вв. нам достоверно известны тиверцы в Прутско-Днестровском междуречье, хорваты в Верхнем Поднестровье и Закарпатье, угличи в Нижнем Поднепровье за Росью. В начале того периода существовали и иные, поздним летописям неведомые. Некоторые антские племена переселились на Балканы и там приняли общее наименование словен — фракийские северы, македонские сагудаты. Другие осели к началу VII в. в Центральной Европе — западные хорваты, сербы. Они тоже в то время уже именовали себя словенами, а не антами. Все эти племена в той или иной степени вовлекались в орбиту аварской политики — хотя бы как противники каганата. К числу противников каганата относились и восточные северы, занимавшие земли по Среднему Днепру, преимущественно на Левобережье. Данных в пользу того, что сюда сколько-нибудь распространилось аварское влияние, нет. Именно здесь сосредотачивалась антская знать, оставившая «мартыновские» клады. И здесь же в VII в. сложилась отмеченная подобными кладами и погребениями т. н. культура днепровских ингумаций. Представители (и представительницы) этой культуры погребались только по обряду трупоположения, иногда в курганах (новых или старых), с «мартыновскими» украшениями. В культуре этих погребений видно слияние кочевнических, антских и германских традиций. Восходит такое смешение еще к черняховской культуре II–V вв. В погребениях «культуры ингумаций» видели и свидетельство сложного происхождения пеньковцев, и следы пребывания среди них особого иноплеменного населения.[1193] Явные черты этого «населения» — зажиточность, разноплеменность по происхождению, рассеянность в массе «пеньковцев» и одновременно обособленность от нее. Все это наводит на единственно, как представляется, верную мысль — о социальной, а не этнической природе «культуры ингумаций». В условиях аварского натиска в среде северов (и нескольких соседних антских племен Поднепровья) произошла консолидация дружинной знати. Это были воины-всадники изначально смешанного, алано-славянского происхождения. Подобная знать и ранее выделялась в антской среде, в том числе использованием ритуала ингумаций. Однако теперь на сравнительно небольшом пространстве новая дружинная культура обрела целостность. Возглавлялись конные дружины, разумеется, племенными князьями-«архонтами», которые у антов известны с VI в. Борьба с аварами резко ускорила этот процесс. Под аварским владычеством складывание собственной дружинной культуры у восточных антов без следов аварского влияния невероятно. Итак, можно заключить, что северы Поднепровья под главенством своих князей и их дружин отстояли полную независимость от захватчиков. Они создали собственное предгосударственное объединение, возглавлявшееся воинской знатью. При этом в обществе выстроилась более или менее четкая иерархия — укрепившаяся в борьбе за независимость знать четко обособилась от простых общинников даже культурно. То, что в жилах этой знати текла разноплеменная кровь (славянская, аланская, отчасти германская), ничего не говорит о самосознании. Напротив, можно не сомневаться, что языком антской аристократии любого происхождения уже в VI в. был и в VII в. оставался славянский. Но дружинная культура любого народа легко вбирала в себя внешние элементы — как древние, так и вновь привносимые. Главным направлением внешних связей для антов после разрыва отношений с отдалившейся Империей окончательно стала кочевая Степь. Отсюда время от времени приходили и новые переселенцы, вливавшиеся в антские дружины. Главным союзником антов в Степи являлась приазовская Великая Болгария. В описываемое время ей управлял хан Куврат. Старший сын Куврата, Батбаян, носил и славянское имя Безмер.[1194] Это можно объяснить только его полуантским происхождением. Смешение антов и болгар зашло достаточно далеко, чтобы вылиться в политический союз. До середины 620-х гг. Куврат оставался врагом нежданно вышедших ему в соседи авар. Куврат, некогда живший в Византии, восстановил в начале правления Ираклия тесные связи с Империей. В 619 г. он прибыл в Константинополь в сопровождении большой свиты и крестился, причем брат императора Ираклия выступил крестным отцом.[1195] Западными соседями независимых антов в Среднем Поднепровье являлись пока еще немногочисленные и разрозненные «роды» дулебов-полян. Об отношениях с ними сразу после распада старых антского и дулебского союзов ничего сказать невозможно. Однако не исключено, что власть антской дружинной знати отчасти распространялась и сюда. Именно объединение, созданное ею на сохранившем независимость антском Левобережье, более всего подходит на роль предшественника того политического единства, что зародится позднее вокруг Киевских гор. Племена славянского севераО вторжениях авар в восточные и южные славянские земли в письменных источниках есть хотя бы отрывочные сведения. Для ситуации на севере славянского мира мы и таких сведений не имеем. Почти единственным источником здесь, помимо отдельных косвенных данных, оказывается археология. Развернув активную агрессию на Балканах и в Восточной Европе, каганы не забывали и о северных границах. Порабощение мораван и их ближайших соседей, расселение в Чехии дулебов должно было не только создать новые резервы для покорения придунайских земель. Авары укрепляли северные рубежи каганата против враждебных славян, а заодно и создавали более прочный тыл для вторжений в их пределы. Авары имели на славянском Севере немало союзников, самыми сильными из которых являлись ляшские племена и ободричи. Покорить их, как мораван, было едва ли возможно и полезно. Но совершать рейды через их племенные волости на врагов, создавать здесь временные станы, вовлекать славян в новые братоубийственные распри и использовать их в качестве «бифульков» — все это каганату было вполне доступно. В первых десятилетиях VII в. именно через открытые для их проникновения ляшские земли авары совершают далекие набеги и вторжения на север. Главными мишенями авар являлись враждебные им воинственные племена хорватов, велетов, сербов. В ряде случаев воины кагана шли на помощь славянским союзникам — например, ободричам, выдерживавшим с конца VI в. неослабный натиск велетских соседей. В других случаях они могли нести возмездие за отказ от союза — например, племенам Поморья, которые тогда же отвергли посулы авар. Северный рубеж проникновения авар на север отмечает река Обра,[1196] впадающая с юга в Варту незадолго до ее собственного впадения в среднее течение Одры. Здесь, в примыкающих к Поморью с юга ляшских землях, авары не встречали серьезного сопротивления и передвигались свободно. Кое-где они могли оседать и облагать славян данью либо сливаться со славянской знатью. О том свидетельствуют и отдельные находки в польских землях аварских вещей,[1197] и образование целой аваро-славянской культурной группы в Мазурском Поозерье, о чем речь пойдет позже. В то же время передвижения и набеги авар не могли не растревожить местного населения. Внедрение их на крайнем востоке в земли балтских племен судавов (ятвягов) и пруссов неизбежно вызывало ответные набеги. Направленные, разумеется, не против недосягаемых авар, а против союзных им ляхов. Помимо же того, обострялись племенные распри. Это привело к началу пока не слишком бурного градостроительства в ляшских землях. Одним из древнейших (первая половина VII в.) и самым крупным градом «суковских» ляшских племен являются Шелиги. Это укрепление возникло в начале века в Среднем Повисленье, на самом рубеже редкозаселенных славянами и балтами земель будущей Мазовии. Град площадью в 5 га расположился на берегу речки Слупянки, левого притока Вислы. В нем находили убежище во время вражеских набегов жители пяти окрестных селищ. Шелиги защищал невысокий земляной вал с крупными камнями и деревянной стеной поверху. Вдоль вала в два ряда стояли жилища — наземные избы с каменными очагами. До 15 жилых домов расположены тремя группами. Между ними, посреди града, оставили пустое пространство.[1198] Шелиги, единственный град в северо-восточных ляшских землях, являлся важным племенным центром. Об этом свидетельствует и керамика поселения. Наряду с суковскими сосудами, которых подавляющее большинство, имеются и гончарные, происходящие из земель далеко на востоке, в бассейне Одры. На поселении обнаружены не только украшения, но и детали всаднического снаряжения[1199] — верное свидетельство присутствия местной знати, а то и аварских представителей. О них заставляют думать находки пальчатых фибул. В Шелиги стекалась торговая и военная добыча с обширной территории. Через эти места аварские и союзные им славянские дружины двигались как дальше на северо-восток, в Мазуры, так и обратно на запад, в далекий обход враждебных славян. Главным врагом каганата на Среднем Дунае являлся союз племен, возглавляемый хорватами. В него к началу VII в. входили и чехи. Невзирая на растущую мощь каганата, хорватам, чехам и сербам все же удалось в те десятилетия отстоять свою независимость. Однако авары сильно теснили своих врагов. В самом начале VII в. кочевники нанесли сербам и хорватам удары достаточно ощутимые, чтобы заставить сдвинуться с насиженных мест. Наибольший урон аварские набеги нанесли сербам, обитавшим в те годы где-то в верховьях Лабы. Гонимые аварами, сербы в основной массе двинулись на северо-запад, вниз по реке. С ними вместе ушла и небольшая группа хорватов.[1200] Сербы пришли в междуречье Лабы и Заале — благодатную для развития земледелия область, уже освоенную прежними переселенцами и беженцами из Чехии. Здесь к тому времени жило немало славян, носителей пражско-корчакской культуры, с которыми мирно слилось незначительное германское население.[1201] Сербы принесли в регион т. н. рюсенскую керамику, изготавливавшуюся на гончарном круге. Керамика новой рюсенской культуры — вариант серой дунайской, хорошо профилированные и богато орнаментированные прямыми или волнистыми линиями горшкообразные сосуды.[1202] Сербы, как и хорваты с чехами, быстро восприняли традиции придунайского гончарства и через пленников, и через беженцев из покоренных аварами областей. Еще одна новая черта рюсенской культуры сравнительно с пражско-корчакской — обычай трупоположения, постепенно распространявшийся среди сербов, хотя далеко еще не преобладавший.[1203] Сербы принесли в междуречье Лабы и Заале также и лучшую военно-политическую организацию. Племенной союз полабских сербов представлял в первых десятилетиях VII в. единое «княжение» во главе с общим князем — по франкской терминологии, дуксом, «герцогом». К началу 630-х гг. над сербами княжил Дерван.[1204] Сербы селились в укрепленных градах-крепостях (Фихтенберг, Кезитц, Кезигесбург и др.) различного размера, что отражало иерархию князей и панов. Стены градов, как и на юге, сложены из камня, а в отсутствие природного камня — из кирпича. Они прикрыты примитивными бастионами — форбургами.[1205] Сербы подчинили себе более слабые и разрозненные племена и общины области. Позднее сербы проживали и даже переселялись вместе с подчиненными ими другими славянами. Подчинение в целом произошло мирно, хотя обособленность сербов в их укрепленных градах какое-то время сохранялось. Впрочем, еще в начале IX в. независимость от сербов сохраняло небольшое племя даламинцев на Лабе.[1206] Хорошая военная организация сербов пришлась весьма кстати славянам и германцам междуречья в пору угрожающих аварских набегов. Вместе с тем хорваты и сербы понимали, что без внешней помощи борьба с аварами будет для них затруднительна. Поэтому уже в начале VII в. их вожди заключают союз с франкскими королями. Разумеется, франки толковали этот союз исключительно как зависимость славян, и в этом имелась частица истины. Силы Франкского королевства даже в раздробленном виде превосходили славянские княжества. В пору же временного объединения при короле Хлотаре II (613–629) оно являлось сильнейшим государством Западной Европы. Вместе с тем ни о какой практической стороне «подчинения» в VII в. источники ничего не говорят. Славяне продолжали управляться собственными князьями и лишь обязались взаимно помогать франкам в войне — условие, на тот момент более важное для них, чем для франков.[1207] Союз с франками открывал славянам путь расселения из междуречья Лабы и Заале в сопредельную Тюрингию. Здешние герцоги также подчинялись франкам, были заинтересованы в союзе со славянскими соседями и спокойно смотрели на переселения их небольших групп. Археологически первые такие переселенцы — сербы и подвластные им славяне пражской культуры — отмечены уже в VII в.[1208] Мирные контакты того времени с германцами, говорившими на древненемецких языках и диалектах, оставили след в славянских языках. Среди заимствований того времени — *lagy ‘сосуд’, *mlinarь ‘мельник’ и *mlinъ ‘мельница’, *mъtъ ‘мера зерна’.[1209] Любопытны заимствования, связанные с переработкой зерна. Они отражают первое знакомство славян с водяными и ветряными мельницами, а также с латинской системой мер. Главными противниками авар на северо-западе славянских земель являлись велеты. В то время они только обосновались на новых своих землях между Лабой и Одрой. Вероятной столицей велетов являлся Фельдберг в бассейне реки Иккер, защищенный валами град площадью около 4 га. В Фельдберге располагался уникальный для того времени славянский языческий храм, о котором еще пойдет речь.[1210] Где-то в тех местах позднее описывали Ретру — столицу племени редариев и святилище их бога Радогоста Сварожича. Не исключено, что Фельдберг — и есть Ретра. До мирного взаимодействия велетов с подчиненными венедскими племенами было еще далеко. Велеты в первые десятилетия обитали за стенами своих градов, не смешиваясь с покоренным населением. Их борьба с соседними, союзными аварам, венедами — в первую очередь, с ободричами, — приобрела затяжной характер. Памятником этой борьбы являются многочисленные грады — как велетские, так и ободричские. К началу VII в. теснимые велетами ободричи заняли низовья Эльбы и прилегающее к ним с востока балтийское побережье. Здесь они закрепились, создав мощный племенной союз. Наряду со славянами, в него вошли и местные германские племена — варны на востоке, на реке Варне, у самой границы с велетами, и вагры на северо-западе, у Балтики. Оба племени, не очень многочисленные, быстро переняли славянский язык и славянскую (венедскую) культуру. В земле вагров, в удалении от велетских границ, и возник в первой четверти VII в. старейший, судя по названию, центр ободричского союза — Старград (ныне Ольденбург). Среди первых его жителей (как и в соседнем граде в Бозау) еще имелись германцы. Около того же времени появляется и град в Форхау.[1211] Немногим позже оборонительные нужды заставили перенести резиденцию вождя и главный град-убежище на границу, к Варне. Так еще в той же первой четверти века, около 620–625 гг., появился Велиград (Мекленбург) — позднее столица ободричей на протяжении нескольких веков, и одновременно передовой форпост их борьбы с вечными противниками. Велиград возвели посреди гнездовья неукрепленных поселений, на небольшой возвышенности, имел овальные очертания и занимал площадь более 2,5 км2. Град защищался валом высотой до 7 м, более 12 м в основании. Основу вала составлял прочный деревянный остов из двух рядов деревянных брусьев, прикрытых «панцирем» из плах и досок. Такая «панцирная» конструкция, изобретение ободричей, распространилась в VII в. к сербам и далее на юг вплоть до Чехии. При этом «панцирь» мог изготовляться и из каменных плит.[1212] Давление велетов и рост численности собственного населения все же заставляли ободричей искать и новых земель. Достигнув на рубеже VI/VII вв. побережья Балтики, венеды не остановились. Как и на юге, на севере, море перестало осознаваться как порог потустороннего мира. Ободричи в довольно большом числе переправились на прилегавший к землям варнов остров Рюген. Недаром, конечно, выселенцы происходили из пограничных с велетами земель. На Рюгене славяне встретили довольно плотное еще германское население, принадлежавшее к древнему племени ругиев. От них восприняли и название острова (славянской Руяны), и название его жителей (руяне, раны). Латинские писатели еще долго именовали их привычно «ругиями». В условиях усиления велетов славяне-руяне и германцы-ругии поладили мирно и быстро смешались. Они жили бок о бок на одних и тех же населениях, без перерыва продолжали обработку старых полей.[1213] Славянское население пополнялось новыми беглецами от велетских войн, и постепенно германцы полностью растворились в среде руян. Воинственность велетов между тем обращалась не только против западных соседей.[1214] Остановленные ободричами на Варне, велеты обратились на восток, за Одру. Они проникли в Поморье и обосновались там, между низовьями Одры и Вислы. Местные племена в свое время не польстились на посулы аварского кагана. Теперь, в пору усиления каганата, когда аварские отряды бродили близ их границ, они предпочли покориться хорошо организованным и прославленным ратными доблестями велетам. Поэтому в Поморье нет заметных следов разрушений и не сразу стали возводиться велетские грады. Напротив, здесь с самого начала очевидно смешение велетов и местных венедов. Под главенством вторгшихся велетов на правобережье Нижней Одры началось складывание единого племенного союза поморян. 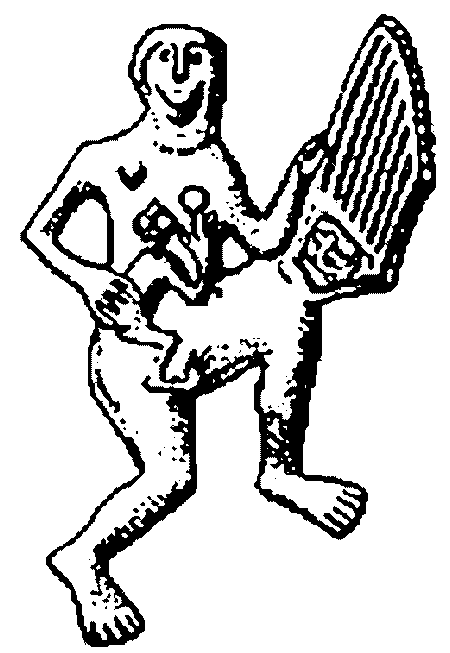 Гуслярка. Велестинская коллекция Плодом этого смешения стала сложившаяся с начала VII в. голанчская археологическая культура. Ее основное новшество — появление в Поморье гончарной керамики, восходящей к фельдбергским велетским образцам. От пришельцев гончарный круг восприняли и местные жители, которые стали подправлять на нем лепную посуду. Типы голанчской посуды — баночные, яйцевидные, биконические, напоминающие миски невысокие сосуды.[1215] В первой половине VII в. в бассейне Шпрее-Хафеля и на средней Одре появляются памятники торновской археологической культуры. Ее главная характерная черта — торновская гончарная керамика, связанная с фельдбергской или восходящая с ней к одному «силезскому» прообразу.[1216] Итак, еще одна группа велетов в те же годы сдвинулась на юг, покорив венедские племена по Шпрее и Одре, ранее отстоявшие свою независимость от тех же велетов. Поход или серия походов на юг могли быть ответом на опасное приближение аварских отрядов к велетским границам. Первый и на этот раз победоносный удар пришелся по землям союзников авар — стодорян на Хафеле.  Торновский глиняный сосуд Основные силы переселенцев, однако, пошли дальше на юг и осели между Шпрее и Одрой, выходя и за пределы этого междуречья. На юго-западе их соседями оказались сербы. На востоке «торновцы» достигли Повисленья. Именно их действия и остановили, вернее всего, авар за Оброй. Как и их сородичи у Балтийского моря, «торновцы» селились только в укрепленных градах, которые возводили посреди весей покоренных племен. Среди них хорошо исследованы Торнов в бассейне Шпрее, давший культуре название, и Форберг. Планировка их весьма похожа. В Торнове древнейший град защищен округлым валом высотой до 9 м, на деревянном решетчатом остове, и рвом. Изнутри града к валу пристраивались хозяйственные постройки из тонких бревен. В центре града стояло столбовое здание размером 11 м2. Неподалеку располагались зерновая яма и колодец. Еще одно, наземное, зернохранилище стояло у ворот. Известны и другие городища этого раннего времени, в том числе Бониково на пологом холме у Обры. Под простейшим каменно-земляным валом, охватывающим площадь до 100 м в диаметре, располагалось несколько землянок и полуземлянок.[1217] Грады являлись центрами силы и власти завоевателей. Сюда стекалась дань с покоренных племен — прежде всего, зерно. Вместе с данью (и с женами из местного населения) попадало в грады некоторое количество лепной керамики. В Торнове обнаружены следы поступления урожая с 73 различных полей. «Торновцы» принесли в район Шпрее-Хафеля более развитую технику земледелия. В период их владычества здесь уже использовался севооборот. Возделывались рожь, пшеница и ячмень.[1218] Торновская гончарная керамика обнаруживается сначала почти исключительно в торновских градах — хотя образцы ее в результате торговли или войн известны вплоть до Шелиг. Керамика эта несколько отличалась от фельдбергской. Она представлена горшками правильной биконической формы с расширением посередине и расположенным выше орнаментом — полосами, прямыми или волнистыми линиями, штамповкой. От этих сосудов развились чуть позже другие типы — высокие, с угловатыми плечами, и с более плавным профилем. Их орнамент включал, помимо волн и охватывающих черт, также пересекающиеся линии и крестики.[1219] «Торновцы» являлись предками лужичан — известного с IX в. сильного славянского племени, которое вместе с сербами составило основу серболужицкого народа. Однако название «лужичане» вторично по отношению к «Лужицы», которое и упоминается, кстати, Баварским географом как обозначение не только области, но и племени.[1220] Происходит ли название «Лужицы» от славянского «луг», или от германского племени лугиев — изначально оно обозначало страну, а не племя. В первой, более ранней, части Баварского географа упоминается лишь одно собственно лужицкое племя — мильчане, Miloxi. Во второй части приводится более правильное Milzane, точно так же рядом с силезскими безунчанами и дедошанами.[1221] Именно мильчане и главенствовали к началу IX в. среди потомков «торновцев» — что, впрочем, не обязательно имело место в VII столетии. В Лужицах и Западной Польше «торновцы» создали собственный племенной союз. Северные «торновцы», осевшие среди стодорян на Хафеле и покорившие их, не теряли связи с велетскими сородичами. Не сразу, но они вошли непосредственно в племенной союз велетов и могли даже временами верховенствовать в нем. Племя их при этом сохраняло прежнее название — стодоряне. Германцы же называли их по реке хэфельдами. Именно велетские войны привели к выселению части венедов под главенством и покровительством авар далеко на запад, в Мазурское Поозерье. Здесь они сохранили самосознание и не исчезнувшее к тому времени еще имя «венды».[1222] Освобождение части вендов от власти велетов и какие-то победы над грозными завоевателями отражались в русском былинном эпосе начала XIII в. Фрагменты его сохранила норвежская «Сага о Тидреке». Здесь рассказывается о победе «русских» над «вильцинами» (велетами) после смерти грозного короля последних, покорившего все славянские страны.[1223] Велетами, волотами еще долго называли на Русском Севере великанов — свидетельство исхода предков новгородцев из полабско-поморского ареала в VII в. О таком же происхождении говорит и внешний облик ильменцев.[1224] Так что мы можем заключить, что предки словен ильменских, заселивших впоследствии Новгородскую землю, находились именно в этом потоке переселенцев.[1225] «Аваро-славянский» этап в истории мазурской культурной группы наступил в начале VII в.[1226] В это время в западномазурский район, до этого населенный балтским племенем галиндов и управлявшийся германской (гепидско-лангобардской) знатью, вторглись новые пришельцы. Верхушку и ударную силу их составляли авары и увлеченные ими на север анты (выходцы с низовий Дуная?). Наряду с ними в Мазурах расселились и другие славяне. Позднее на востоке Европы (как и на Балканах) известны смоляне и выходцы из Силезии лупоглавы. Как будет показано ниже, присутствовали и выселенные аварами дулебы. Прежнюю германскую дружинную знать не истребили, но существенно потеснили.[1227] В Мазурах возникло новое племенное объединение во главе с выходцами из Аварского каганата, среди которых имелись и славяне. Оплотом и перевалочным пунктом для этого вторжения, как уже говорилось, являлись Шелиги — крепость ляшских племен на балтском порубежье. Именно то, что мазурский племенной союз превратился в северный форпост Аварского каганата, могло привести к сравнительно быстрому уходу отсюда немалой части славян. Ушли преимущественно венды, но и некоторые анты (чей путь отмечают находки пальчатых фибул). Путь дальше на северо-запад прокладывали аварские набеги, следы которых находят вплоть до литовских земель.[1228] Путь вендов и сопутствовавших им антов пролегал через северо-восточные земли пруссов к низовьям Немана и дальше в земли современной Латвии. Здесь они осели в Курземе, по реке Венте — которая именно тогда получила свое имя. Вторжение славян сдвинуло с насиженных мест балтские племена куршей, что отразилось в запустении местных могильников. Позднее между пришельцами и аборигенами установились на какое-то время ровные взаимоотношения. Курши переняли от пришедших в их земли славян ритуал кремации умерших. Славяне отчасти уже тогда смешивались с куршами и жившими севернее финнами ливами. Однако они сохранили самосознание и самоназвание «венды».[1229] Погребальные памятники вендов — песчаные курганы («krievu kapi» — «русские могилы» местных преданий). Курганная обрядность сложилась в тесном общении с ливами и куршами и содержит уже отчетливые неславянские (в основном ливские) элементы.[1230] Первоначально большая часть пришельцев хоронила умерших без инвентаря в грунтовых могильниках. Именно этот ритуал восприняли у них курши. Затем, однако, у вендов возобладал обычай сооружать курганы. Произойти в их среде он мог от дулебов, также увлеченных на далекий север аварским движением. Появление вендов в Прибалтике вплотную приблизило границы западной ветви славян к северным сородичам — кривичам, доселе пребывавшим в полной изоляции от остального славянского мира. Большую часть VII в., однако, эта изоляция еще сохранялась. Кривичи продолжали населять территорию к югу от Чудского озера, рассеянно обитая также на большом пространстве среди сопредельных балтских и финских племен. Именно в описываемый период началось становление кривичского союза племен с центром в районе Плескова (Пскова), крупного славяно-финского поселения, как самостоятельной политической силы. Часть «чудских» общин ушла с насиженных мест, часть влилась в созданное славянами новое объединение. Их потомками являются современные сету Псковщины. Обстоятельством, подтолкнувшим сету и кривичей к объединению под главенством последних, послужила борьба с жившими западнее предками нынешних эстонцев. «Эсты», тогда еще не носившие этого имени, являлись давними врагами сету (сисси), как явствует из эстонских преданий. Обе стороны совершали на земли друг друга частые набеги. Кривичи же столкнулись с «эстами» в своем расселении на запад. На восточных границах «эстских» земель возникла целая система крепостей, призванная сдержать славянское расселение.[1231] С другой стороны, и кривичи строят в псковских землях грады-убежища.[1232] Напряженность по берегам Чудского озера и реки Великой сохранялась весьма продолжительное время. VII век отмечен бурным развитием целого ряда новых культур славянского Севера — фельдбергской, рюсенской, голанчской, торновской. Вместе с тем в регионах старых славянских культур (пражско-корчакской, суковско-дзедзицкой, длинных курганов) развитие этого века не отмечено слишком резкими скачками. Лишь на западе, где пересекалось влияние более передовых дунайской и фельдбергской культуры, пражская культура отчасти меняет свой облик. Переселения племен на землях современных Польши и Восточной Германии привели к значительному, более чем вдвое, росту числа поселений.[1233] Впрочем, многие черты прежнего быта ни при каких обстоятельствах не претерпевают изменений. Так, возникшее примерно в начале VII в. сельское гнездовье Дессау-Мозигкау на реке Мульда — типичный образец славянского домостроительства. Древнеславянское «село» располагалось на высокой речной террасе. Здесь обнаружено 44 полуземлянки с печами-каменками в углу. Прослеживается вход напротив печного угла. В жилище вели наклонный пандус или вырезанные в земле, иногда крытые камнем ступеньки. Один дом на поселении — столбовой, «германского» типа. И это также не новшество на славянских поселениях западных земель, след совместного проживания с германцами. Дома группируются по 6–11 зданий; всего таких малых весей в гнездовье пять. Одну из больших по размеру весей следует признать главной. Здесь в кольце из десятка жилых домов располагалась обширная незастроенная площадка. На ней, надо думать, собиралось вече, а может, и совершались религиозные обряды.[1234] Наряду с кучной по-прежнему встречается и рядовая застройка поселений. В Лисеве (Польша) обнаружено небольшое поселение из четырех домов и трех хозяйственных построек, расположенных в два ряда.[1235] Наряду с полуземлянками площадью от 9 до 41 м2, 40–60 см в глубину, господствующими на юге и юго-западе, строились и наземные дома. Некоторые из них, впрочем, имели подпольные углубления до 60 см. Таковы, например, жилые здания в Шелигах. Слишком больших домов здесь не отмечено. Размер всех от 5 до 16 м2. Такую же картину мы видим и на других поселениях, где строили наземные дома с углублениями или без. Для строительства наземных домов в польских землях по-прежнему применяли столбовую технику.[1236] Не претерпели существенных изменений и основные занятия северных славян — земледелие, скотоводство, охота. Возделывали на юго-западе рожь, просо и пшеницу, на северо-востоке же ячмень и полбу. Соотношение костей домашних животных из поселения Девинске Язеро (Словакия), возникшего в VII в., напоминает и прежнее словенское, и еще больше отмеченное тогда же на далеком юге, у «попинцев». На первом месте в стаде (но меньше половины) — крупный рогатый скот. За ним следуют по убыванию свиньи, овцы, кони. Обнаружены кости кур и домашней собаки. Такое же соотношение выявляется по материалам поселений различных областей современной Польши VI–VII вв. Но в VII в., сначала в землях на запад от Вислы, начинается рост доли мелкого скота. Особенно бурно развивалось свиноводство.[1237] «Франкская космография» называет как важный источник благополучия славян придунайские пастбища.[1238]  Глиняное пряслице В то же время некоторые хозяйственные изменения в VII в. отмечены по всему славянскому ареалу. Совершенствуются ремесла. Особенно бурно развивалась обработка железа. Кузнецы овладели приемами сварки железа и стали, разнообразили способы ее получения, разработали методы закалки стальных изделий. Железоплавильный горн этого времени обнаружен на корчакском поселении Рашков I. На севере происходит распространение новых земледельческих орудий, вооруженных сошником, более пригодным для обработки свежих участков при подсеке. Развитие камнерезного дела показывает распространение наряду с глиняными пряслицами новых, вырезанных из мягкого камня.[1239] Усиливалось расслоение в славянском обществе. Первобытные нормы общежития все более отходили в прошлое, общинный строй начинал разлагаться. На севере славянского мира этот закономерный процесс происходил ненамного медленнее, чем на юге. Один полюс общественной жизни отмечает его появлением нового термина для обозначения богатых, знатных людей — «могут», «могутич», отражающий именно их возросшую власть.[1240] На другом полюсе появляется новое значение — «раб», «слуга» — у древнего слова *xolpъ, «холоп», обозначавшего раньше младшего члена семьи.[1241] Это отражает появление нового, позднее известного повсеместно обычая — обращения во временное или постоянное рабство соплеменников за долги или преступление. На первых порах статус холопов существенно выше, чем у обычных рабов-пленников. Это и потребовало появления нового термина. Распад старого жизненного уклада, ускоряемый войнами и переселениями, находил отражение и оправдание в религиозных представлениях. Если на юге развитие славянской языческой религии, за вычетом некоторых заимствований местных обычаев, застопорилось, то на севере оно продолжалось поступательно. Примером воздействия общественных новшеств на религию славян VII в. стало появление нового термина *nebogъ ‘небогатый’ и одновременно ‘лишенный бога, удачи, божественного покровительства’.[1242] С другой стороны, древнее обращение к божеству с просьбой о помощи, удаче («дай / дажь бог!») превращается в личное имя княжеского бога-родоначальника, Солнца. Во всяком случае, это произошло у какой-то части северных славян еще до сербохорватского выселения.[1243] Сам по себе факт показательный, подразумевающий идею особой княжеской удачи, привилегированной «доли», исходящей от божественного предка. Именно княжеский предок теперь — «бог дающий», главный источник людской удачи. Но следует также иметь в виду, что вокруг нового имени Солнца складывается определенная мифология, объясняющая возникновение княжеской власти. Дажьбог (Дабог) воспринимается как первый государь, безраздельно правивший всем земным миром, прообраз власти всех позднейших людских вождей, — прежде всего, своих славянских потомков.[1244] Этот миф укреплял сакральную, да и политическую власть князей. Он существенно возвышал элитарную общность воинов-кузнецов, «потомков» Дажьбога, к которой причислялись князья, — но собственно княжеские роды возвышал и над нею. Вообще, усиление опиравшихся на дружину князей постепенно сводило на нет влияние ритуальных и воинских союзов. В то же время к северу от Дуная княжеская власть оставалась в VII в., не только формально, выборной.[1245] В каких-то племенах выбирали не князей, а временных воевод. В таких случаях сохранялись некие формы коллективного правления — например, упоминаемый в польских преданиях[1246] совет из 12 «наиболее знаменитых и богатых людей», которые и выбирали воеводу. Но и воевода со временем мог превратиться в князя, закрепив власть за своим родом. Еще одним признаком усиления, зримого отдаления княжеской власти от племенной массы стало появление фигуры мечника — княжеского «придворного»-меченосца.[1247] Функцией такого рода лиц в первобытном обществе являлось устрашение «подданных» и подчеркивание особого, священного статуса власти вождя. Укрепление княжеской власти и появление первых устойчивых династий породило в славянской устной «литературе» новый жанр — родовой перечень князей. Существование таких перечней нельзя исключать и ранее. Однако самые древние из сохранившихся восходят к VII или даже — в большинстве случаев — к VIII в. Перечень начинался с предания о происхождении рода и закреплял его права на власть. На перечисление правивших родичей нанизывались при желании эпические предания о самых заметных событиях племенной истории. Такие сказания, — прозаические или песенные, — имеющие конкретную историческую основу, прослеживаются также с VII в. Они создавались подчас по образцу древнего «великанского» эпоса. Но теперь речь шла о деяниях не мифических, а реальных героев, племенных вождей и дружинников. С самого начала в этом героическом эпосе сплетались мифологическое и «реалистическое» видения мира.[1248] С процессом начавшегося размежевания «аристократической» и «народной» религии связано появление в пантеоне еще одного нового лица. От громовержца Перуна частично обособилась его ипостась — умирающее и воскресающее божество, связанное с буйными, не всегда благими, но животворящими силами природы. Имя нового персонажа, присутствующего в основном в чисто народных календарных празднествах, произведено от эпитета громовника — «яровитый», «ярило». Взаимосвязь поморского Яровита, русского, белорусского и сербского Ярилы, древнерусского Яруна не вполне ясна, но сродство всех этих персонажей и их функции в целом понятны. Ярилой именовалась также жертва (замещающая либо еще человеческая мужская), приносившаяся на «Ярилин день». Последний сначала приурочивался к летнему солнцестоянию. Этот праздник еще и на пороге нового времени у восточных славян носил характер буйный, «разнузданный», эротический — и включал магические обряды.[1249] Еще один новый персонаж, появившийся в славянской мифологии в канун выселения сербов и хорватов на юг или вскоре после этого, — Мокошь. Имя этой позднейшей верховной богини Руси Х в. известно и на западе, а также у сербов, хорватов и словенцев. Однако там это скорее дух «низшей», народной мифологии. Имя Мокоши связано с древнеславянским корнем *mok-, отражая ее связь с водной стихией.[1250] Изначально имя это оставалось лишь эпитетом Матери Сырой Земли, старейшей верховной богини славянского пантеона. Прозвание «Мокошь» отражало ее власть над источниками земных вод и перекликалось с наименованием постоянным — «Сыра». Достойно замечания, что в VII в. окончательно складывается облик славянского языческого капища. Оно в этот период представляло из себя округлую площадку, подчас на естественной возвышенности, окруженную рвом или ямами (иногда ямами во рву). Во рву сжигались жертвоприношения, а посреди площадки стоял деревянный идол. Таких капищ, существовавших или предположительно возникших в VII в., известно три в разных концах славянского мира. Зааринген расположен в бассейне Хафеля, Радзиково — в Польше, Хотомель — в Полесье. Самое крупное из них и дольше всего (до XIV в.) просуществовавшее капище в Радзикове имеет еще каменные и ямные жертвенники на самой площадке — там стояло несколько идолов.[1251] Иной тип славянского святилища встречается только в велетских землях. Здесь в VII в. построен использовавшийся и подновлявшийся до Х столетия храм в Фельдберге. Не исключено, что именно Фельдберг — Ретра, стольный град племени редариев, поклонявшихся солнечному богу Радогосту Сварожичу. Каким образом божество получило известное с VI в. «княжеское» имя — неясно. Град Ретра именовался еще Радгощем, и не исключено, что изначально Радогост — основатель града, как часто у славян, слившийся в предании с мифическим прародителем. Деревянное двухкамерное здание прямоугольной формы, площадью 50 м2 (5 х 10 м) располагалось на выступающем мысу. Славянские строители по обычаю окопали непривычный храм не очень глубоким (60 см), но широким (2 м) рвом. В центре храма находился типичный для славян ямный жертвенник. Храмы, подобные фельдбергскому, со временем распространяются на северо-западе славянского мира. «Авторство» их идеи, несомненно, принадлежало велетам, воспринявшим частицы наследия кельтского друидизма.[1252] По тогдашним славянским меркам, фельдбергское здание являлось весьма величественным и просторным. Появление подобных сооружений, как и однотипных открытых капищ на других территориях — еще один показатель продолжавшегося развития славянской языческой религии. Славяне против Ираклия5 октября 610 г., на следующий день после жестокой расправы с тираном Фокой, императором Восточного Рима избрали победителя — Ираклия, родом армянина из Каппадокии, сына экзарха провинции Африка. Гражданская война завершилась. Однако продолжались войны внешние, и они-то превратились для нового государя в неизбывную и тяжкую заботу. Ираклий ставил своей целью воссоздание хотя бы тени былого имперского величия, пусть на новых основах. Но в первые месяцы, даже в первые годы его правления задача казалась непосильной. Наследство досталось дурное. На Востоке персы хозяйничали по всей Сирии, Армении и в Малой Азии. О мести за Маврикия и восстановлении законной власти они уже не вспоминали. Хосров Парвиз теперь открыто провозгласил своей целью захват как минимум азиатских провинций, присоединение их к Персии и насаждение зороастризма. В Европе же немногие уцелевшие провинциальные центры оказались островками в «варварском» море. Вестготы теснили ромеев в Испании, лангобарды — в Италии, авары и славяне — на Балканах. Ираклий в целом справедливо, но вынужденно счел главной заботой Персидскую войну. При наличных же силах Империи вести еще и войну в Европе не имелось никакой возможности. Многие пали в гражданской войне, целые провинции лежали в руинах, имперскую военную знать истребил Фока. Ираклий искал пути к миру с Аварским каганатом — но не находил. Аппетиты расползшегося на всю Восточную Европу кочевого государства резко возросли и не удовлетворялись откупами скудеющей византийской казны. Оставалось предоставить европейские провинции самим себе. Это Ираклий, не без колебаний, и сделал, закрепившись в Константинополе. За пределами столицы единственным надежным оплотом Империи на Балканах осталась Фессалоника, столица Иллирика. Дела на дальнем Западе Ираклию удалось выправить лишь ценой потерь. Забросив испанские провинции, новый император практически сдал их вестготам. Зато в Италии в 611 г. он сумел заключить мир с лангобардами. Жестокое разорение аварами Фриуля в 610 г. создало в Европе совершенно новую политическую ситуацию. Преданный каганом, но заключивший союз с баварами и франками Агилульф резко сменил свою политическую линию. Теперь германские королевства вместе с Империей противостояли аварским завоевателям. Это несколько облегчало положение Ираклия. Но не исправляло дел по существу. Ни лангобарды, ни бавары, ни тем более франки, вынужденные оборонять от авар собственные земли, не могли даже при желании оказать помощи балканским провинциям. Давление славян на уцелевшие ромейские владения, разумеется, со вступлением Ираклия на престол не прекратилось — как не прекращалось оно и до того. Незначительная передышка, имевшая место между двумя этапами славянского нашествия, завершилась в 611 г. Тогда альпийские славяне, доселе союзники лангобардов против Империи, дали свой ответ на мир короля Агилульфа с Ираклием. Славяне вторглись в Истрию и разорили ее «самым плачевным образом… перебив воинов».[1253] Вторжение в Истрию — лишь один эпизод развернувшегося второго этапа величайшего славянского нашествия на Империю. Одновременно с Истрией вторжение произошло в Далмацию. Сюда устремилось два потока славян — из междуречья Савы и Дравы, родственные уже действовавшим там лендзянам, и с юга, из перенаселенного «охридского котла» Македонии. События, развернувшиеся далее, отразились и в славянских, и в романских далматинских преданиях средневековья.[1254] В средневековой Хорватии сохранялось предание, доставшееся хорватам по наследству от покорителей Далмации, лендзян. Согласно этому преданию, отраженному в «Летописи попа Дуклянина», нападению на Истрию предшествовала битва в местности Темплана. Современной науке место это совершенно неизвестно. Однако эпическое предание хорватов вполне могло запомнить битву, важную для местной истории, но оставшуюся незамеченной в современных хрониках. Завоевав «Паннонскую область», «готы» (здесь — славяне) «с могучим множеством достигли Темпланы». Против них объединились «короли» Далмации (сидевший якобы в Салоне) и Истрии. Превращение правителей провинций в «королей» и описание Салоны как «великого и дивного града» — черты народного эпоса, который с охотой преувеличивает силу побежденного противника. После встречи войск «на протяжении восьми дней, поскольку от лагеря до лагеря было близко, с обеих сторон выходили воины, раня и убивая друг друга в поединках. В восьмой же день все с обеих сторон — христиане и язычники — вышли вооруженные и сошлись в великой битве, длившейся от третьего часа дня до самого заката. И судом Божьим, коего никто не дерзнет предсказать, свершилось так, по неким сокрытым великим прегрешениям христиан, что победу одержали жестокие готы; и христиане пали, и убит был король Истрии, и многие тысячи христианского люда умерли от меча, и огромное множество было уведено в плен. Однако король далматинский с немногими могучими воинами ушел и бежал в свой град Салону». Вслед за тем одно войско «готов» вторгается в «Истрию и Аквилею», второе же — в «Иллирийскую провинцию». Командование первым хронист, возводящий правящий род Дукли к «готам», приписал Тотиле, а предводительство вторым, более закономерно — предку дуклянских князей Остроилу.[1255] С уничтожением имперских гарнизонов прежней жизни в Истрии настал конец. Славяне заселили большую часть полуострова. Многие античные поселения легли в развалинах. Славяне, завоевавшие Истрию, остались чужды и враждебны христианству. В городах они не раз разрушали церковные здания. Вместе с тем полного опустошения и повального бегства жителей не произошло. Иногда славяне селились вместе с истрийцами и лангобардами, если те придерживались языческих верований. С другой стороны, от местных жителей славяне переняли обычай трупоположения. Среди смешанного населения ходила ромейская монета. Продолжали рядом со славянами существовать и общины истрийских христиан. Хотя и в общении со славянами, под их влиянием, они сохраняли свою веру и хоронили умерших на особых кладбищах.[1256] Как раз в 611 г. среди альпийских славян решил было проповедовать христианство известный ирландский миссионер Колумбан, проживавший тогда в Брегенце. Но, повествует написанное его младшим современником Ионой житие, «явился в видении ангел Господень и в виде небольшой окружности, как обычно сжато изображают круг вселенной, показал мироздание. “Ты видишь, — сказал он, — что весь мир остается пустынным. Иди направо или налево, куда выберешь, дабы вкушать плоды дел своих”. Тогда понял тот, что нелегок у этого народа успех веры, и остался на месте».[1257] Ромеи были бессильны воспротивиться славянскому завоеванию Истрии. Чуть позже удалось перейти в наступление на славян лангобардам. Произошло это, правда, существенно западнее, в самых верховьях Дравы. Где-то в начале 610-х гг. герцоги Фриульские Тазо и Какко, сыновья павшего от рук авар герцога Гизульфа, совершили поход на здешних славян, союзников кагана. Удалось покорить часть населенных ими земель по текущей вдоль южного склона Карнийских Альп реке Зилье, правому притоку Дравы. Область так и называлась — Зилья (Зеллия). Далеко не вся Зилья подчинилась братьям-герцогам, низовья реки за древним римским укреплением Медария (по-славянски Мегларье) остались независимыми. Остальные же славяне Зильи, побежденные, согласились платить фриульским герцогам дань.[1258] Немногим позже славяне из близлежащих областей по Верхней Драве столкнулись с баварами герцога Гарибальда II. Битва произошла под стенами занятой славянами римской крепости Агунт. Гарибальд пытался выбить их из Агунта, но потерпел поражение. Славяне в ответ вторглись в пределы Баварии и подвергли их разору. На своей земле, впрочем, баварам удалось разбить славян, изгнать их и отнять награбленную добычу.[1259] В Далмации же славян вообще не сдерживал никто. Позднее романское предание, говорящее о давлении славян на далматинцев, подчеркивает, что к тому времени Салона пришла в упадок, да и «способного правителя» город не имел.[1260] Других же центров сопротивления нашествию в провинции не было. Романцам и остаткам ромейской армии оставалось отсиживаться за крепостными стенами — при их наличии. Но теперь и эти стены уже не останавливали славян. Напротив — они стали главной целью завоевателей. Все их силы были брошены именно на захват и разрушение прибрежных городов. Нехватка земли остро требовала от славян — покончить с последними оплотами вражеского сопротивления и тем закрепить за собой обживаемую территорию. Прижатые к морю далматинские общины были атакованы по всей прибрежной полосе. Примерно в 614 г. после серии разорительных набегов пал Эпидавр — одна из главных крепостей на юге Далмации. Славяне разрушили город, часть его жителей перебили, часть обратили в рабство. Уцелевшие обосновались в соседних крепостцах Спилан и Градац, где продолжали сопротивляться завоевателям. Позже они переселились на расположенный неподалеку остров Раусий (Рагузу), где выстроили крепость, положившую начало Дубровнику. Какая-то часть беженцев перебралась затем оттуда на побережье юго-западной Италии, в Амальфи.[1261] На следующий год[1262] пришел черед столицы Далмации — Салоны. Здесь славяне-лендзяне прибегли к помощи авар — или авары навязали им свою помощь. Нападение на Салону, по Фоме Сплитскому, возглавил «готский предводитель (dux), стоявший во главе всей Славонии». Почему бы и действительно не сам каган? Фома передает местное предание об осаде Салоны — выглядящее в основных деталях вполне достоверно. С «большим конным и пешим войском» аварский вождь внезапно подступил с гор к городу. Свой лагерь он разбил с восточной стороны Салоны. К западу, «над морем», однако, встал по его приказу один из аваро-славянских отрядов. Начался обстрел стен — из луков и дротиками. Взобравшиеся на нависающую над стенами скалу, славяне из пращей осыпали защитников градом камней. Под прикрытием стрелков сомкнутым строем к воротам пошли воины с таранами. Однако первый приступ смело защищавшиеся салониты отбили. От стрел и снарядов их защищали стена и щиты. Город не знал недостатка в своих лучниках, на подступающих к стенам «сбрасывали огромные камни». К тому же в постоянно ожидавшей нападения Салоне имелась оборонительная техника. В стрелков врага летели не только стрелы, но и снаряды камнеметов и баллист. Безуспешные штурмы продолжались «много дней». Ежедневно к стенам приступали новые и новые воины. Обладая большим войском, каган попросту изматывал противника за счет жизней славян — и в конечном счете преуспел. В лагере осажденных, «обессиленных и измученных», не ждущих подкреплений, начались разногласия. Стоявшие в не перекрытой врагами гавани корабли открывали заманчивый путь к бегству — по крайней мере, для кого-то заманчивый. В конечном счете часть «городских богачей» втайне отправила свое имущество к кораблям. Напуганное «простонародье», прознав о погрузке, хлынуло в порт беспорядочной толпой. Люди, среди которых была масса женщин и детей, многие без всяких пожитков, в сутолоке рвались на корабли и в лодки, тонули. Паника охватила и стоявших на стенах — так что славяне и авары ворвались, наконец, в Салону. Начался разор захваченного города. Разгневанные длительным стоянием и торжествующие благодаря почти бескровному последнему штурму, «варвары» меньше пеклись о добыче, чем о самом опустошении. В Салоне заполыхал пожар. Вскоре город со своими дворцами и храмами превратился уже в «груду развалин и пепла». Многие из разбегающихся граждан погибли или попали в плен. Столпившиеся в порту уже не заботились о гибнущем городе — думая лишь о себе, они «торопили отход кораблей». «Отступавшие первыми не дожидались последних: кто был последним, не могли держать бегущих. Как хмельные или безумные, лишь в бегстве видя спасение, они не знали, какой более надежный путь им выбрать. О, сколь печально было зрелище несчастных женщин, рвавших волосы, бивших себя в грудь и по лицу! Сколь громки крики и рыдания не ведающих, от чего им спасаться — от огня или меча», — заключает Фома свой рассказ о гибели древней Салоны.[1263] Так закончилось противостояние славян с властями ромейской Далмации, начавшееся за полтора десятка лет до того разбойничьими набегами далматинских пограничников на лендзянские селения. Провинции Далмация больше не существовало. Война, однако, не завершилась. Оставались далматинцы, не желавшие, разумеется, уступать врагу земли предков — и славяне, надеявшиеся теперь на обустройство в добытой мечом стране. Это противостояние, то затухая, то вспыхивая, продолжалось еще много веков, определяя всю историю прибрежных земель Восточной Адриатики. После разорения Салоны славяне на время обосновались в ее развалинах, совершая оттуда набеги на близлежащие земли. Постепенно большая часть далматинцев бежала в защищенные природой прибрежные крепости или на острова, оставив свои угодья завоевателям. Немногие отступили в высокогорье. Со временем те, кто остался на большой земле, покорились славянским вождям и стали смешиваться со славянами.[1264] Беженцы из Салоны обосновались в основном на лежащих южнее города островках — Шолте, Браче, Хваре, Висе, Корчулах. Здесь они осели, используя доступные для обработки земли и торгуя с соседями. Некоторые знатные салониты переселились к беженцам из Эпидавра на Раусий и возглавили здешнюю общину. Молодежь с островов начала, используя уцелевшие боевые корабли-либурны (легкие, маневренные суда, родиной которых была как раз пиратская Далмация), совершать набеги на самих победителей. По словам Фомы, «ежедневно они устраивали поистине такую резню и грабеж, что никто из славян не отваживался спускаться к морю».[1265] Благодаря этому, а также морским источникам пропитания, прибрежные крепости и острова сохранили во враждебном окружении независимость. Так начиналась история далматинских городских коммун и их непростых, а в ту пору еще прямо враждебных отношений с окрестными славянами. После нашествия славян романских городов в Далмации осталось семь — Декатеры (будущий Котор), Раусий, Тетрангурин (Трогир), Диадоры (Задар), Арва (Раб), Векла (Крк), Опсары (Црес).[1266] Из них Котор, Трогир и Задар — старые крепости, устоявшие перед нашествием. Остальные, как и поселения салонитов, располагались на прибрежных островах, заселенных далматинскими беженцами. Нашествие затронуло не только Далмацию, но прилегавшую к ней с юга Превалитанию. Наряду с вторгавшимися с разных сторон славянами, сюда после падения Салоны перешли основные силы авар во главе с самим каганом. Основные центры провинции — Скодра и Диоклея — пали. Немалую часть населения каган угнал в Паннонию. Спасшиеся жители Диоклеи бежали к скалистому побережью, где основали город-крепость Бар (или Антибари, по противолежащему итальянскому городу Бари).[1267] Одновременно с Далмацией, в 614–615 гг., нашествию подверглась и южная часть Иллирика до Ахайи включительно.[1268] Сюда вторглись племена из плотно заселенных славянами земель охридского «котла». Места здесь явно всем не хватало. Более пяти племен, осевших в Македонии, объединились в союз для завоевания новых территорий. На первом месте среди них стояли дреговичи, расселившиеся в южных областях Македонии, к западу от Фессалоник. Отдельные их общины, впрочем, жили к востоку от города. Вторыми идут сагудаты, их ближайшие соседи и союзники, также расселившиеся на юго-западе Македонии. Неизвестны тогдашние места обитания велеездичей и войничей — судя по дальнейшему, более других заинтересованных в новых захватах. Наконец, берзичи занимали основную часть охридского «котла» — внутренние области Македонии от Охрида до Прилепа.[1269] Помимо названных, однако, в нашествии участвовали и «другие народы», остающиеся неизвестными. Освоившись уже с мореходством, славяне решили атаковать греческие провинции по морю. Это существенно ускоряло передвижения — а главное, являлось совершенно неожиданным для противника. В низовьях македонских рек, выходивших в Эгеиду, и на Адриатике в берзичских низовьях Дрина выстроили огромный флот из ладей-однодеревок. Выйдя в море, славяне атаковали побережья на огромном пространстве, стремительно пересекая воды Эгеиды и Иониды. Опустошая и захватывая те или иные земли, изгнав, перебив или пленив местных жителей, они затем перевозили свои семьи и обосновывались на новых местах. Такому опустошению подверглись «вся Фессалия и острова вокруг нее и Эллады, еще и Кикладские острова, и вся Ахайя, Эпир».[1270] Повсеместно происходили разрушения ромейских городов — возможных оплотов сопротивления. Славяне вновь разорили Афины и Коринф, овладели ими, прошли с войной вдоль всего восточного и южного берега Эллады.[1271] В результате они прорвались на Пелопоннес, вполне открытый для них с моря, и встретились со своими сородичами, обосновавшимися в Лаконии еще в 580-х гг. Отдельные отряды славян переправились через Эгеиду и разорили «часть Асии». Другие же отправились в иные области Иллирика — в том числе, чтобы принять участие в освоении Далмации и Превалитании. Империя не имела сил сопротивляться. На востоке бушевала Персидская война, войска шаха как раз завоевывали Сирию и Египет. В эти же годы авары (не без участия местных славян) уничтожали остатки ромейской власти в придунайских провинциях. Последние крепости Северного Иллирика не выдерживали напора завоевателей. Потоки беженцев оттуда устремлялись на юг, к Фессалонике.[1272] Георгий Писида, описывая в поэме «Ираклиада» первые годы правления своего императора, скорбно вспоминает: «А кроме того, фракийские тучи// принесли нам бури войны: // с одной стороны питающая скифов Харибда,// прикинувшись молчаливой, встала на дороге, как// разбойник, с другой же стороны внезапно выбежавшие волки-славяне// перенесли на землю морскую битву.// И с их кровью смешавшись,// поток сделался красным от убийства.// А с третьей стороны, словно пытаясь соперничать в воинственности,// прямо против вас невыносимое зрелище// явилось Горгоны Персеевой,// и весь мир пришел в замешательство… И часто, желая натянуть лук// и поразить Харибду, — ты против Горгоны,// превращавшей в камень образ зрящих,// обращался и удерживался от готового обрушиться удара.// Но и от нее, пуская со своей стороны в вас стрелы,// отвращали вас любящие разбой волки…»[1273] Поэт-панегирист достаточно четко выражал главную дилемму политики первых лет Ираклия — воевать в полную силу с аварами и славянами означало отдать персам Азию и открыть им путь на Константинополь. Попытки же примирения с Хосровом ничего не давали. 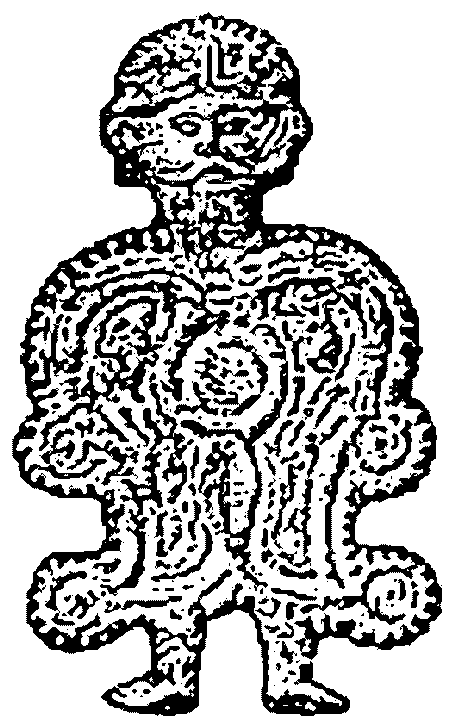 Князь. Велестинская коллекция Результатом победоносного нашествия для славян стало заселение большей части греческих земель. Власть Империи в Иллирике к концу 615 г. ограничивалась одной Фессалоникой. Фессалию заняли велеездичи.[1274] В Старом Эпире обосновались войничи. Какие-то еще славянские племена заняли Новый Эпир, окрестности Диррахия. Они состояли в обширном союзе, который возглавляли войничи и земли которого на востоке простирались до Афин.[1275] Славяне надолго стали если не основным населением, то хозяевами положения на землях Македонии, Эпира, Эллады (включая Пелопоннес).[1276] На Пелопоннесе, где главными являлись племена милингов и езеричей в Лаконии, славянское население в VII в. резко возросло. С востока и юга полуострова они без столь заметных потрясений позже проникали на северо-запад, до Олимпии. Здесь отношения с греками складывались более мирно.[1277] Во время нашествия или позже славянские общины появились и на Керкире в Ионическом архипелаге.[1278] Славяне завоевали Адриатическое побережье и большую часть Эллады. Им оставалось лишь нанести ромейскому владычеству в Иллирике последний, смертельный удар. Фессалоника, давняя цель славян, продолжала привлекать их взоры. Участвовавшие в морском нашествии племена приняли решение — покончив с подчиненными Фессалонике провинциальными городами, теперь завоевать и заселить саму столицу Иллирика. Вторая осада ФессалоникиВ 616 г.[1279] славяне вновь, во второй уже раз, подступили к стенам Фессалоники. К берегу под стенами подошло «огромное число» славянских однодеревок. Высадившись, славянские моряки разбили здесь главный лагерь. С востока, с севера и с запада к городу подтянулись племенные ополчения, взяв его в плотную осаду. Вместе с воинами пришли и их «роды вместе с их имуществом». Город рассчитывали не разрушить до основания, а занять.[1280] Более других в завоевании Фессалоники были заинтересованы жившие в ее округе дреговичи, сагудаты и берзичи. Однако все их союзники во главе с велеездичами и войничами приняли участие в походе, как прежде македонские славяне помогли им в завоевании Эллады. Нашествие возглавлял вождь («экзарх» — князь или воевода) по имени Хотун. Неизвестно, к какому племени он принадлежал сам. Скорее всего, к дреговичам, которые постоянно называются первыми. Перед походом Хотун «по своему обычаю захотел узнать через гадание, сможет ли он войти» в Фессалонику. «Ему было сказано, что можно войти, но не было раскрыто, каким образом». Как бы то ни было, Хотун принял ответ за добрый знак.[1281] Еще до подхода славянских войск город, ослабленный разорением округи и почти лишенный собственного флота, охватила паника. Ее усугубили перебежавшие от славян рабы-пленники, поведавшие о «жестокости их войска». Славяне изготовились к штурму. Однако их предводители не осмелились подводить хрупкие однодеревки прямо под защищенные метательными орудиями стены. Решив защитить суда перед приступом, они отложили его. Однодеревки отвели в узкую гавань Келларион в 4 км к востоку от крепостной стены и занялись их оснащением. Ладьи покрывали сверху досками и сырой кожей, призванной защитить их от зажигательных снарядов. Одновременно осаждавшие город с суши готовили камнеметы. Передышку для подготовке к бою, однако, получили и солунские граждане.[1282] Работа шла три дня. В течение этого времени отдельные славянские суда плавали на расстоянии пары миль (около 3 км) от стены, не подходя ближе. Славяне следили за развернувшимися оборонительными приготовлениями горожан, а заодно высматривали слабые места в защите. Два таких места приметили — оба у гавани, близ церкви Св. Богородицы. Участок перед самым храмом вообще оставался не укреплен со стороны моря, а западнее, под «башней у церковной лестницы» располагались «небольшие ворота». Мнения нападавших разделились. Одни сочли наилучшим войти в город через неукрепленный участок. Другие, в том числе сам верховный вождь Хотун, не доверялись кажущейся простоте решения и предпочитали вломиться через малые ворота. В конце концов, решили атаковать оба места.[1283] Славяне, однако, просчитались. Горожане не теряли времени даром, и не все их приготовления разведчикам удалось отследить. Вход в гавань перегородили цепями на бревенчатом основании, утыкав образовавшуюся плотину кольями и клиньями. За нею возвели второе заграждение — сцепленные якорями тяжелые грузовые корабли. В водных укреплениях оставили лишь небольшой проход. Неукрепленный участок у храма — и этого-то славяне не углядели издали — защитили рвом и прикрытыми досками ямами с кольями на дне. На молу, также неукрепленном, выстроили деревянную стену, невысокую — в половину человеческого роста.[1284] На четвертый день осады приступ, наконец, начался. С восходом солнца славяне со всех сторон города издали боевой клич и ринулись на штурм. На стену обрушились камни из метательных машин. Под прикрытием камней и стрел, которые летели «подобно снежным облакам», одни славяне приставляли лестницы к стенам, другие пытались запалить городские ворота. «И было странно, — повествует солунский автор, — видеть это множество, которое затмевало лучи солнца; как туча, несущая град, так закрыли свод небесный стрелами и камнями».[1285] Но главные силы нападавших во главе с вождем всей рати подступали с моря. Однодеревки, защищенные покрытием от стрел, огня и камней, устремились через оставленный проход к усмотренным слабым местам у храма Богородицы. В проходе, естественно, образовалась сутолока. С ней славяне на первых порах как-то справлялись, но при высадке «равномерное движение судов… стало неуправляемым». В этот самый момент, как говорит автор «Чудес святого Димитрия», «многие ясно видели защитника, любящего свое отечество Димитрия, преславного мученика в белой хламиде, который сначала обошел стену, а затем шел по морю, как по суше. Это видели не только многие просвещенные святым крещением, но и невинные дети евреев в так называемой части Врохтонов». О том, что именно это стало причиной сумятицы среди высаживающихся славян, согласно «Чудесам», рассказывали и они сами. Потерявшие управление ладьи начали сталкиваться друг с другом и переворачиваться. Подходившие следующими однодеревки прижимали шедших впереди к берегу. Люди с перевернувшихся судов хватались за борта других и нередко переворачивали и их. Это привело остававшихся на ладьях в панику. Некоторые начали рубить тонущих мечами и колоть копьями.[1286] На берегу дела пошли не лучше. Высадившиеся среди такого беспорядка, славяне вовремя не заметили рва и тем более закрытых ям. Многие попадали в них, другие остановились в нерешительности. Тогда некоторые горожане стали совершать вылазки, отгоняя врага от города. У малых ворот завязался бой — солунцы не стали ждать приступа Хотуна и сами напали на него. Славян разбили, а их вождь попал в плен и был уведен в город.[1287] Наконец, большинству ладей удалось развернуться и выйти из гавани. Но вдруг, в неожиданно раннее время, в восьмом часу утра, с моря подул встречный ветер. Многие ладьи разбились, другие еле ушли вдоль берега к осадным лагерям на востоке и западе. Множество трупов выбросило на берег. Когда ладьи удалились, к берегу вышли солунские гоплиты. Пройдя вдоль всего южного побережья, они покончили с остатком высадившихся славян и обезглавили доставшиеся им трупы. Головы соплеменников выставили напоказ осаждавшим город с суши. Те, и без того повергнутые в уныние вестями от бежавших мореходов, отступили от стен. После пленения Хотуна, перед лицом грозных сил, как будто поднявшихся на защиту Фессалоники, продолжать осаду славяне не решились. «В большой печали» они ушли от города, бросив многочисленные осадные орудия и захваченную в предместьях добычу. Воспользовавшись растерянностью славян, находившиеся в их лагерях рабы восстали и бежали под защиту стен Фессалоники. С собой они прихватили и изрядную часть имущества хозяев.[1288] Что касается Хотуна, то он ненадолго пережил снятие осады. Городская знать («некоторые из первенствующих города»), замышляя завязать собственные отношения со славянами, забрали Хотуна у воинов и скрыли его в каком-то богатом доме. Фигура славянского вождя лучше всего подходила для того, чтобы обеспечить безбедное и выгодное существование в окружившем Фессалонику славянском море. Но для только что переживших страх осады горожан в подобном поведении богачей виделись только «какая-то корысть и неблаговидные цели». Городские женщины толпой ворвались в дом, где скрывался Хотун, выволокли его оттуда и, протащив с собой по городу, забросали затем камнями.[1289] Третья осада ФессалоникиИтак, вторая осада Фессалоники кончилась для славян «великим горем». «Позорным» было поражение в войне после впечатляющих успехов предшествующих лет. Еще более позорной и требующей отмщения была смерть Хотуна. Наконец, помимо гибели многих воинов, славян разгневали унижение и ущерб, причиненные восстанием бежавших из осадного стана рабов. Страх перед таинственным быстро ушел. В то же время, сознавая долг мести, славяне не рисковали добиваться ее лишь своими силами. Они решили обратиться к аварскому кагану, воевавшему тогда с ромеями на севере Иллирика. Туда он перешел после разорения Превалитании. Теперь разгрому подвергались Дакия, Дардания, Мезия. Их жители толпами угонялись в земли каганата, в район Сирмия, где каган решил расселить пленных ромеев. В войске авар, разумеется, сражались и действовавшие в этих местах славяне.[1290] С богатыми дарами послы дреговичей и их союзников отправились в ставку кагана. Они обещали «дать еще больше денег сверх того, что они предполагают в будущем захватить» в Фессалонике, «если для этого окажет им помощь в войне». Славяне сулили повелителю авар «легкий захват города». Он «будет взят», уверяли они, «не только потому, что окружен ими, но и потому, что все города, зависимые от него, и области они сделали безлюдными, он же один… находился в их окружении и принимал всех беженцев из дунайских областей, Паннонии, Дакии, Дардании и остальных провинций и городов, и в нем они укреплялись».[1291] Славяне, таким образом, указывали кагану на опасность Фессалоники для его собственных действий в северных провинциях Иллирика, в бывшем диоцезе Дакия. Каган, конечно, и сам сознавал эту опасность, а потому «охотно поспешил выполнить их просьбу». Продолжая разорять Дакию и Дарданию, он вместе с тем стал понемногу собирать подвластные племена для похода к Фессалонике. В результате в придунайских землях скопилось «неисчислимое войско». В него собрались «все славяне» — по крайней мере, жившие в Паннонии, на севере Балкан и собственно в Македонии. Вместе с ними шли подвластные каганату паннонские болгары, а также другие «многочисленные народы».[1292] 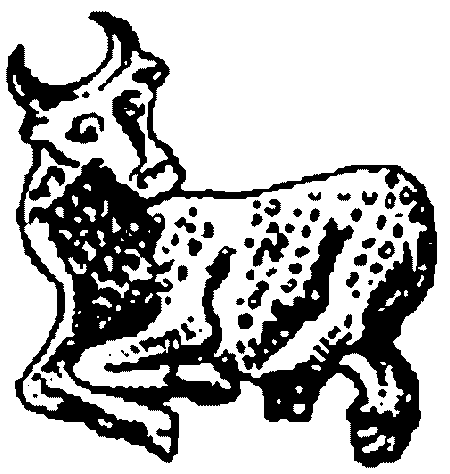 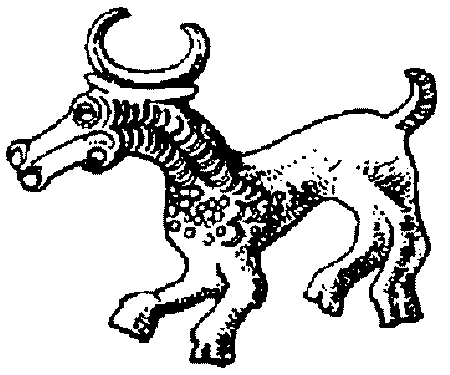 Коровы. Велестинская коллекция С набранными полками каган, прежде всего, подавил последние очаги сопротивления ромеев в Дакии. Один за другим после осад пали города Наисс и Сердика (столица Внутренней Дакии). Беженцы оттуда, как и предполагал каган, нашли убежище в Фессалонике.[1293] Наконец, поздним летом или в начале осени 618 г. аварская орда с примкнувшими к ней славянскими дружинами двинулась на столицу Иллирика. В авангарде каган послал отряд «отборной конницы», закованной в броню. Ей он приказал разгромить отряды, прикрывавшие Фессалонику, и как можно сильнее ослабить город, а затем ожидать подхода главных сил. С собою, не собираясь (в отличие от славян при обеих прежних осадах) тратить время на месте, каган вез осадные машины. Конница кагана появилась в предместьях Фессалоники в первой половине дня, около 11 часов. Большая часть граждан находилась вне стен города, на жатве. Авары не в первый раз использовали внезапность нападения на занятых земледельческим трудом ромеев. Многие солунцы погибли, другие попали в плен. Конникам кагана досталось «множество стад» и земледельческие орудия. Уцелевшие граждане, увидев истребление и пленение массы соотечественников, а через некоторое время прослышав о приближении главных сил врага, пришли в ужас. Находившиеся в городе беженцы вдвойне оплакивали свою долю. Тем не менее жители, воодушевляемые архиепископом города, пламенным проповедником и одаренным писателем Иоанном, изготовились к обороне.[1294] Через несколько дней после нападения конников авангарда к стенам подошли главные силы во главе с самим каганом. Вновь враги обступили Фессалонику полукольцом от моря до моря, «по всей суше». «Когда он окружил весь город, — повествуется в “Чудесах святого Димитрия” о приходе кагана, — можно было видеть повсюду только головы, и земля не выдерживала тяжести их наступления, а воды из водоводов, ближайших рек или колодцев не хватало для удовлетворения их и их бессловесных животных». «Невиданное множество» воинов кагана носило железные доспехи. Со всех сторон города, выше зубцов стены, поднялись громады привезенных аварами камнеметов. Авары и их союзники занялись осадными приготовлениями — «одни готовили так называемых черепах их плетенок и кож, другие у ворот баранов из огромных стволов и хорошо вращающихся колес, третьи — огромнее деревянные башни, превосходящие высотой стену, наверху которых были вооруженные сильные юноши, четвертые вбивали так называемые горпеки [колья для раскалывания ворот?], шестые выдумывали воспламеняющиеся средства». Столь огромное войско Фессалоника у своих ворот еще не видела.[1295] Наконец, с обстрела стен штурм начался. Стена Фессалоники вновь испытала град камней — даже, как виделось горожанам, «не камней, а гор и холмов». Со стен отвечали камнеметы солунцев. «Чудеса» повествуют, как один из горожан «написал на небольшом камне имя святого Димитрия и бросил его, воскликнув: “Во имя Бога и святого Димитрия! ”». Этот камень столкнулся в воздухе с гораздо большим («более чем в три раза») камнем из аварского камнемета и обрушился вместе с ним вниз. Упав в кабину аварской осадной машины, камни убили всех находящихся там во главе с обслуживавшим орудие манганарием.[1296] В первый день осады стена выдержала натиск. Около полудня внезапно произошли мощные подземные толчки. В городе началась паника. Осаждающим же показалось, будто рухнула «вся стена», и они всей массой устремились к городу. Однако стена устояла, и авары откатились, обстреляв ее напоследок из луков. Иоанн, находившийся среди защитников города, провозглашал особую Божью милость к Фессалонике и открыто явленную помощь святого Димитрия. Большинство горожан воодушевилось произошедшим, но другие оставались в отчаянии.[1297] Осада и приступы, тем не менее, продолжались. Первые неудачи не остановили кагана. Он понимал, что город не ждет подкреплений и почти истощен. Тем не менее вождь авар не решился после славянской неудачи осаждать Фессалонику и с моря. По морю продолжали подвозить «хлеб и другие различные припасы» на множестве судов, которым благоприятствовали морские ветра. Приплывавшие корабли, оснащенные камнеметами и другими орудиями, тревожили противника с моря. Пытаясь объяснить происходящее своим войскам, уверившимся в полной изоляции Фессалоники, вожди осады распустили слух, будто «жители города посылали корабли ночью, чтобы днем казалось, что они приходят». Солунцы же и сами капитаны кораблей объясняли происходящее Божьим чудом.[1298] Однако осада тянулась, и постепенно паника из города переходила на стены. Воинов, напряженно ожидающих очередного приступа, поминутно охватывал «невыразимый страх», так что они едва не бросались друг на друга. Отбивать приступы становилось все труднее. Положение спас прибывший в город по морю только что назначенный префект Иллирика Хариан. Ираклий, занятый Персидской войной, не знал об осаде Фессалоники, но, на удачу для горожан, отправил на разоренный Запад нового правителя. Сойдя на берег в городской гавани и оказавшись неожиданно для себя в осаде, энергичный Хариан лично отправился на стены Фессалоники. Под его умелым руководством горожанам вновь удалось отбить несколько приступов, а заодно повредить осадную технику авар. Когда воины под защитой «черепах» подступали к стене, то защитники сдирали их прикрытие заостренными жердями. После этого лишенных защиты «варваров» обстреливали из луков. Самая крупная из подведенных к стенам осадных башен, наконец, сама сломалась при движении и рухнула. Внутри погибли воины. Страх в среде горожан сменился насмешками над противником.[1299] После этих неудач каган решил снять осаду. Судя по дальнейшему, немалую роль в этом сыграла ненадежность местных славянских вождей. Они уже отказались от мыслей о мести и были готовы поладить с горожанами миром. Каган предложил осажденным откупиться. Но вдохновленные успехами, те отказались. В ответ каган приказал поджечь все храмы и дома вне стен города. Горожанам он заявил, «что не уйдет отсюда, но привлечет — на собственную погибель — множество других народов к союзу». Осада продолжалась на тот момент уже 33 дня. Поняв, что напрасно подвергают себя гневу «варвара», и решив не испытывать судьбу, солунцы постановили принять условия. Получив откуп, каган утвердил мир города с окрестными славянами и ушел восвояси.[1300] После нашествияПо окончании осады Фессалоники между соседними славянскими племенами и городом действительно установился мир. Славяне осели «поблизости», но более не нападали. Более того, они выменивали у горожан «недорого» и захваченных ранее пленников, и «различные вещи». У стены открылся небольшой торг. При этом вчерашние противники солунцев признавали, «что город спасен Богом и что во время землетрясения произошло чудо со стенами, и то, что против явления действие их орудия и машины оказались бесполезными и негодными, хотя раньше они были испытаны ими различными способами, казались им полезными и необходимыми, во время же нападения на город оказались негодными и бесполезными, по заступничеству явившихся им святых».[1301] Можно сомневаться, насколько точно автор-христианин передает донесенные до него людьми старшего поколения речи славян-язычников. Но ясно то, что и они приписывали спасение Фессалоники некоему высшему заступничеству. Вскоре после осады и последовавшей за ней смерти архиепископа Иоанна в городе и окрестностях все же случилось по-настоящему крупное землетрясение. Земля дрожала несколько дней. Никто из горожан не погиб, но часть зданий рухнула, и жители бежали из города, бросив ворота открытыми. Славяне в своих скромных жилищах от бедствия не пострадали. Увидев поднявшуюся над Фессалоникой пыль, они взбежали на окрестные холмы. В первый момент показалось, что город разрушен. Тогда славяне, прихватив кирки, отправились разобрать завалы и поискать уцелевшее имущество. Ничего дурного горожанам они не замышляли — просто сочли их всех погибшими. Приблизившись, однако, и увидев стоящие стены, славяне удалились — тем паче что на стенах, как им показалось, «видны воины охраны». Когда горожане обнаружили незначительность потерь, славяне присоединились к их празднику и «торжествовали, провозглашая наше спасение», пишет автор «Чудес святого Димитрия».[1302] Прочный мир, установившийся в Македонии, подвел черту под славянским нашествием. Новорожденное южное славянство вполне удовлетворило — пока — свой земельный голод. Воевать с ромеями больше было не за что. Напротив, требовалось укреплять мирные, даже добрососедские отношения — там, где это возможно. Здесь интересы славян и даже славянской знати коренным образом разошлись с вожделениями аварского кагана и его окружения. Для кочевых аристократов, загнанных судьбой в центр Европы, война превращалась в неизбежное средство наживы, а само наличие рядом возможных противников — сколько-нибудь сильных оседлых государств — неприемлемой угрозой. И каган, хотя и отступил от Фессалоники, но войну с Империей прекращать не собирался. Ираклий принимал свои меры. В 619 г. он заключил союз с болгарским ханом Кувратом. Визит Куврата в Константинополь и его крещение там создавали непосредственную угрозу каганату на востоке. Каган сделал ответный ход. Он тогда воевал при поддержке союзных славян во Фракии.[1303] Некоторые ромейские города здесь (например, Истрия в Скифии) продержались даже до этого времени,[1304] и каган разрушал их. Узнав о визите Куврата, аварский вождь запросил у Ираклия мира — чего император, собственно, и ожидал. Но каган планировал иное. Когда Ираклий с щедрыми дарами вышел навстречу врагу для торжественного скрепления договора, то чуть не оказался пленником. Преследуя бежавшего императора, каган опустошил Фракию до Длинных Стен и перешел их. Угроза захвата нависла над самим Константинополем, однако штурмовать столицу Империи каган после неудачи под Фессалоникой не посмел. Разочаровавшись в попытке покончить с Империей и ее главой разом и не желая войны в далеком Поднепровье, он все же согласился заключить настоящий мир. На этот раз, естественно, обошлось без личных свиданий. Послы Ираклия уговорили кагана на формальное «раскаяние» и принятие мирных условий. Это дало возможность императору, наконец, перебросить войска из Европы на восток. Отправляясь в поход на Кавказ в 622 г., Ираклий даже вручил кагану вместе с огромным откупом еще и опекунство над своим незаконнорожденным сыном. Однако ромеи искали и других, более надежных союзников — причем среди кровных врагов авар. Прибыв на Кавказ, император первым делом отправил посольство ко двору хазарского ябгу-кагана, второго лица в тюркютской иерархии после «малого кагана» западных тюрок. К этому времени тюркюты восстановили свой каганат и уже вновь подчинили хазар, которыми управлял теперь представитель тюркской династии Ашина. Тюркюты с радостью согласились на предложение Ираклия о союзе, сулившее им богатую добычу в Закавказье и Иране. Выводом основной массы войск Империи на восток не преминули воспользоваться какие-то славяне, жившие близ македонского или греческого побережья. Вознамерившись повторить успех сородичей 614–615 гг., они атаковали с моря «Крит и другие острова». Во время опустошения Крита, среди прочих подданных Империи, погибло около 20 монахов из сирийского монастыря Кеннешрэ.[1305] Именно тогда славяне впервые вышли в воды Средиземного моря. Тогда же, следует думать, они на западе достигли Сицилии, где небольшая славянская община обосновалась на какое-то время близ Сиракуз.[1306] Нападение на южные острова — последний всплеск самостоятельной активности славян в пору великого нашествия. Подлинные интересы и масс славян, и славянской знати уже состояли не в завоевании ромейских земель. Завоевание это разрешило свою задачу — обеспечить славян местами для жительства, обогатить их, укрепить положение знати. На юге обеим сторонам теперь требовался мир. Иное дело — отношения с аварами. Интересы авар и их славянских «подданных» окончательно и бесповоротно шли врозь. Каганат, принуждавший славян к продолжению войн с ромеями, ограничивавший их свободу, а кое-где прямо выступавший врагом и угнетателем, превращался в главного противника. И недаром, весьма символично, последняя крупная акция славян на южных морях совпала по времени с развернувшимися в Поморавье событиями. С грозными для авар событиями, которые в итоге покончили с их игом над славянскими племенами. Восстание СамоК началу 620-х гг. недовольство аварским гнетом в славянских землях по Среднему Дунаю достигло предела. Авары притесняли простых славян и в мирное время, и в своих захватнических войнах. Уцелевшую часть славянскую знати — родовых старшин и жупанов — они лишили прежних привилегий и так же втягивали в свои военные предприятия. Чем дальше, тем меньше были в этих войнах заинтересованы сами славяне. В новых землях мораване, расселенные в Чехии дулебы и лучане перестали нуждаться гораздо раньше, чем южные сородичи. Старую славянскую знать авары предполагали заменить новой, произведенной на свет от насильно взятых во время зимовок славянских женщин. Из этих полукровок аварские отцы выращивали себе наместников. Они унаследовали культуру и быт кочевой знати.[1307] Но при этом их положение в иерархии каганата все равно оставалось униженным по сравнению с полноправными аварами и болгарами. Воспитанные все-таки на родине, в славянской среде, «сыновья гуннов» жили чаяниями материнской родни. Когда первое их поколение возмужало, именно они особенно остро восприняли аварское иго. И, возмущенные «злобой и притеснением», стали предводителями первых восстаний против завоевателей.[1308] Авары, занятые до 620 г. войной на юге, мало внимания уделили происходящему на северной окраине каганата. Это позволяло недовольству разрастись. Тем не менее первое время речь шла лишь об отдельных очагах сопротивления. Подобные очаги возникали вокруг славянских градов в дулебских, лучанских и мораванских землях. В 623–624 гг. некто Само, купец из Сансского округа в Северной Галлии, «увлек с собой многих купцов» из Франкского королевства и во главе этого каравана отправился в славянские земли. О прошлом этого человека ничего не известно. Судя по имени, родом он скорее не франк, а кельт — галл или галлоримлянин.[1309] Само, без сомнения, рассчитывал завязать с освобождающимися от власти авар славянами выгодные торговые сношения — повстанцы нуждались во многом из того, что мог привезти им купец. Однако события вовлекли предприимчивого галла в свой водоворот. Вскоре после его прибытия «виниды», среди которых Само поселился, выступили в поход против авар. Само, владевший, разумеется, оружием и сопровождаемый вооруженной охраной, присоединился к ним — то ли всецело по своей свободной воле, то ли выполняя долг гостя. Сражение с врагом оказалось успешным. «Огромное множество» авар погибло в бою. Само отличился в битве особенно. По словам Фредегара, «столь большая доблесть проявилась в нем против гуннов, что было удивительно». Молва о доблести франкского купца распространилась среди восставших славян. Среди многочисленных жупанов боровшихся с аварами племен, и тем более среди молодых еще полукровок, составлявших боевой костяк восставших, не могло на тот момент отыскаться общепризнанного вождя. Прославившийся герой-чужак пришелся кстати — как подходящий военный вожак и незаинтересованный арбитр, способный объединить разрозненные жупы повстанцев. Пришедший в нужное время и выказавший нежданную от купца доблесть, он мог предстать в глазах славянам посланцем богов. Препятствием к такому признанию могло стать разве что его христианское исповедание. Однако Само оказался язычником.[1310] Итак, славяне избрали Само князем («королем») и общим предводителем в войне с аварами. Само оправдывал ожидания, мужественно и умно защищая вверившиеся ему племена.[1311] В племенной союз, объединившийся вокруг фигуры удачливого галла, на первых порах вошли восставшие против авар славяне Среднего Подунавья — мораване, дулебы, зличане и их соседи. На севере королевство Само граничило с сербскими землями,[1312] а значит, включало и лучан с сопредельными им племенами. Что касается земель к востоку от Моравы, Словакии, то здесь аварское господство поколебать не удалось.[1313] Само являлся для своих славян верховным военачальником и судьей, ведал общими для всех внешними делами.[1314] На первых порах, когда Само сплотил лишенные собственных князей племена Среднего Подунавья, он являлся единственным князем всего небольшого еще союза. Но в «подвластных» ему землях сохранилось аварское территориальное деление на жупы. А следовательно — и власть жупанов, которые теперь окончательно превратились в выборных вождей малых племен. Связь Само с этими племенами осуществлялась посредством княжеских браков. Такие браки, заключавшиеся у славян в период гощения, символизировали священную власть князя над отдельными «родами», связь его с населяемой ими землей. Стоит обратить внимание на «священное» число жен Само. У короля к концу его долгого правления насчитывалось «12 жен из рода славян».[1315] Он первый известный нам славянский князь-многоженец. До того времени, скорее всего, князья были скромнее — как скромнее были по размерам и владения большинства из них. Впрочем, нам ничего неизвестно о количестве жен, например, бужанского «Маджака». Само же подражал в величии, влиянии — и в повадках — побежденному им кочевническому кагану. Любопытно, что около того же времени в славянских языках появляется слово «наложница».[1316] Опорой власти Само являлись воины-всадники полуаварского происхождения, ранее главные зачинщики восстания. Теперь эти люди переняли многие черты быта своих изгнанных аварских отцов — в том числе ритуал погребения с конем или с конской сбруей. При Само они составляли дружину — но, конечно, пользовались влиянием в родных местах и посредничали между князем и своими материнскими родами. Само — первый вождь славян, о котором у нас есть более или менее подробные сведения. Со страниц пусть единственного, но довольно броско рисующего его источника — хроники Фредегара — перед нами предстает образ яркий и неоднозначный, достоверный для той мятущейся эпохи. Само являлся авантюристом, притом храбрым — более храбрым, как ясно дает понять Фредегар, чем положено при его роде деятельности. К этому добавлялись природный ум и известная образованность. При всем том он на родине или вовсе не принял побеждающего христианства, или принял его лишь внешне. В ту смутную пору всякий купец был отчасти воином, отчасти даже разбойником. Но Само родился определенно для большего. Прибытие к славянам дало ему реализоваться так, как он того действительно заслуживал. И Само служил своему новому роду со всей искренностью, свято блюдя его интересы даже против своих вчерашних соотечественников. Жизнь и деятельность Само станут лучше понятны, если мы признаем его галлоримлянином. В условиях, когда «варвары»-франки завладели его родиной и стали над ней королями, предприимчивый Само счел себя вправе создать на удачу свое королевство среди других «варваров». И управлять им на совесть, оберегая его независимость и свою власть. Имеет смысл повторить: Само — первый вождь славян, о котором у нас есть сколько-нибудь подробная информация. И это наложило отпечаток на восприятие его личности и королевства в науке. Королевство Само нередко оценивается как «государство».[1317] Однако по сути оно не обладало еще ни единым признаком государственности. Да, «держава» Само охватывала обширные пространства. Как и дулебский племенной союз VI столетия. В этом смысле Само мало чем отличался от неизвестных нам по личным именам дулебских «Маджаков». Просуществовало, заметим, созданное Само образование меньшее время, чем их великое княжение. У Само, конечно, имелась дружина — как у любого славянского князя. Но о каких-либо признаках государственного аппарата неизвестно ровным счетом ничего. Местное управление, унаследованное от авар, быстро вернулось на привычные круги племенного устройства. Жупаны у славян VII–IX вв. отнюдь не являлись княжескими чиновниками — скорее сами полунезависимыми (а то и независимыми) князьками. В таких условиях ни о каких устоявшихся границах «страны» не было и речи. Само разве что принимал присягу от тех племенных князей, кто хотел перейти в его подданство. О каких-либо правовых мерах Само тоже ничего неизвестно. Ему вполне хватало традиционного для славян суда по обычаю. В писаном законе славяне еще не нуждались — как обходились и без письменности. Итак, по всем признакам «держава» Само оставалась союзом племен. Правда, это все-таки довольно большой союз племен, позднее включивший в свой состав и другие, меньшие союзы. В этом, более сложном, устройстве — отличие от старых дулебов, но и залог грядущего распада. Само являлся выходцем из Франкского государства и представлял себе систему управления им. Став вождем славян, он хотел видеть себя королем (rex), а свое «владение» — королевством. Так что королевством, по самоопределению, и следует называть это предгосударственное образование. Но при этом надо помнить, что на практике Само королевства вроде Франкского так и не создал. Для этого недостаточно было сил сколь угодно одаренного одиночки. Даже если ему бы пришло в голову не просто наслаждаться полученной властью и оберегать ее, а заниматься всерьез «государственным строительством». «Строительство» и правда шло — но шло снизу, из славянских племенных градов, в которых сидели зависимые от Само жупаны. И строительство это только спустя два века приведет к появлению подлинного государства, Великой Моравии. У самих франков и покоренных ими галлов, к слову, оно протекало бы не быстрее — не будь римского наследия. Королевство же Само так и останется кратким, пусть и заметным, эпизодом в ранней истории западных славян. Заслуги Само перед славянством не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. Не Само поднял восстание против авар, не он был его причиной и главным движителем. Но он оказался в нужное время в нужном месте — и сумел организовать славянские племена на общее сопротивление врагу. Идея избрания Само общим вождем принадлежала не ему — но с возложенной миссией такого вождя справлялся он сам, и весьма успешно. Тем самым он содействовал освобождению не только избравших его славян. Возникновение независимого славянского королевства на среднем Дунае нанесло мощный удар Аварскому каганату и возбудило к движению против него другие племена. Под знаком существования «державы» прошло несколько десятилетий славянской истории — так что вполне правомерно говорить даже об «эпохе Само». И все же — его королевство, сыграв свою роль, быстро сойдет с исторической сцены. Сделав все необходимое для славянской истории, Само исчезнет не только с ее страниц, но и из самой памяти большинства славянских народов. Падение аварского ига было предопределено. Ускорить же ход истории Само не мог, да и не пытался. Здание славянской государственности и славянской цивилизации продолжало поступательно возводиться руками самих славян. Битва за КонстантинопольМежду тем на востоке Империи бушевала Персидская война. Византийская армия успешно действовала против персов на Кавказе. В то же время персидские войска совершали глубокие рейды в глубь имперских земель и хозяйничали в немалой части Малой Азии. Осенью 625 г. император Ираклий вместе с союзными тюркютами вторгся в персидские владения в Закавказье. Одновременно персидский шах Хосров, решив нанести врагу смертельный удар, послал войско под командованием одного из лучших своих полководцев Шахрвараза прямиком к Халкидону — с приказом, по возможности, попытаться захватить саму столицу Империи. Ираклий, связанный кавказским театром военных действий, не мог сам оказать помощь Константинополю, а посланные им вспомогательные отряды отстали от быстро передвигавшейся армии Шахрвараза. Хосров понимал, что в одиночку воплотить дерзкий план Шахрваразу не удастся — хотя бы потому, что персы действовали с азиатского берега Босфора. Потому Хосров приказал своему полководцу привлечь к участию в осаде авар.[1318] Персидский шах не верил в искренность дружественных отношений между аварским каганом и Ираклием — и был, конечно, прав. Приблизившись к Халкидону, Шахрвараз застал на противолежащем материке ситуацию для себя весьма сложную. Между предполагаемыми союзниками по войне с Империей властвовало несогласие. Славяне повсеместно восставали против Аварского каганата. На среднем Дунае уже возникло самостоятельное славянское королевство. Восстания славян вызвали брожение или даже отпадение от каганата в среде населявших Потисье вместе с ними гепидов.[1319] Персидский военачальник проявил себя недюжинным дипломатом. В течение нескольких месяцев он совершил, казалось, невозможное — приостановил развал Аварской державы. Шахрваразу удалось убедить славянских вождей (по крайней мере, часть из них) и гепидов выступить под предводительством кагана в новой войне. Только невероятная смелость персидского замысла и фантастические перспективы в случае победы могли вдохновить придунайские племена оставить борьбу с аварским игом. Взятие Константинополя — несбыточная мечта только самых дерзких степных завоевателей — обретала благодаря появлению мощного персидского войска у Халкидона реальность. Каган недолго думал, прежде чем нарушить мир с Византией и презреть все щедроты Ираклия. Столь же недолго думали и возмутившиеся было против него подвластные славяне и германцы, прежде чем примкнуть к нему вновь. В войске кагана, конечно, имелись прямо ему подвластные паннонские, все еще признававшие его власть альпийские и потисские славяне. Но поддержали его и племена вниз по Дунаю[1320] и во Фракии, через которую лежал его путь. В конечном счете в воинство кагана вступили представители почти всех балканских славянских племен. На это указывают и огромная численность нападавших, и очевидная для всех южных славян выгода от окончательного сокрушения Империи. С другой стороны, каган едва ли выступил бы в далекий южный поход, оставив северные границы открытыми для нападений и восстаний, организуемых Само. Приходится заподозрить, что и с Само (а может, в первую очередь, с Само, как с новоявленным вдохновителем славянского движения) «привели авар в согласие» персидские послы. Если объединенные Само славяне и не поддержали прямо новое нашествие на Империю, то не мешали ему. Доля в ожидавшейся громадной добыче служила веским аргументом для самых лютых противников авар. Доказал это и заключенный при посредничестве Шахрвараза союз с болгарами. Сближение Ираклия с тюркютами не могло не беспокоить и не сердить болгарского хана Куврата. Тюркский каганат был для приазовских болгар таким же давним, угрожающим врагом, как и Аварский. Если не больше — тюркютам все-таки удалось некогда подчинить оногуров, родное племя Куврата, и отстранить от власти его род Дуло. То же обстоятельство, что Ираклий обратился к ябгу, а не к Куврату, в Персидской войне, лишало болгар всяких выгод от союза с Византией. Об искренности и глубине христианского обращения Куврата и окрещенной вместе с ним знати говорить не приходится. Так что по наущению Шахрвараза он согласился на союз с персами и аварами, суливший несомненную выгоду в случае захвата Константинополя. У себя в Великой Болгарии Куврат принял представителей кагана с аварским вооруженным отрядом, формально признавая старшинство авар. На Балканы же в помощь аварам он отправил своего сына Альцека, который стал предводителем всех болгар на аварской службе и фактически вторым лицом в Аварском каганате.[1321] Присоединение, пусть на словах, ханства Куврата вознесло каганат на вершину могущества — на миг, перед грядущей катастрофой. Поход на Константинополь, кульминация Аварских войн, замышлялся под стать поставленной цели. Огромное войско кагана двинулось в начале лета 626 г. к столице Империи через Фракию, не встречая нигде существенного сопротивления. От низовий Дуная по Черному морю шел к столице Империи большой флот из славянских ладей-однодеревок с «бесчисленными и превышающими счет» полчищами в них.[1322] Это были главные силы славян, посланные своими племенами в помощь кагану. Он, как общий воевода, вновь принял верховное предводительство над всеми союзными полками. На азиатском берегу Босфора, у Хрисополя, дожидалась подхода союзников персидская армия Шахрвараза. 29 июня 626 г. авары приблизились к Длинным стенам. Их попытались остановить на подступах, но безуспешно. 31 июня произошли первые столкновения ромейских отрядов с аварским авангардом. Наконец, 8 июля авары приблизились к городу. Сам каган пока только двигался к нему. Передовые отряды расчищали путь, а он тем временем соединился с подошедшим к Босфору славянским флотом. Ладьи вытащили на берег и дальше везли посуху, а славянские «полчища» пополнили войско авар. По пути каган жег пригороды вражеской столицы. С помощью сигнальных огней он наладил связь с Шахрваразом.[1323] 29 июля основные силы авар подступили к стенам Константинополя. Больше суток ушло на устройство осадного лагеря. 31 июля 80-тысячное разноплеменное войско двинулось на первый приступ. На двухкилометровом участке Феодосиевых стен Константинополя сосредоточились главные пешие силы осаждающих. Первый ряд составляли легковооруженные славяне, а за ними, под их прикрытием, к стенам шли воины в тяжелом вооружении — авары, болгары и гепиды. Таким образом, каган применял многократно опробованную уже тактику «бифулька». Славяне также располагались, устрашая осажденных, но не идя на приступ, вдоль всей остальной стены города, от моря до моря. Штурм стен продолжался до пяти часов пополудни. Однако это была лишь подготовка, призванная измотать осажденных. Вечером каган вывез к Феодосиевой стене по всей ее протяженности осадные машины и приготовил для нового приступа укрытия-черепахи. Однако горожане все же отбили врага. Несколько орудий кагана сгорело, еще некоторые сломались сами. Попытка же спустить на воду славянские ладьи не удалась из-за бдительности прикрывавшего город флота. После этих неудач управлявший столицей в отсутствие императора магистр Бонос предложил кагану, как обычно, взять откуп и удалиться. Но на этот раз авары пришли не ради этого. Каган прямо потребовал сдать ему Константинополь.[1324] 1 августа в устье впадающей в залив Золотой Рог реки Варбис, у перекинутого через нее моста Святого Каллиника, кагану удалось подготовить к спуску ладьи. На тамошнем мелководье ладьи свободно перемещались, тогда как военные корабли ромеев пройти не могли. Но ромейский флот выстроился в Золотом Роге, перегородив ладьям выход в море. За невозможностью прорваться славяне и не рискнули.[1325] В субботу, 2 августа в лагерь кагана вновь прибыли послы от Боноса. В посольство входил и пресвитер храма Святой Софии Феодор Синкелл, один из главных источников наших сведений об осаде. Одновременно к вождю авар прибыли с того берега и посланцы от Шахрвараза с щедрыми дарами. Каган, вдохновленный этим, вновь потребовал от ромеев капитулировать. Указывая на персидских послов, он заявил, что те пришлют ему подкрепление в три тысячи воинов, что «они заключили соглашение о том, чтобы были посланы славянские моноксилы и в них персидское войско из Халкидона пересекло море». Каган нисколько не заботился о тайне и безопасности предприятия — как и о самом персидском подкреплении, в коем мало нуждался. Ему важно было лишь устрашить ромеев, и этого он вполне достиг.[1326] Впрочем, к переправе он готовился всерьез. В ночь со 2 на 3 августа славянские ладьи перевезли с Варбиса в Халы, на самом берегу Босфора. Там их спустили на воду. Поутру туда прибыл сам каган, рассчитывая встретить персидское пополнение. Ромеи, однако, действительно напуганные такой перспективой, спешно приняли свои меры. Персидских послов удалось при возвращении из каганской ставки перехватить и убить. Вечером 3 августа, когда каган как раз закончил приготовления в Халах и место переправы стало известно в Константинополе, наперерез однодеревкам вышло около 70 ромейских кораблей. Вопреки встречному ветру, они достигли цели. Все умение славянских мореходов оказалось тщетным. В тот день переправа так и не состоялась.[1327] С рассветом 4 августа славяне попытались, наконец, вырваться в открытое море. Однако дозорные корабли оказались бдительны. Ромеи атаковали хрупкие славянские челны. Многие славяне потонули или были убиты ромейскими моряками. Каган вынужден был отказаться от идеи перевозки персов.[1328] Теперь, полагаясь лишь на собственные силы, он готовился к решающему штурму. Вновь строились и ремонтировались осадные машины. Ладьи опять расположили на Варбисе. Каган задумал прикрыть приступ с суши морским сражением. По его замыслу, когда авары взойдут на стены, то на укреплении Птерон, прикрывавшем северо-западный район столицы, Влахерны со знаменитым храмом Богородицы, разожгут сигнальный огонь. Увидев его, славяне всей массой, с громким боевым кличем, должны двинуться на свет сигнала к городу. Появление огромной флотилии, по мысли авар, должно довершить панику горожан и позволить штурмующим ворваться со стен в город. Понесших потери славян на челнах каган укрепил «другими свирепыми племенами», «разноплеменными народами» — в первую очередь, «огромным множеством» тяжеловооруженных болгар.[1329] Утром 7 августа, с громогласных боевых кличей, начался штурм. Однако с самого начала планы кагана пошли прахом. Многие из подготовленных осадных машин сломались или были сожжены на самых подступах к стене. Воины кагана гибли и в них, и на самих стенах. У их подножий к концу боя лежали груды трупов. «Столько повсюду погибло неприятелей, — говорит о сражении на суше Феодор Синкелл, — что варвары не смогли даже собрать и предать огню павших».[1330] Бонос прознал через предателей или лазутчиков обо всем плане кагана устрашить осажденных нападением с моря. Чтобы покончить с этой угрозой, он задумал предупредить врага. По приказу магистра большие боевые суда — диеры (с двумя рядами весел) и триеры (с тремя) скрытно подошли к Птерону. Другая группа диер встала на северном берегу Золотого Рога, чтобы ударить по славянам с тыла. Затем, когда стало ясно, что аварская атака с суши захлебывается, Бонос приказал отряду армян, защищавшему Птерон, зажечь сигнальный огонь вне стен, на портике храма Св. Николая. Там они должны были остаться на случай высадки неприятеля.[1331] Увидев сигнал, славяне немедленно вышли в залив и устремились к Влахернам. Готовясь к нападению, «варвары» связали по нескольку челнов между собой, что добавило им устойчивости. Использовали они и плоты. Слаженный выход славянского флота в Золотой Рог в первый момент действительно потряс ромеев, хоть те и были к нему готовы. Теперь в бой шли действительно все пришедшие с Дуная ладьи. Боевой клич славян глушил корабельщиков. Казалось, что заполненный связанными ладьями и плотами, битком набитый людской массой залив стал сушей. Расчеты Боноса едва не провалились. «Первый же натиск» славян заставил строй ромейских кораблей дрогнуть. Моряки готовы были «поворотить корму и открыть врагам легкий доступ». Славянские ладьи прорвались к берегу против храма Богородицы, тогда не прикрытого стеной. В этот момент море внезапно взволновалось — не во вред тяжелым ромейским судам, но достаточно для не слишком прочных славянских конструкций. Ладьи стали переворачиваться, воины в них — тонуть. Увидев это, ромеи собрались с духом, окружили врага и атаковали. «Думаю, что одна лишь Родившая без зачатия,// — повествует Георгий Писида, — натягивала луки и ударяла в щиты// и, незримо вступив в бой,// стреляла, ранила, раздавала ответные удары мечом,// опрокидывала и топила челны,// делая прибежищем для всех морскую пучину». Славян и их союзников охватила паника. Многие бросались в воду в надежде спастись вплавь. Были такие, что пытались в воде притвориться умершими, но захлебывались и тонули. Иные прятались от ромейских мечей и стрел за килями как будто пустых ладей — и шли на дно или разбивались вместе с ними. Среди погибших ромеи позднее обнаружили и тела славянских женщин-воительниц. Кое-кому из славян удалось достичь берега у храма Святого Николая. Они все еще не могли понять замысла Боноса и надеялись, что сигнальный огонь зажгли побеждающие авары. Однако встретили они не союзников, а врагов — заготовленный Боносом как раз на этот случай отряд армян. Всех выбравшихся в этом месте перебили. Другим — пока — повезло больше. Они добрались до северного берега Золотого Рога и, никем не преследуемые, бежали в горы. Некоторые из спасавшихся вплавь обессилели и попали в плен. Так закончилось морское сражение в Золотом Роге под стенами Константинополя. По словам Феодора Синкелла, «весь этот залив заполнился мертвыми телами и пустыми моноксилами, которые носились по воле волн, плавали бесцельно, если не сказать бессмысленно… весь залив сделался сушей от мертвых тел и пустых моноксил, и по нему текла кровь».[1332] Победив, ромеи начали извлекать из вод залива тела убитых и вражеские ладьи, чтобы сжечь их. Всего на эту работу ушло несколько дней. Но уже первым извлеченным врагам отрубили головы и насадили их на колья — ради воодушевления все еще сражавшихся на стенах воинов и устрашения противника. В битве на суше ромеи уже одолевали. Узнав же о победе на море, защитники пошли на вылазку — и заставили кагана отвести войска от стен. Каган тоже получил известие о гибели славянского флота. Поняв, что замысел захвата ромейской столицы проваливается, он вернулся в лагерь и велел увезти от стен уцелевшие машины. Его воины принялись разбирать осадные башни и заграждения. За этим делом аварского вождя застали «немногие» спасшиеся от гибели на море славяне. Ярость кагана немедленно нашла выход. Он приказал своим воинам перебить потерпевших поражение моряков, не задумываясь о последствиях. Это сразу вызвало возмущение среди славян, сражавшихся на суше и остававшихся в лагере. Сил для битвы с каганом на месте у них уже не осталось, да она и неразумна бы была в виду вражеских стен. Но «сняться и уйти», бросив вероломных союзников, — это они могли. Это и сделали. Уход славян окончательно подкосил силы кагана. В ночь на 8 августа он поджег свой лагерь и не до конца разобранные осадные башни, «содрал шкуры с “черепах” и ушел». На следующий день авары, выжегши столичные предместья, удалились за Длинные стены. «С великим стыдом», — отмечается в «Хронографии» Феофана. Продолжавшаяся десять дней осада Константинополя закончилась для кагана ничем. Еще оставался на азиатском берегу Босфора Шахрвараз — но с мечтой о погибельном ударе по Византии ему пришлось распрощаться.[1333] Возвращавшихся из-под Константинополя славян все еще преследовали несчастья. На беду себе, жители Подунавья решили возвращаться так же, как пришли — по морю. Благо, у них еще осталось какое-то количество переживших морское сражение челнов. Однако в Черном море на славянские суда обрушилась буря. Остатки флотилии погибли. Лишь немногие спаслись и вернулись в родные места.[1334] Битва за столицу Империи завершилась. Яркий символизм этого события вполне соответствует его подлинному значению. Византия выстояла у самых стен Второго Рима. Отступление ромеев еще не вполне завершилось — из аравийских пустынь поднималась новая угроза. Но под валом Великого Переселения народов Восточная Империя не сгинула. Кончились многолетние Аварские войны, кончилось и лишившее Империю на время Балканского полуострова славянское нашествие. Последняя волна разбилась о стены города святого Константина. Битва в то же время надорвала силы всех причастных к ней врагов Византии — будь то авары, персы или славяне. Державе Сасанидов вскоре придет конец. Первый Аварский каганат тоже отсчитывал последние десятилетия своей истории. Бросок к столице Империи стал для обеих враждебных ей держав последним значимым историческим действием. Славяне же, изнуренные десятилетиями непрерывных завоевательных войн, решительно обратились к обустройству и защите приобретенного. Здесь ослабленная Империя могла скорее оказаться союзником, а порабощавший славян каганат становился очевидным и бесспорным врагом. На смену минувшему веку нашествий на юг шла иная эпоха. Глава вторая. Эпоха СамоКрах аварского владычестваПосле осады Константинополя о союзе славян с аварами и тем более о покорности завоевателям не шло уже и речи. Повсеместно вспыхивали восстания против власти кагана. Главные события развернулись на севере, где войну возобновило королевство Само. У славян под его предводительством произошли «многие битвы» с кочевниками. «Совет и доблесть» талантливого вождя неизменно приносили его подданным победу.[1335] В результате этих побед и новых славянских восстаний границы королевства Само уже к началу 630-х гг. далеко раздвинулись на юг. Само подчинились славяне Норика, в том числе обитатели будущей Нижней Австрии на Дунае. В Восточных Альпах, на землях нынешних Словении и Каринтии, возникла подчиненная Само «марка» — особый племенной союз во главе с собственным вождем, носившим титул «владыка». Это полунезависимое владение, возникшее в борьбе с аварами, стало прямым предшественником будущего Хорутанского княжества.[1336] Освобождение славян Норика от аварского владычества ускорилось вторжением с севера хорватов. Они оставили здесь след в местных названиях.[1337] Хорваты, используя восстание Само, стремились и найти новые места для поселения (в первую очередь), и нанести удар своим главным врагам. Истощенный войной с Византией каганат не имел сил для действенного сопротивления. Повсюду под ногами авар горела земля. Тем более рушилось аварское господство в отдаленных северных и восточных областях, где авар было меньше, а самостоятельность славян — больше. Из бужанских земель авары просто бежали — или постепенно вымерли во враждебном окружении, без связи с разваливающимся каганатом и без всяких подкреплений. По крайней мере, позднейшее волынское предание всецело приписывало их гибель вышнему суду: «Бог истребил их, и не осталось ни одного обрина». На Руси до XII в. дожила поговорка: «Погибли, как обры», то есть без потомства.[1338] У северных ляшских племен между Вислой и Одером не было особых причин выступать против каганата. Но слабый союзник — союзник бесполезный. К тому же общение с каганатом вполне могло теперь навлечь на ляхов месть со стороны его усилившихся врагов — велетов, хорватов, сербов или самого Само. Лендзянские племена также отложились от каганата в конце 620-х — 630-х гг., не без внутренних несогласий. Около этого времени или немногим позже погиб центр аварского присутствия в ляшских землях — просуществовавший лишь несколько десятилетий град Шелиги.[1339] Созданный под патронатом авар вокруг него племенной союз распался. Аварские выселки в Мазурах оказались в изоляции и потеряли связь с каганатом. Распад «ляшского» племенного объединения вызвал межплеменные войны. Вместо погибших Шелиг строятся десятки местных племенных градков. Такие небольшие укрепления — резиденции племенных князьков и убежища для народа — возникают во всех областях Польши. В полянской Великой Польше это были Грондзке, Глисно, Смольно, Уйсьне, а также заново укрепленный Бискупин. Преимущественно они сосредоточены в западных, примыкающих к Силезии областях южной Любутчины. Возникли в это же время и будущие великопольские столицы — Гнезно на горе Леха и Крушвица — правда, пока как неукрепленные поселения. На самой границе с Поморьем и малонаселенной Мазовией, у изгиба Вислы на ее Левобережье, строятся Едвабно и Замчыско. Первые грады возникают и в землях вверх по реке вплоть до вислянского юга — Страдув, Ходлики, Щеворыж, Ленчица, Серадзь. В Ленчице, например, существовавшее уже издавна селение обнесли вместо прежнего плетня палисадом. Грады располагались, как правило, у рек и озер, на возвышенных местах.[1340] За разворачивающимися событиями пристально следили соседи катящейся в пропасть кочевнической державы. Подданные Само, хорваты и сербы в своей борьбе с каганатом опирались на союз с франками.[1341] При дворе короля Дагоберта, правившего владениями франков на северо-востоке, в Австразии, а в 629 г. занявшего престол в Париже, война между аварами и славянами вызывала живой интерес. Герцоги приграничных германских племен рассчитывали, что она позволит им в союзе с франками существенно расширить свои владения на восток, покорить земли «вплоть до Империи».[1342] На тот момент, однако, Дагоберт предпочел воздержаться от открытого вступления в военные действия. С аварами справлялись славяне, а воевать с самими славянами пока не имелось причин. Зато западное духовенство в лице одного из ярких своих представителей действительно попыталось воспользоваться новой обстановкой для христианского просвещения славян. В 629 г. близкий тогда ко двору Дагоберта и поддерживаемый им в миссионерских трудах безместный епископ Аманд отправился из Фландрии к альпийским славянам. Для проповеди здесь имелась наиболее благодатная почва. Аманд надеялся либо обратить какую-то часть жителей здешних мест в христианство, либо «достичь пальмы мученичества». Аманда встретили достаточно благожелательно. Он какое-то время безопасно странствовал по освободившимся от авар задунайским землям и «во всеуслышание проповедовал язычникам Евангелие Христово». Христианство теперь не воспринималась местными жителями как религия врага. «Немногие» даже крестились — но Аманд понял, что «плод для него еще совсем не созрел». С тем он возвратился во Фландрию, где его проповедь была гораздо более успешной.[1343] За разгоравшейся славяно-аварской войной, перекинувшейся после 626 г. на юг от Дуная, наблюдали и в Константинополе, не без откровенного злорадства. Георгий Писида в 629 г. удовлетворенно восклицал: «Парфяне сжигают персов, скиф же// убивает славянина, а тот убивает его.// Они залиты кровью от взаимных убийств,// и их великое возмущение выливается в битву».[1344] Этот панегирик слагался после возвращения Ираклия с Персидской войны, и приведенный пассаж начинается как раз с упоминания ее исхода. Разбив Хосрова в генеральном сражении, император затем пустил в ход испытанное оружие византийской дипломатии — интриги. Ему удалось настроить против Хосрова его собственных полководцев и придворных. В итоге на шаха поднялся собственный сын. В Персии началась междоусобица, стоившая Хосрову жизни. Последующие распри почти полностью развалили управление некогда могущественной державой. На время император мог быть спокоен за восточные рубежи. Теперь требовалось по возможности восстановить рубежи западные, и аваро-славянская война открывала здесь широкое поле возможностей. Ираклий решил призвать себе на помощь славян антского происхождения из Центральной Европы — кровных врагов авар и союзников христианского Франкского королевства. Нельзя полностью исключить, что с потомками антов он и сам пытался когда-то наладить связи. Однако хорваты («один из родов») самостоятельно вторглись в Далмацию во время войны с аварами. Так говорит об этом более раннее предание. Вторжение произошло из Норика, где хорваты не смогли найти себе места ввиду плотного славянского заселения. Ираклий лишь воспользовался ситуацией и официально обратился к хорватам за помощью в борьбе против авар, послав новым пришельцам свое «веление». Хорваты обрушились на захвативших Далмацию кочевников. Что касается обитавших в провинции славян лендзянского корня, то они или сразу примкнули к хорватам или, во всяком случае, не слишком противились их вторжению. «Несколько лет они воевали друг с другом, — согласно хорватскому преданию Х в., — и одолели хорваты; одних авар они убили, прочих принудили подчиниться». После победы, «по воле василевса Ираклия» — то есть с его формального согласия, — хорваты осели в Далмации.[1345] Хорватский «род», переселившийся в Далмацию, со временем разделился на семь «родов», выводивших себя от вождей переселения. По преданию, переселенцев возглавили братья Клука, Ловел, Косендцис, Мухло и Хорват и сестры их Туга и Вуга.[1346] Изначальное деление далматинских хорватов и слившихся с ними лендзян на семь родов помнилось до XIII в.[1347] Роды, возводившиеся к сестрам, на деле включали, следует полагать, принятых в хорватский союз лендзян. Восьмым родом числились покорившиеся хорватам и примкнувшие к их племенному союзу остатки авар. Они стремительно славянизировались,[1348] но сохранили самоназвание и историческую память.[1349] Деление на семь родов, однако, не определяло территориальное устройство возникшего на Балканах хорватского княжества. Хорваты унаследовали от Аварского каганата деление на округа-жупы. Хорватия в Х в. подразделялась на 14 жуп во главе с жупанами.[1350] Однако, поскольку деление на жупы не совпадало с родовым, на первых порах единство страны было прочнее, чем, допустим, в королевстве Само. Родовые связи сплетали автономные жупы между собой в единую сложную систему. Некоторую обособленность сохраняли лишь влившиеся в союз авары. Они населяли три отдельных жупы. Над их жупанами стоял общий вождь с древним аварским титулом баян (бан) — второе лицо в Хорватском княжестве после князя.[1351] Общий князь у хорватов имелся изначально — в этом сходятся и более древнее, и более позднее, подчеркивающее наследственную княжескую власть средневековое предание. Власть князя, которому подчинялись бан и жупаны, передавалась по наследству.[1352] С другой стороны, конкретное лицо из числа наследников выбирали князем жупаны.[1353] Обосновавшись в Далмации, хорваты, разумеется, присвоили ее себе, а не восстановили над ней имперскую власть. Тем не менее они пребывали в союзе с Константинополем, и Ираклий какое-то время мог не беспокоиться о происходящем в этой области. Помимо того, переселившиеся на юг хорваты сохранили союзные связи и со своими северными родичами, а также с франками. Франкам они, как и Ираклию, формально — теперь уже чисто формально — «подчинялись».[1354] Разгром авар в Далмации привел к их бегству и из других областей ниже по Дунаю.[1355] Местные славяне — пока не очень многочисленные — освободились от аварского владычества. Ираклий воспользовался обстановкой. Византийский наместник вновь появился на самой границе каганата, в давно разоренном аварами Сингидуне. Местные славяне называли этот город Белградом. Отстроенный, он стал важным центром общения ромеев и славян.[1356] В то же время район Сирмия так и остался — еще на десятилетия — под контролем авар. Здесь они расселили так называемых сирмисиан — пленников, уведенных в первые десятилетия VII в. из ромейских провинций.[1357] Чтобы прикрыть здешнюю границу должным образом, у Ираклия сил все-таки не хватало. Поэтому он ухватился за возможность использовать сербов, двинувшихся на юг по следам хорватов. Вести о возможности осесть на разоренных Балканах вновь, как и в конце VI в., привлекали северных славян. Вместе с хорватами или сербами пришли на юг, например, и силезские лупоглавы, и какая-то группа лучан.[1358] Сербское переселенческое предание дошло только в законченно «княжеской» версии, но в двух вариантах. Первый, Х в., сообщает Константин. Второй, довольно похожий, передает «Летопись попа Дуклянина». Дуклянин, впрочем, добавляет сюда в качестве персонажа готского короля Тотилу и довольно умело вплетает хорватское сказание о битве при Темплане. Тем самым он сливает предание о приходе сербов с воспоминаниями об аваро-славянском нашествии начала VII в.[1359] Общий момент обеих версий — исход с севера. После смерти сербского князя (у Дуклянина «король Сенубальд» — Всеволод?) у него осталось двое сыновей.[1360] Они разделили народ поровну. Старший (Брус у Дуклянина) остался править княжеством отца. Младший (у Константина — «архонт Серб», у Дуклянина — Остроил) отправился искать новые земли. Дальше версии расходятся диаметрально. Более поздняя, соединяя разнородные предания, рисует нашествие и войну с ромеями, решившуюся битвой при Темплане. Более ранней следует и более доверять. Согласно ей, князь переселенцев «попросил убежища у Ираклия». Ираклий сначала пожелал с помощью сербов укрепить оборону Македонии и предоставил им земли в окрестностях Фессалоники. С сербами предание связывало название города Сервии к юго-западу от Фессалоники.[1361] Однако в Македонии сербы не задержались — надо думать, столкнувшись с враждебностью уже расселившихся здесь дреговичей. Отдельные группы сербов, впрочем, остались, и отсюда (судя по местным названиям) проникали дальше на юг.[1362] Большинство же с разрешения Ираклия отправилось в «свои места». Однако при переправе близ Сингидуна сербов охватило «раскаяние» — явно вызванное нежеланием пробиваться вместе с семьями через занятые еще аварами земли. В пределы Империи они пришли через территорию союзных хорватов. Дальнейшие передвижения происходили при содействии имперских чиновников. Обратный путь Ираклий мог определить с умыслом. Через наместника Сингидуна сербы вновь обратились к Ираклию с просьбой предоставить другую землю. Ираклий, понимая и неизбежность ввиду своей слабости, и возможные выгоды такого решения, предоставил им разоренные аварами «безлюдные» пространства диоцеза Дакия — от Дуная до самой Адриатики. Эти земли сербы могли спокойно заселять в течение нескольких десятилетий, не вступая в конфликты с Империей. К тому же не были они и столь уж безлюдными. Здесь жили и славяне (как минимум, мораване к востоку от Сингидуна, лендзяне в Далмации к югу от Салоны, какие-то племена в Превалитании), и остатки романцев. Объединение их под своей властью потребовало от сербских князей еще сколько-то времени и сил, не мешая в то же время прикрывать рубежи Империи и сам Сингидун от авар. Итак, сербы расселились на огромном пространстве от придунайских земель вокруг Сингидуна[1363] до Адриатического побережья бывших провинций Превалитания и Новый Эпир. Устройство сербского племенного союза было более четким, чем у хорватов. Отдельные «роды»-племена образовали собственные жупы во главе с жупанами, подчинявшимися сербскому князю. Тем не менее в этой четкости присутствовал и очевидный залог хрупкости — власть жупанов в пределах жупы не ограничивалась ничем, и автономия жуп оказалась гораздо больше, чем в Хорватии. Особенно это касалось отделенных горами областей Приморья. Там возникли племенные жупы требинцев, конавличей (обе между Котором и Рагузой), захлумов (захумцев, от Рагузы до реки Неретвы), неретвлян (в Х в. три жупы между реками Неретвой и Цетиной). Они фактически были самостоятельны, хотя и входили в VII–VIII вв. в сербский племенной союз.[1364] Особое место среди возникших на побережье Адриатики славянских племенных областей занимала Дукля. Племя дуклян, возглавлявшееся собственным князем, занимало в Х в. побережье от Элисса (ныне Лежа), минуя Элкиний (Улцинь) и Бар, до Котора, к юго-западу от требинцев и конавличей. С северо-востока Дуклю, как и приморские жупы, отделяли от сербского Загорья (Рашки) горные хребты.[1365] На юге соседями дуклян являлись берзичи в долине Дрина и эпирские славяне, населявшие окрестности Диррахия. В пограничной зоне обитали смешанные славяно-иллирийские общины, часть которых признала власть дуклянских князей. О происхождении дуклян Константин Багрянородный, излагающий славянские предания Х в., говорит нечетко. «Порабощенная также аварами, — пишет он об окрестностях Диоклеи, — и эта страна запустела и была вновь заселена при василевсе Ираклии, как и Хорватия, Сербия, страна захлумов, Тервуния и страна Канали».[1366] О сербских корнях дуклян или связи их с «архонтом Сербом» здесь — ни слова. Племя дуклян возникло в результате смешения продвинувшихся на юг сербов с местными славянами. Любопытно, что в XII в. сербское Приморье, Дуклю и земли на юг до Диррахия именовали еще Червонной Хорватией (в отличие от собственно Хорватии — Белой).[1367] Название «Червонная» может восходить к древнему племени червян — легендарным предкам лендзян. Именно эти славяне ранее овладели Скодрой и Диоклеей и разорили их. Теперь же, после хорватского вторжения, они освободились от аварской зависимости. Под влиянием сербов дукляне заключили пакт с Ираклием, но в сербский племенной союз не вошли. В дальнейшем Дукля, при тесных связях с сербскими племенами, сохраняла полную независимость. В смысле этноса и языка дукляне были — или стали со временем — сербами.[1368] Различия в языке, духовной и материальной культуре незначительны во всем сербохорватском ареале. Правда, о единой средневековой народности на всем этом пространстве говорить до рубежа X/XI вв. трудно. Диалектная карта сербохорватского языка мало поможет в определении племенных границ. Четыре диалекта — кайкавский во внутренних районах Хорватии, чакавский на ее побережье, штокавский по всем сербским и частично хорватским землям, включая Боснию и Черногорию, торлакский на границе с Македонией — сложились рано. Но нынешнее их распределение связано с историческими событиями уже позднего средневековья.[1369] Можно с достаточной определенностью, во всяком случае, связывать штокавский диалект с древними сербами, а чакавский и кайкавский — с хорватами. Кайкавский и в меньшей степени чакавский диалект до XI в. составляли единство не столько со штокавским, сколько с хорутанским в Словении — т. н. «альпийско-славянская» группа.[1370] Альпийские славяне вплоть до IX в., а отчасти и позднее, оставались обособленными от других южных славян, в чем-то более относились к западнославянскому миру. Можно угадывать, что кайкавский и хорутанский восходят к межплеменному языку-койне южных рубежей Аварского каганата. Чакавский же (позже основа хорватской глаголической литературы) — к диалекту самих хорватов. Он, конечно, не остался с VII в. чужд воздействия этого койне. Сербы же, поглотившие местные племена, в ту пору не имели существенных диалектных отличий. Их диалект (предок штокавского) распространился по всем сербским землям — и в Рашке, и в Приморье, и в Дукле, и в Боснии. Слияние сербов с местными славянами, пришедшими через Далмацию и враждебными Византии, нашло отражение в дуклянском предании. Автор «Книги Готской», которая легла в основу «Летописи попа Дуклянина», с легкостью соединил сербское и хорватское предания в своем сказании об Остроиле. В результате нарисовалась картина единого «Королевства славян», будто бы существовавшего с незапамятных времен. Сам Остроил, чья гибель помещается «Летописью» на землях Превалитании — герой дуклянского эпоса. Это легендарный родоначальник местного княжеского рода. Имя князя-устроителя, в связи с отразившимся и у Константина обычаем не произносить имена первопредков, произведено от глагола «устроить». Но будучи местным героем Дукли, Остроил вобрал в себя черты и Константинова «архонта Серба» (зачин рассказа о нем), и завоевывавших Далмацию аваро-славянских вождей (битва при Темплане). Дукля стала союзником Империи, ромеев-христиан, тогда как Остроил — главная тема сказания о нем — их противник. Но это не должно смущать. Во-первых, преданность и славянских князей, и ромеев такому союзу являлась весьма условной. Во-вторых же, союз с Константинополем в Адриатическом Приморье вовсе не означал союза с местными романцами. Некоторые из них после изгнания авар стали налаживать совместную жизнь со славянами. Но большинство оставалось враждебно, видя в хорватах, сербах и дуклянах таких же врагов, как в аварах и лендзянах. Тем более что авары и лендзяне влились в новые племенные общности. Беженцы из Салоны продолжали свои разорительные набеги на славян с островов, не давая им закрепиться на побережье. Точно так же, конечно, вели себя и в Превалитании беженцы из Диоклеи, обосновавшиеся в Баре. Они вовсе не собирались признавать за дуклянами право на свои земли, на самое свое имя. В эпосе средневековых дуклян эти стычки, естественно, воспевались и преувеличивались, превращаясь в основное содержание древней истории. Ведь и позднее отношения между славянами и далматинцами не раз осложнялись. Отчасти подобную дуклянам самостоятельность сохраняли вплоть до IX в. и придунайские мораване. Смешение их с сербами, как мы видим на примере с Дуклей, этому не препятствовало. Но мораване жили почти под стенами связанного с сербами Сингидуна и потому все же вошли в сербский племенной союз, — как особое княжение. Вообще же северные земли какое-то время оставались для Сербии периферией. Основной территорией Загорья являлась собственно Рашка — сербский юг, в районе Косова Поля граничивший с берзичами. Материальная культура славян Адриатики после изгнания авар не претерпела серьезных изменений. Основные археологические памятники хорватов — их могильники, использовавшиеся с первых десятилетий VII в. на протяжении нескольких веков. К концу VII в. в населенных ими областях окончательно утвердился ритуал трупоположения. Вместе с хорватами на одних поселениях жили и пользовались их некрополями и местные далматинцы, и смешавшиеся со славянами авары.[1371] Характерной чертой культуры сербов явилось распространение т. н. громил — невысоких курганного типа насыпей из земли и камней. В громилах находят кости животных, керамику, реже иные предметы, а иногда, крайне редко, — человеческие останки. [1372] Описание находок говорит скорее не о погребальных памятниках, а о каком-то специфическом ритуале языческих жертвоприношений. Хоронили же сербские племена умерших в VII в. еще не только через трупоположения. Вероятна связь с сербами славянских урновых кремаций Подунавья.[1373] Единая сербская культура только начинала складываться из «мартыновских» и «пражских» элементов, в смешении с местными славянами. Переселение хорватов и сербов на Балканы имело огромное историческое значение — и на тот момент, и в перспективе. Разгром авар и освобождение от них земель Иллирика нанесли каганату мощный удар, от которого он уже не смог оправиться. Авары навсегда перестали представлять сколько-нибудь серьезную угрозу и для южных славян, и для Византии. На более или менее подвластных им ранее южнославянских землях возникли новые славянские союзы племен. Так появились на политической карте самые первые из будущих славянских государств средневековья — Хорватия и Сербия. Их жизнь на этой территории уже не прерывалась. События VII в. с полным правом могут считаться началом истории сербохорватской государственности. В этом смысле они гораздо значимее, чем кратковременное существование в центре Европы королевства Само. По большому счету возникновение Сербии и Хорватии явилось главным, наиболее прочным историческим итогом борьбы славян против аварского ига. Наряду, разумеется, с самим крахом Первого Аварского каганата. Крах этот последовал не в долгом времени. В 631 г. умер аварский каган. Законных и бесспорных наследников он не оставил. Притязания на престол выдвинули некий аварин и болгарин Альцек. Между аварами и болгарами в Паннонии разразилась кровавая междоусобица. В конечном счете после упорной борьбы, в которой участвовало «множество людей» с обеих сторон, аварам удалось все-таки одержать победу и посадить на каганский престол своего претендента. Разгромленный Альцек увел болгар — девять тысяч воинов с женами и детьми — прочь из пределов каганата.[1374] Дальнейший путь привел его в славянские земли, о чем еще пойдет речь. Весть о гражданской войне в каганате и бегстве оттуда Альцека в свой черед дошла до восточноевропейских степей. Примерно в 634 г. хан Куврат отложился от авар. Союз с каганатом не принес ему никаких ожидаемых выгод. Империя, напротив, продемонстрировала крайнюю живучесть. Тюркский каганат раздирали собственные, роковые усобицы между претендентами на власть. Союз Византии с тюрками и хазарами, неприятный болгарам, распался. Так что возобновлению связей с Константинополем препятствий не было. Пришло время вспомнить и о своем крещении, и о дружбе с Ираклием. Куврат «восстал против хагана аваров и, подвергнув оскорблениям, изгнал из своих земель бывший при нем от хагана народ. А к Ираклию посылает посольство и заключает с ним мир, который они хранили до конца своей жизни. [Ираклий] послал ему дары и удостоил его сана патрикия».[1375] Усобица и вызванное ею отпадение Куврата нанесли прежнему могуществу авар последний удар. Ни о каком продолжении завоевательной политики речи идти не могло. Авары еле удержали власть над самой Паннонией. Здесь Первый Аварский каганат существовал еще несколько десятилетий — до обновления в существенно более скромном виде. Влияние в Восточной Европе ушло вместе с болгарами Куврата. Не вызывает сомнений, что зависимые от авар антские племена если не отложились раньше, то теперь последовали за болгарами. Рухнуло владычество авар на Балканах, в Восточных Альпах, Поморавье, в лендзянских и дулебских землях — всего за нескольких лет. Могучая кочевая держава исчезла с политической карты, как и возникла на ней — почти во мгновение ока. Имевшие грандиозные последствия войны с Империей не оставили каганату сил. Как будто предназначение прежней Аварии состояло в том, чтоб проложить для славян путь на Балканы, навстречу византийскому влиянию, а затем сгинуть. Впрочем, собственно Авария еще оставалась. Под властью каганов находились Паннония и Потисье, в их руках остались окрестности Сирмия, населенные сирмисианами. На востоке сохранился опорный пункт в дельте Дуная — на так называемом острове Певка. Пока это было так, авары могли держать в напряжении если не Империю или победоносное королевство Само, то отдельные южнославянские племена. Не прекратившиеся, однако, с уходом Альцека межплеменные распри не позволяли аварам играть сколько-нибудь существенную роль хотя бы на местном уровне. Но победителям рано было успокаиваться. С крушением аварского владычества борьба западных славян за свою независимость не закончилась. На повестку дня вставала новая угроза. Границы Франкского государства, несколько десятилетий раздвигавшиеся на восток, давно уже остановились у двигавшихся навстречу славянских пределов. Пока отношения между врагами авар оставались дружественными. Но после начала гражданской войны в каганате они продержались — самое большее — считанные месяцы. Война между Само и Дагобертом вспыхнула в тот же год. Война с франкамиЗападная граница королевства Само начиналась где-то в районе Рудных гор, к северу от Огрже, где встречались земли его северных соседей, белых сербов, и зависимого от франков Тюрингского герцогства. Дальше на юг земли, населенные славянами, охватывали всю долину Огрже и глубоко заходили на верхний Майн. Трудно с уверенностью сказать, подчинялись ли все славяне по Майну Само. Если в его владения действительно входил район Кнетцгау, то его королевство довольно глубоко врезалось между Тюрингией и Алеманией (Швабией). Дальше на юг соседями Само являлись алеманы и бавары. Неясно, проходил ли здесь рубеж по большому Богемскому лесу, как в позднейшие времена Чехии, или западнее. Но в любом случае, здесь граница резко забирала к востоку, обходя Баварию. Между Баварией и аварской Паннонией довольно узкая полоса земли в нынешней Нижней Австрии, по обе стороны Дуная, связывала северные владения Само с «маркой винидов» в Альпах. Местному владыке подчинялись большинство предков словенцев — кроме обитателей платившей дань фриульским герцогам Зильи. Истрия принадлежала, скорее, хорватам, и на подступах к ней земли Само заканчивались. Вдоль всей приграничной полосы уже несколько десятков лет шло оживленное общение славян и германцев. В целом оно носило дружественный характер. Народы торговали, смешивались между собой. Случались, однако, и конфликты. В пору аварских нашествий и последовавших славянских восстаний на восточных рубежах германских королевств стало тревожнее. Впрочем, вину славян здесь едва ли можно усмотреть. С приходом к власти Само проблемы разом не исчезли — хотя в Париже на это надеялись. Само в свое время лично прокладывал торговый путь в глубь земель «винидов». Но и при нем в приграничье на фоне мирной торговли и союзных отношений, тем не менее, периодически возникали какие-то «раздоры». Нередко (если не в большинстве случаев) виноваты бывали франки — и вину эту сознавали.[1376] Едва ли торговля между сторонами всегда велась честно, да и пограничные споры могли случаться, особенно теперь, по достижении славянами независимости. В 631/2 г. один из конфликтов завершился трагически. Славяне перебили «большое множество» франкских купцов и «разграбили добро». О причинах франкский хронист предпочитает умолчать, но, судя по дальнейшему, погибшие сами были не совсем без греха. Дагоберт отправил к Само послом некоего Сихария, дабы тот потребовал «справедливого возмещения» за жизнь и имущество купцов. Само, однако, отказался принять посла Дагоберта — у него были собственные причины для обид на прежних соотечественников. Сихарий переоделся в славянина и со своими сопровождающими проник-таки пред лицо славянского короля. Здесь он изложил ему требования Дагоберта. Само в ответ предложил «устроить разбирательство, дабы в отношении этих и других раздоров, возникших между сторонами, была осуществлена взаимная справедливость». Это франкского посла совершенно не устроило. Заметим, что и Фредегар, осуждающий дальнейшее поведение Сихария, приписывает логичное предложение Само «язычеству и гордыне порочных». По мнению хрониста (и франков), Само должен был просто заплатить то, чего от него требовали. Разозленный же Сихарий просто вышел из себя и обрушился на Само с упреками. В довершение «неразумный посол» стал грозить и утверждать, что «Само и народ его королевства должны-де служить Дагоберту». Фредегар особо подчеркивает, что ничего такого Сихарию «не было поручено говорить». Но, несомненно, подобные речи не раз звучали и при австразийском, и затем при парижском дворе франкского короля. Само, встретив вслед за неуемной навязчивостью еще и откровенную наглость, начал закипать. С отчетливой угрозой, но внешне более чем учтиво, он произнес: «И земля, которой мы владеем, Дагобертова, и сами мы его, — если только он решит сохранять с нами дружбу». Но забывшийся Сихарий не унялся. «Невозможно, чтобы христиане и рабы Божьи могли установить дружбу с псами», — заявил он. Само решил закончить разговор. «Если вы Богу рабы, а мы Богу псы, — изрек славянский король, — то, пока вы беспрестанно действуете против Него, позволено нам терзать вас укусами». С этими словами он велел выставить франка вон.[1377] По большому счету Сихарий легко отделался. Славяне соблюли право послов и обычай гостеприимства, невзирая на запредельную дерзость и самоволие посланца франков. Тем не менее этой милости разгневанный придворный не оценил. Дагоберту он передал весь разговор, рисуя, разумеется, поведение Само в черном цвете. Впрочем, Дагоберт был солидарен со своим посланцем в главном — Само должен был попросту возместить «ущерб», а не рассуждать по этому поводу. Равноправным «другом» франкский король славянского видеть не желал. Дагоберт повел себя, даже по оценке франкского хрониста, «надменно», — без дальнейших разбирательств постановил начать войну. Франкский король не рассчитывал в собственном смысле слова захватить славянские земли. Его поход преследовал цели чисто разбойничьи — взыскать «ущерб», разграбив пределы королевства Само, и нанести тому максимальный урон.[1378] Вторжение предприняли с трех сторон. Главные силы по приказу Дагоберта составили его австразийцы. Они двигались по Майну и Огрже. По центру, дулебским краям в районе Богемского леса, удар наносили швабы во главе с герцогом Алемании Хродобертом. Наконец, с юга, из Фриуля в Норик, при франкской поддержке и за франкские деньги вторглись лангобарды. Одновременное и по сути внезапное нападение франков и их союзников застало Само врасплох. Он не мог организовать должное сопротивление сразу на всем огромном открывшемся фронте. Лангобардам и алеманам на своих участках удалось одержать победы над славянами, «и большое количество пленных из страны славян увели с собой алеманы и лангобарды».[1379] На пути главного, австразийского войска, встала славянская крепость Угоштьград (по-германски Вогастисбурк). Ее довольно трудно отождествить с конкретным пунктом из известных ныне — но все указывает на долину Огрже или верховья Майна, где несколько подобных названий известны.[1380] Град не являлся «столицей» Само — но резиденцией одного из подвластных ему лучанских жупанов, по имени коего (Угост) и был назван. Не исключено, что здесь находился центр земли лучан. Защищал преграждавшую франкам путь крепость «многочисленный отряд стойких винидов». С налета град захватить не удалось. Австразийцы окружили его и попытались взять приступом. Бои продолжались три дня. Славяне сражались храбро и стойко. Австразийцы же, раздраженные поведением своего короля после переезда в Париж, участвовать в его завоевательной войне не слишком хотели. В итоге боевой дух славян взял верх над многочисленным франкским войском. Когда «многие» франки погибли, их соратники бросились в бегство, прочь от неприступного града. Славянам они оставили «все палатки и вещи, какие имели». Поход, успешный для союзников Дагоберта, для него самого кончился грандиозным провалом.[1381] Подданные Само защитили свои главные земли. Однако одной победы мало — и Само это понимал, особенно с учетом поражений на юге. Потому он не стал прекращать борьбу, а перешел в наступление. По всему пограничью теперь заполыхала война. Причем франки оказались в положении обороняющихся. Теперь-то они сполна познали цену посольского «неразумия» и королевской «надменности». Славянские отряды совершали набеги на все пограничные области, опустошая их. Особенно страдала от этих набегов зависимая от франков Тюрингия. Агрессия Дагоберта против славян Само встревожила другие, доселе союзные франкам славянские племена. Победа же лучан и последующие набеги воинов Само на франкские земли вселяли уверенность, что за «королем винидов» сила. Князь белых сербов Дерван уже вскоре после начала войны разорвал союз с Дагобертом и «предался со своими людьми королевству Само». В итоге владения Само сильно расширились к северу, охватив междуречье Лабы и Заале. Опасность же для Тюрингии, вся восточная граница которой превратилась теперь в край войны, резко возросла.[1382] Сумел Само укрепить и только что пострадавшие южные рубежи своей державы — правда, с помощью не зависевших от него обстоятельств. Уже говорилось о том, что в год начала войны в Аварском каганате разразилась междоусобица. Болгарский хан Альцек, потерпевший поражение в борьбе за каганский титул, увел с собой вниз по Дунаю 9000 болгарских воинов с семьями. Сначала Альцек попросил приюта у Дагоберта, видя в нем врага авар. Дагоберт расселил болгар на зиму в зависимой от себя Баварии. Однако он не доверял кочевникам. К тому же на восточной границе бушевала новая война, теперь уже со славянами. Ссориться с новоявленным каганом, сколь бы тот ни был ослаблен, Дагоберт не собирался. Потому «по совету франков» король приказал баварам коварно истребить болгар. Бавары, отягощенные постоем кочевников, с готовностью повиновались. Разведенные по домам болгары были в одну ночь перебиты хозяевами. От резни спасся лишь сам Альцек с семью сотнями воинов. Вместе с уцелевшими женщинами и детьми они бежали из пределов Баварии к врагам Дагоберта — славянам. Только что претерпевший от лангобардского вторжения владыка (Walluc у Фредегара) альпийской «марки винидов» охотно принял беглецов. Альцек, исполненный справедливой ненависти к франкам, оказался для него надежным и полезным союзником. «Много лет» он со своими воинами провел среди здешних славян, поддерживая их.[1383] В 632/3 г. славяне «войском» обрушились на пределы Тюрингии. Находившийся в Австразии Дагоберт, получив эти вести в здешней столице Меце, спешно собрал свою рать и двинулся к границе. Ненадежное австразийское войско Дагоберт укрепил отрядом знатных воинов из Нейстрии (западной части королевства) и Бургундии. На переправе у Майнца короля, однако, остановило посольство саксов, плативших тогда франкам дань. Саксы предложили Дагоберту в обмен на освобождения от дани прикрывать границу и воевать с «винидами». Дагоберт согласился и прекратил свой поход. Но саксы просто использовали обстоятельства — против Само они то ли ничего вообще не предприняли, то ли не слишком старались предпринять.[1384] В следующий год царствования Дагоберта, 633/4-й, Само организовал еще несколько набегов на Тюрингию и лежащие к югу от нее земли. Славяне в ту пору «сильно неистовствовали» по всей пограничной полосе. Тогда Дагоберт решился, наконец, удовлетворить чаяния обиженных на него австразийцев и назначить им собственного короля. Таковым стал его сын Сигиберт — под контролем местной знати. Это, действительно, дало некоторые результаты. Во всяком случае, австразийские аристократы стали больше внимания уделять защите восточной границы. Само уже не удавалось нанести на этом участке такой ущерб, как прежде.[1385] В 634–635 гг. со славянами повел ожесточенную борьбу франк Радульф, поставленный герцогом Тюрингии. После «многих» битв ему удалось, наконец, разгромить отряды Само и Дервана, доселе безнаказанно пересекавшие тюрингскую границу. «Виниды» бежали и больше не беспокоили герцогство.[1386] С этого времени о набегах славян не упоминается. Поражение в Тюрингии и укрепление австразийской границы заставили Само удовлетвориться достигнутым. Франков достаточно проучили. Однако ни о какой «дружбе» речи, конечно, идти больше не могло. Славяне Само и франки оставались врагами. Война Само и Дагоберта, разумеется, не оставалась тайной для остальной Европы. За ней должны были пристально следить и из Константинополя, особенно с учетом выдающихся достижений славян за последние годы. В то время как Дагоберт терял союзников в славянском мире одного за другим, Ираклий предпринимал решительные меры к тому, чтобы теснее привязать славян к Империи. Хорваты в пору войны с Само сохранили верность союзу и с франками, и с Византией. Желая закрепить этот союз, Ираклий через некоторое время после переселения их на Балканы затребовал из Рима проповедников христианства. Отправил их папа Гонорий (умер в 638 г.). Причины обращения Ираклия за священниками для славян в Рим понятны. Далмация всегда относилась к римской юрисдикции, да и сношения с Константинополем через Фракию и Македонию были теперь едва возможны. Ираклий организовал в балканской Хорватии церковную иерархию, назначив из числа прибывших архиепископа и епископа. Союзная ромеям хорватская знать благосклонно приняла проповеди римлян и крестилась. Ей последовал народ — или немалая его часть. Затем от тех же римских священников, доверившись убеждениям Ираклия, приняла крещение и большая часть балканских сербов во главе со своим князем.[1387] Таким образом, свершилось первое обращение целых двух славянских племенных княжеств в христианство. Событие это может считаться поворотным пунктом в истории славянства, и действительно, значимость его весьма велика. Однако переоценивать глубину этого первого обращения сербов и хорватов не следует. Впереди еще были целые века борьбы христианства и язычества, колебаний и массовых отступничеств. Сербская и хорватская знать, тем более массы народа, едва ли восприняли истины новой веры глубоко, едва ли отринули сам факт существования своих языческих богов. Для князей и жупанов крещение, обращение к Богу «греков», пока являлось просто еще одним знаком союза с Империей. Но было здесь и важное на будущее — преклонение перед явленными богатствами ромейской культуры, стремление к ее восприятию, сомнение в ценности язычества. Здесь со временем открывалась дорога к христианству истинному. При крещении хорватов, по преданию, папа потребовал от них клятвы, что они «никогда не отправятся в чужую страну и не будут воевать, а, напротив, будут хранить мир со всеми желающими». Среди хорватов веками сохранялась легенда об особой молитве, полученной ими «от самого римского папы» — «если какие-либо иные народы выступят против страны самих хорватов и принудят их воевать, то Бог ранее самих хорватов вступит в бой и защитит их, а ученик Христа Петр дарует им победу».[1388] Во времена войны Само с франками и стычек в Далмации такая клятва являлась весьма уместной. В 640 г. на римский папский престол взошел папа Иоанн IV, родом далматинец. Поборник ортодоксии, он не поддерживал сношений с Ираклием, искавшим компромисса с монофизитами под флагом т. н. монофелитства — учения о «единой энергии» Христа. В то же время Иоанн не оставлял свою новую балканскую паству. Заботило его, правда, положение собственных соплеменников, далматинцев, ютившихся на островах и продолжавших воевать со славянами. Иоанну удалось добиться выкупа далматинских пленников и некоторой взаимной терпимости между хорватами и далматинскими беженцами. Сразу после восшествия на престол Иоанна в Далмацию и Истрию отправился специальный представитель папы — аббат Мартин. Ему было поручено выкупить на папские деньги пленников, захваченных славянами в здешних городах. Мартин нашел в опустошенных провинциях немало святых мощей и отвез их папе, поместившему их в римских соборах. Аббату удалось выкупить у славян многих рабов-христиан и вернуть их родне. Римский аббат оставил по себе добрую память у далматинцев.[1389] После прекращения военных действий кое-кто из салонитов вернулся в окрестности родного города. Но в самом городе они селиться не стали, боясь врагов. Следует иметь в виду, что южную часть округи занимали неретвляне, на которых папа никакого влияния не имел. К тому же из всех городских зданий к тому времени сохранился только театр в западной части Салоны. Многие салониты перебрались далеко на север, в Задар, превратившийся теперь в столицу романского побережья. Славяне, в свою очередь, их не беспокоили.[1390] Между тем мир установился и на севере славянских земель. Причиной тому стали смуты в среде самих франков. Одержав победу над славянами и завоевав популярность среди тюрингов, герцог Радульф стал проявлять все больше самостоятельности. Когда в 639 г. умер Дагоберт, Франкское государство вновь оказалось поделено на части. Радульф отказался подчиняться малолетнему австразийскому королю Сигиберту и в 641 г. начал открытое восстание. Сигиберт, которому исполнилось лишь 11 лет, выступил против мятежника. Однако его попытки командовать самому вкупе с прямой изменой военачальников привели к поражению на реке Унструт. Король едва спасся. После этого Радульф провозгласил себя независимым королем тюрингов. Хотя он и признавал «власть» над собой Сигиберта, но теперь это выглядело довольно издевательски. Одним из первых действий короля Радульфа стало заключение мира и союза со славянами Само.[1391] Война в Тюрингии, приостановленная некогда полководческим талантом Радульфа, теперь закончилась благодаря его мятежу. Тюринги могли окончательно успокоиться насчет славянских набегов. Сербы же вновь получали возможность мирно расселяться в отныне независимом Тюрингском королевстве. После этого франки, занятые внутренними распрями, надолго оставили славян в покое. Само же, не начинавший эту войну, едва ли добивался чего-либо другого. Так что победа осталась за ним. Война за ФессалоникуВойна славян с франками и лангобардами не могла совсем не повлиять на события, происходившие дальше на юг, на Балканах и Адриатическом побережье. Она подтолкнула усилия по крещению хорватов и сербов. Однако, умиротворяя славянских соседей, Ираклий преуспел не вполне. Это стало ясно уже сразу после его смерти в 641 г. Славянские племена в течение нескольких лет активизировались на огромном пространстве от далматинских берегов до Халкидики. Причины происходящего были достаточно очевидны. Вызрело новое поколение, родившееся уже на Балканах и не заставшее войн с Империей в сознательном возрасте. Это давало и значительный прирост населения — а развернуться в балканских горах было гораздо сложнее, чем на вполовину безлюдных просторах Восточной и Центральной Европы. Особенно это касалось плотно заселенных Македонии и Греции, где свободной земли острее всего не хватало. Взоры молодых воинов, строивших собственные семьи и надеявшихся пропитать их, невольно обращались к сочтенным их отцами за неприступные богатым ромейским городам и полям вокруг них. Стоит отметить, что владения славян во Фракии в ту пору уже подступали к самым предместьям столицы — город Виза примерно в 90 км к северо-западу от Константинополя считался пограничным.[1392] С другой стороны, однако, — и это показали дальнейшие события, — часть имперского чиновничества и знати, особенно на местах, сама была готова спровоцировать войну. Империя в Европе, как надеялась эта партия, понемногу восстанавливала силы. Славяне же консолидировались, что само по себе внушало тревогу. Южные славяне к этому времени и вправду стали лучше организованы. Не только союзные Империи сербы и хорваты создали мощные союзы племен. По всему Балканскому полуострову к югу от Дуная возникали славинии — славянские племенные княжества с довольно четкими границами.[1393] Где-то славиния представляла из себя племенной союз. Где-то — отдельное большое племя. На западе такими славиниями являлись Сербия, Хорватия и Дукля. В Македонии сложилось к середине VII в. два мощных племенных объединения — ринхины к западу от Фессалоники и струмляне к востоку от нее. Вместе они составляли союзные «части» «всего народа славян» в Македонии.[1394] Названия союзов родились уже на месте и происходили от обтекавших Халкидику рек. Струмляне или стримонцы обитали на Струме. Главенствующим племенем здесь позже являлись смоляне. Поселения струмлян охватывали Фессалонику и с севера, ближайшее находилась в Литах, примерно в 12 км от города.[1395] Ринхины жили по Вардару.[1396] Среди них главными были дреговичи, в свою очередь, делившиеся на несколько племен со своими князьями-«риксами».[1397] Из их числа выдвигался общий «рикс» (великий князь?) ринхинов — в середине VII в. им был Пребуд.[1398] В тот же племенной союз вошли и близкородственные дреговичам берзичи. Что касается их соседей сагудатов, то они сохраняли от ринхинов самостоятельность, хотя постоянно поддерживали их.[1399] Славян Фракии объединял союз Семи родов во главе с северами. Велеездичи и другие расселившиеся в Элладе племена образовывали собственные славинии. Определение границ славянских княжеств, конечно, приводило к новым конфликтам с «греками». Момент для нового наступления на уцелевшие осколки имперских провинций был подходящий. Империя вновь подверглась нашествию с востока — на этот раз арабскому. Вдохновляемые только что провозглашенным исламом, арабы стремительно расширяли пределы новой мировой державы — мусульманского Халифата. Под их натиском уже рухнули границы Сирии, Палестины, Египта. Ираклий, искавший поддержки на Востоке за счет уступок монофизитам, только добавил к внешней войне внутреннюю смуту. Его внук Констант II, вступивший на престол в 641 г., тщетно пытался остановить натиск нового врага. Есть, впрочем, все основания думать, что воздействие на южных славян оказал и пример Само. Вступление лангобардов в войну Само с франками — даже без его усилий — вызывало цепную реакцию дальше на юг, по Адриатике. А нет оснований предполагать, что Само никаких усилий для отвлечения сил лангобардов не предпринимал. Активные и несколько поспешные меры Ираклия в Сербии и Хорватии указывают, что император ромеев ощущал некоторую угрозу. Во всяком случае, активизация южных славян началась именно с Адриатического побережья, и первыми ощутили ее последствия именно лангобарды. Когда сербы принимали крещение, три приморских племени-жупы между реками Неретвой и Цетиной отказались креститься и сохранили верность старым богам. Они составили полунезависимый племенной союз неретвлян, или поганых (от латинского pagani — язычники).[1400] Хорошо освоившие мореходство, потеснившие со временем далматинцев на прибрежных островах, неретвляне стали жить не только обработкой своих угодий или морскими промыслами, но и пиратством. Главной целью морского разбоя стал захват рабов. Примеру неретвлян вскоре последовали некоторые южные соседи — союзные Византии, но не крестившиеся вместе с сербами дукляне, войничи в Эпире, велеездичи в Фессалии. Об их образе действий позволяет судить эпизод с африканским епископом Киприаном, имевший место как раз в 640-х гг. Отправившись в Константинополь, он на корабле «приблизился к берегам Эллады» с эгейской стороны, в принадлежавшей велеездичам Фессалии. Здесь на судно напали «дикие славяне». Главной их целью был захват рабов. Всех находившихся на корабле взяли в плен и поделили между победителями. Пленников, в том числе и Киприана, славяне увели в «свои места» — примерно в восьми днях пешего пути от Фессалоники. Отсюда епископ спасся по чудесному заступничеству св. Димитрия Солунского.[1401] Со временем славяне перестали ограничивать себя налетами на проплывавшие корабли. Теперь они старались уже закрепиться на островах или даже на противолежащем лангобардском берегу Адриатики. Первые сведения об этом появляются сразу после смерти умиротворявшего здешних славян Ираклия. В 642 г. «множество кораблей» славян (неретвлян или дуклян) появилось у побережья Беневентского герцогства. Они высадились близ города Сипонта (ныне Манфредония на полуострове Гаргано). Отсюда славяне двинулись на юг вдоль побережья и разбили лагерь у реки Офанто. Стан свой они защитили от возможной конной атаки «скрытыми ямами». Вскоре те пригодились — герцог Беневентский Айо во главе свой дружины напал на разбитый в его землях славянский стан. Славяне не вышли в поле, Айо же, ринувшись на штурм, угодил со своей кавалерией в ловушку. Когда лангобардские всадники провалились в ямы, славяне бросились на них и перебили в «немалом числе». Вместе с прочими погиб и сам герцог. Вскоре после гибели Айо победители-славяне столкнулись с отрядом под командованием Радоальда, его названого брата и наследника. Радоальд приходился младшим братом покойным фриульским герцогам Тазо и Какко — тем самым, что взяли дань с Зильи. Потому он владел славянским языком и, вступив в переговоры с вождями напавших, сразу заговорил с ними по-славянски. Неожиданно зазвучавшая из уст врага родная речь усыпила бдительность славян. Они доверились Радоальду и отложили битву. Поняв, что славяне не ждут нападения, Радоальд внезапно бросил своих воинов в атаку. В происшедшем бою славяне подверглись «большому избиению», уцелевшие бежали к своим кораблям и покинули Италию.[1402] Перешедшее и на Эгеиду пиратство вызвало растущее беспокойство в Фессалонике. Город почти три десятка лет поддерживал мир с окрестными славянами, и славянская знать свободно бывала в его стенах. Ринхинский князь Пребуд ходил в «одежде ромеев» и свободно владел греческим языком.[1403] Но многие горожане полагали, что мир соблюдается «только внешне». Наместник Фессалоники, обеспокоенный соседством, решил обезглавить славян. Стремясь заручиться в этом деле поддержкой императора, он в 645 г.[1404] отправил ко двору письмо. В нем он доносил, будто Пребуд «с хитрым умыслом и с коварным намерением злоумышляет против нашего города». Ничего достоверного наместник не знал, а оклеветал Пребуда, исходя из собственных представлений о славянской злокозненности.[1405] Пребуд вряд ли являлся беззаветным другом ромеев, но, во всяком случае, ценил их культуру и перенимал их привычки Констант, готовившийся к тяжелой войне с захватившими Египет арабами, встревожился. В ответном письме эпарху Фессалоники он приказал каким-нибудь способом захватить Пребуда и прислать его связанным в Константинополь. На свою беду, ничего не подозревавший Пребуд в тот момент находился в стенах Фессалоники. Эпарх созвал на тайный совет согласных с ним представителей городской знати, и вместе они порешили захватить славянского вождя немедленно. Императорский приказ был исполнен. Пребуда внезапно захватили, заключили в оковы и спешно отправили в столицу.[1406] Предательство ромеев и коварный захват князя, естественно, всколыхнули славянскую округу. Впрочем, ринхины и струмляне пока не собирались воевать. Знать Фессалоники не была едина в нарушении договора. Большинство горожан совсем не хотело подвергать Фессалонику опасности уже четвертой славянской осады. В конце концов, под давлением славян разум в городе взял верх. Солунцы вместе с ринхинами и струмлянами отправили к Константу посольство. Его составили знатные славяне и «опытные» в пробивании городских интересов при дворе солунские граждане. Послы просили Константа ни в коем случае не убивать Пребуда, а «простить ему грехи и отослать к ним». Констант, занятый подготовкой к морскому походу в Египет, отделался от послов обещанием освободить славянского князя «после войны».[1407] Удовлетворяя требованиям послов, император приказал снять с Пребуда оковы, «предоставить ему одежду и все необходимое для повседневных нужд». Узнав от вернувшихся посланцев об этом, славяне отказались от мысли начать военные действия — при условии, что Пребуд будет освобожден.[1408] Однако Констант еще даже не успел отправить свою экспедицию, как события вышли из-под его контроля. Императору служил и был любимцем, как его, так и многих среди столичной знати, некий толмач, владевший имением во Фракии близ города Виза. Тесно общаясь со славянами, а может, и сам будучи славянином, он проникся сочувствием к судьбе Пребуда. Вместе они замыслили побег князя. Пребуд должен был, используя открывшуюся свободу передвижений, бежать в имение толмача, а оттуда тот его через несколько дней заберет и проводит в Македонию. Первая часть плана прошла вполне успешно. Пребуд, одеждой и языком неотличимый от ромеев, покинул Константинополь через Влахернские ворота и тайно поселился в условленном месте.[1409] Констант, узнав о случившемся, пришел в ярость. Отвлеченный от своих приготовлений император расправился и с правыми, и с виноватыми. Охранников Пребуда долго пытали, некоторых затем зарубили, а особо заподозренных четвертовали. Другие отделались довольно легко — их всего лишь отстранили от должностей. В эту опалу попал и эпарх Константинополя, сосланный в Фессалонику. Отправив с ним боевой корабль-дромон, император «заботливо» велел тамошним жителям в связи с побегом Пребуда готовиться к войне — «позаботиться о своей безопасности, а также о запасах съестного». Повергнув Константинополь в панику, Констант запер все ворота, закрыл городскую гавань и разослал на поиски беглеца конников и корабли. Тщетный розыск продолжался посменно около сорока дней.[1410] Пребуд в эти дни скрывался в тростниках близ имения толмача, подкармливаемый его женой. Имение располагалось не так уж далеко от столицы — неудивительно, что в итоге князя все-таки обнаружили. В принципе, Пребуд за время розысков мог бежать к соседним фракийским славянам, но его подвели то ли нерешительность, то ли верность данному слову. Рассерженный на так и не явившегося толмача, или пытаясь отвести вину от себя, Пребуд по доставке в Константинополь сразу выдал сообщника. Толмача с женой и детьми убили. Пребуда же Констант вновь заключил под стражу, обещав, правда, потом отправить в Фессалонику.[1411] Обещания, однако, Констант не сдержал — или сдержать его не было суждено. Императору донесли, что Пребуд снова замышляет побег. Констант, предупредив бегство, велел провести «тщательное расследование». Обозленный и отчаявшийся, Пребуд заявил, что «если вернется в свою землю, то совершенно не сдержит слова о мире, но, собрав все соседние племена, ни на суше, ни на море, как говорится, не оставит в конце концов места, не охваченного войной, а будет воевать непрестанно и не оставит в живых ни одного христианина». Удовлетворенный Констант велел убить славянского князя.[1412] Война началась немедленно. Ринхины, сагудаты и струмляне договорились о совместном нападении на Фессалонику. Было решено, что славяне окружат город и будут тревожить его каждодневными атаками. С востока и с севера взялись нападать струмляне. Запад взяли на себя ринхины и сагудаты. Кроме того, они же обязались посылать каждый день по три-четыре «соединенных корабля» из связанных ладей, чтобы отрезать горожан с моря и атаковать гавань.[1413] Четвертая, самая долгая, осада Фессалоники славянами началась поздним летом 645 г., вскоре после отправки экспедиции в Египет. В 11 часов дня славяне одновременно и внезапно атаковали окрестности Фессалоники с востока и с запада. Они жестоко опустошили предместья. После этого ринхины и их союзники каждый день, сменяя друг друга, приближались к стенам то с одной, то с другой стороны. Они захватывали скот, не давали солунцам работать на полях, вконец разрушили предместья, заперли непрестанными налетами гавань, «непрерывно убивали и брали в плен». Вскоре славяне добились ожидаемого результата. В городе начался голод. Собственно говоря, произойти этого было не должно. Констант заблаговременно направил в Фессалонику припасы. Непредусмотрительные и корыстные городские чиновники, однако, тайно сбыли императорскую поставку заезжим купцам. Как раз вечером перед нападением ушел последний транспорт.[1414] Констант, чьи основные силы связала безуспешная кампания на Востоке, смог выслать — правда, «сразу же», — на помощь Фессалонике лишь 10 боевых кораблей. На них приплыли не только воины, но и дополнительные припасы. Однако ведавшие их распределением императорские чиновники оказались ничем не лучше — пожалуй, и хуже, — местных. Они продавали или обменивали хлеб несчастным втридорога, в буквальном смысле сдирая с них последнюю рубашку, а то и обращая граждан в рабство. Защищаясь от конкуренции, новые хозяева города велели своим солдатам повсюду разыскивать спрятанный хлеб и убивать прячущих.[1415] Нападение помешало горожанам собрать урожай, скот же в городе скоро кончился. Голод вынудил граждан запирать ворота перед спасающимися бегством жителями предместий. Понятно, что беженцы только усугубляли голод. Горожане поедали ослов и лошадей, считавшиеся несъедобными растения. Понимая их положение, желавшие взять город измором славяне травили и выжигали пригородные поля. Когда некоторые из граждан Фессалоники рисковали выходить за ворота на поиски съедобных трав, их поджидали засады. Славяне между приступами скрывались в стенах пригородных храмов, нападали оттуда, «грабили, захватывали и убивали» злосчастных солунцев.[1416] Между тем как «соединенные корабли» славян то и дело налетали на городскую гавань, ладьи-однодеревки укрывались «между скал или в скрытых местах». Всякое судно, вышедшее в море, подвергалось нападению. В результате после прибытия императорской помощи «прекратилось отсюда мореплавание». Те из горожан, кто пытался все-таки добыть пропитание на море, погибли от рук осаждающих.[1417] Осада с беспрестанными тревогами тянулась и тянулась месяцами. Положение усугубила наставшая засуха. Вскоре славяне дождались перебежчиков. Многие граждане, полностью отчаявшись, бросали свои семьи, даже отрекались от христианства и переходили к осаждавшим. Когда, однако, перебежчиков за долгое время набралось «множество», славянские вожди обеспокоились. Большое число греков в их селениях внушало тревогу. Предводители осады решили продать перебежавших солунцев в рабство своим северным славянским соседям. Лишь некоторым удалось бежать обратно в город — и принесенные ими вести остановили поток перебежчиков.[1418] Вскоре осаждающим удалось существенно ослабить и воинские силы Фессалоники. «Некие славяне» уверили руководителей обороны, что намерены предать соплеменников и выступить на стороне города. На северную сторону, к дюнам, на соединение с ними был послан «цвет сильнейших». Ромеи попали в засаду и были поголовно перебиты.[1419] Славяне продолжали платить коварством за коварство. Изматывающая осада длилась уже почти два года. Последнее пропитание в Фессалонике заканчивалось, «всякое человеческое искусство и выдумки стали бессильны».[1420] Тогда горожане решили отправить все уцелевшие суда и лодки со всеми пригодными к бою людьми на юг, в Фессалию. Они должны были попытаться купить хотя бы сушеные плоды для пропитания у велеездичей. Те пока ничем не выказали враждебности к городу и как будто соблюдали мирный договор. Все оставшиеся в городе («слабые и беспомощные») не должны были ни под каким видом выходить за ворота до возвращения флотилии.[1421] Славяне не рискнули воспрепятствовать большому флоту — тем более что осознали, какую выгоду предоставляет уход почти всего боеспособного населения. Поняв, что в городе осталось лишь сравнительно небольшое число вконец обессилевших людей, князья дреговичей вдохновили союзников на решительный штурм. Среди дреговичей имелись искусные мастера осадного дела, заверившие своих вождей в том, «что в любом случае возьмут город». Теперь в распоряжение славян находились не только камнеметы и «черепахи», осадные башни и тараны, но и «огненосные орудия». Славянские мастера осваивали ковку мечей и совершенствовали стрелы. Они соревновались между собой в изобретательности, «стараясь казаться более сообразительными и более усердными в помощи племенным вождям».[1422] Один из славянских инженеров, «умевший достойно держать себя, дельный и разумный», имевший большой опыт в осадном деле, обратился к новому верховному «риксу» с предложением. Он попросил помощи в сооружении «великолепной башни из крепко соединенных бревен» «на колесах или каких-нибудь катках». Башню он предполагал покрыть, как и положено, свежими шкурами, вдобавок же «установить сверху камнеметы и оковать с двух сторон». Башня задумывалась трехэтажной, «чтобы в ней помещались лучники и пращники», между зубцами же должны были стоять тяжеловооруженные воины. С помощью такой конструкции, утверждал мастер, славяне «обязательно возьмут город».[1423] Судя по реакции славянских «архонтов», древнегреческий гелепол был для них (как, кстати, и для обитателей Фессалоник[1424]) в новинку. Впрочем, придумщик действительно несколько усложнил конструкцию, увеличив ее разрушительную силу. «Архонты» потребовали от него «изобразить на земле устройство указанной машины». Мастер немедля сделал подробный чертеж. Тогда поверившие князья предоставили ему «много юношей» в помощь для сооружения башни. Однако, когда «огромное стечение» людей взялось за работу, мастера внезапно охватило безумие. Он бросился прочь от собравшейся толпы. Его попытались силком вернуть к работе, но он вырвался и вновь убежал. Догнать его не сумели. Потеряв всю одежду, он скрылся «в труднопроходимых горах». Из-за этого работу над гелеполом прекратили.[1425] В распоряжении славянских князей и без того имелось достаточно техники. 25 июля 647 г. славяне всем войском приблизились к Фессалонике. На море вышло «бесчисленное множество судов». С запада к городу подступили ополчения ринхинов и сагудатов. Однако в этот момент неожиданно предали струмляне — подойдя к городу на три мили, их войско внезапно повернуло назад. Похоже, их вожди в итоге решили выждать и не класть головы своих воинов на стенах Фессалоники ради мести за ринхина Пребуда.[1426] К слову, такую же позицию, только с обратным знаком, заняли и велеездичи. Когда к ним прибыли солунцы, они решили продать им продовольствие — но если узнают о взятии города сородичами, то всех перебить. Они внимательно следили за происходящим и не желали подставлять себя из-за греков гневу ринхинов.[1427] Несмотря на измену струмлян, сил ринхинов и их союзников вполне хватило, чтобы оцепить город со всех сторон от моря до моря. По морю же курсировали «соединенные корабли». Славянские разведчики на суше, а корабельщики с моря высматривали слабые места в обороне. Дреговичские манганарии принялись за обустройство своей военной техники. «Осадные сооружения» устанавливались «вдоль всей стены». За прошедшие почти два десятилетия горожане отвыкли от вида смертоносных машин под своими стенами — одно зрелище славянских приготовлений повергло оставшихся в городе в отчаянную панику.[1428] Подступив к городу на рассвете, славяне занимались только подготовкой к приступу. Большая часть воинов набиралась сил. Свои надежды славянские князья возлагали на штурм всей стены с использованием приготовленных орудий. На рассвете 26 июля под «единодушный» боевой клич, от коего «земля сотряслась и стены зашатались», везя осадные машины, ринхины и сагудаты правильным строем двинулись к стенам. Отдельными, согласованно действующими отрядами шли на приступ «лучники, щитоносцы, легковооруженные, копьеметатели, пращники». Славяне приставляли к стенам лестницы и подносили огонь к воротам. К берегу Фессалоники подплыли «соединенные корабли». На город обрушилось «подобное зимнему или дожденосному облаку бесчисленное множество стрел, с силой рассекавших воздух и превращавших свет в ночную тьму».[1429] Наибольшего успеха осаждавшие добились у малых ворот на севере Фессалоники, на участке, где не было внешней стены. Они подпалили ворота, поддерживая огонь дровами — пока копья, камни и стрелы штурмующих не давали немногочисленным защитникам даже «высунуться за стену». Деревянные конструкции ворот дотла сгорели, и когда огонь потух, славяне ринулись на штурм. Но их глазам открылось поразительное зрелище — железные опоры ворот спаялись от огня и превратились в трудноодолимую преграду. Напуганные славяне отпрянули. «Тогда, — пишет автор “Чудес св. Димитрия”, — избавитель наш и помощник, великомученик Божий, явился не во сне, а наяву… Он шел пешком, был одет в хламиду и в руке нес жезл. И когда через эти вышеуказанные ворота славяне хлынули в город, он изгонял их и, ударяя жезлом, говорил: “Бог привел их на злосчастье — так что здесь делаю я?” Вот так он выгнал их из города через указанные малые ворота… Другие также видели сего мученика и спасителя города, бегущего по стене…» Как бы то ни было, в город славянам войти не удалось. Им «незримо было причинено множество побоев, ран и убийств не только в этом месте, но и по всей суше и у моря».[1430] Следующие три дня упорные приступы продолжались. Славяне пытались ворваться в город на других присмотренных заранее участках. Однако горожане, вдохновленные передававшимися из уст в уста слухами о чудесных явлениях, защищались мужественно. К 29 июля славяне отчаялись взять город. Одни князья были ранены, иных внезапно свалила какая-то болезнь. Другие племена обрушились на дреговичей с обвинениями: «Не вы ли говорили нам, что в городе нет никого, кроме нескольких стариков и немногих женщин? Откуда же взялось в городе такое множество людей, противостоявшее нам?» Разлад между осаждавшими покончил с осадой. Славяне, «враждуя друг с другом», разошлись восвояси. При этом они бросили уцелевшие осадные машины, которые затем солунцы выставили напоказ в городе.[1431] Узнав о поражении ринхинов и сагудатов, велеездичи устыдились и признались находившимся у них солунцам в своих замыслах. Славяне сами рассказали им о поистине чудесном спасении их города. «Они и сами стали восхвалять Бога, который спас немногих, укрепил слабых и наказал гордых». Искупая вину, велеездичи продали горожанам отнюдь не только «сушеные фрукты» — солунцы вернулись в родной город спустя несколько дней после окончания осады «с хлебом и овощами».[1432] Вскоре после окончания осады в Фессалонику явился с гор упоминавшийся выше изобретатель-славянин. Рассудок к нему вернулся, и он поведал о происшедшем с ним следующее. «Когда он начал работу, он увидел какого-то огненного мужа в прекрасных одеждах, который ударил его рукой по щеке. И с тех пор он потерял рассудок и память». Во всяком приближающемся ему чудился неведомый «огненный муж». Потом мастер «снова увидел его, и тот вернул его из пустыни и сказал ему, чтобы он не боялся, а шел в город искать его». Уверившись, что ему являлся святой Димитрий, славянин «возвестил всем о вышесказанном чуде» и немедленно крестился.[1433] Безотносительно к судьбе этого мастера, очередное поражение у Фессалоники внушило многим окрестным славянам трепет перед Богом христиан. Это видно и на примере велеездичей. Все же на протяжении еще некоторого времени ринхины с сагудатами продолжали терзать Фессалонику набегами. Ежедневно они появлялись в окрестностях города. Горожан, беспечно выходивших за стены, захватывали в плен из засад. Однако без поддержки струмлян эти действия долго продолжаться не могли, и к концу года ринхины их прекратили. После этого, однако, оба племенных союза, возобновив свои сношения, занялись прибрежным пиратством. Опасность для города отступила, но он оставался в блокаде.[1434] Длившиеся два года бои под Фессалоникой, конечно, возбудили многие славянские племена. Те же велеездичи воспользовались ситуацией, чтобы захватить и разрушить один из последних имперских центров в Фессалии — Новый Анхиал.[1435] В то же время или чуть позднее на Пелопоннесе славяне окончательно завладели Аргосом, изгнав местных жителей.[1436] Где-то в середине VII в. славянские пираты (велеездичи или жители Аттики) вновь, впервые со времен великого нашествия, переправились в юго-западную Малую Азию. На этот раз они не ограничились опустошением прибрежья, внедрившись в поисках рабов в горы. На одно из горных селений они напали в воскресенье и ворвались в церковь во время службы. Они дали священнику закончить причащение христиан, а затем потребовали дать пресуществленные хлеб и вино и им. Священник отказался. Славяне насмешливо спросили: «Зачем вы так надеетесь на это, неужели это Бог ваш?» В ответ прозвучало: «Это плоть Того, Который распялся за нас, Иисуса Христа, Спаса нашего, Который есть истинный Бог». «Неужели не стыдно вам, — расхохотались славяне, — уповающим на то, что после переваривания станет калом?» «Да не будет этого пред Богом, никогда не поверим, что это так», — твердо ответил священник. «Когда те выслушали это, — рассказывал о происшедшем живший тогда поблизости монах Феодор, — заставили его съесть все частицы и сразу после этого распороли ему, еще живому, живот, но ничего из тех частиц не нашли там. Увидев это, они удивились этому воистину чудному из чудесных явлению, вышли из деревни той и, не уведя с собой никого, спешно удалились оттуда. Истинный же пастырь тот отдал душу свою Господу и благодарил Того, Который удостоил его мученической смерти».[1437] 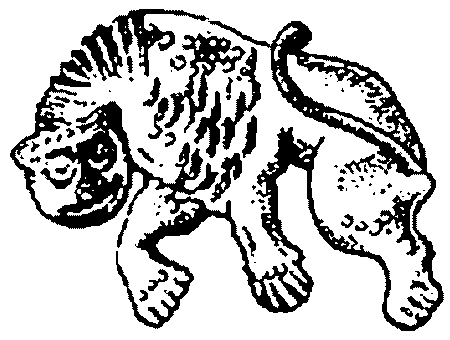 Лютый зверь. Велестинская коллекция Не спадала в те годы напряженность и на западе, у Адриатики. Тем же временем при желании можно датировать описанную в «Летописи попа Дуклянина» гибель родоначальника дуклянских князей — Остроила. По дуклянскому преданию, Остроил (предстающий здесь как властитель всех сербских и хорватских земель) после покорения Превалитании отправил своего сына завоевывать Загорье. Сам же князь остался в Скодре («Превалитанском городе»). «Император Константинополя», узнав о том, что Остроил лишь с «немногими» находится там, отправил против него войска. Остроил, захваченный врасплох с небольшой дружиной, «будучи мужем твердого духа, изготовился и вступил в бой». Но ромеи взяли числом — Остроил погиб, а его соратники после этого бежали. Добыча славян досталась императорским войскам. Когда сын Остроила, Сенулат или Сенудилай (имя в летописи явно испорчено; Всевлад?), узнал о смерти отца, то, не догнав посланцев императора, стал люто мстить христианам из «приморских городов». Он якобы 12 лет владел огромным королевством «от Вальдевина (т. е. хорватского Винодола) до самой Полонии», включая «приморские и загорские земли».[1438] Всего от гибели Остроила до князя Владина, при котором пришли на Дунай болгары, прошло 33 года.[1439] Таким образом, Остроил мог бы пасть в 647 г. Однако и 33, и 12 — типичные не только для славянских преданий «эпические», округленные сроки. Цена им как точным датировкам невелика. О 33 годах в дуклянском предании, скорее всего, действительно говорилось как о сроке, отделяющем действие сказания об Остроиле от прихода болгар. В том смысле, что приход болгар имел место спустя много лет после пришествия дуклян и сербов. Итак, с точностью мы датировать гибель Остроила не можем. В предании много и других недостоверных деталей, обычных для эпоса преувеличений. Дукляне в VII в. не представляли единства ни с сербами, ни с хорватами. А значит, картина великой державы «от Вальдевина до Полонии»[1440] с Загорьем — вымысел. Но это не значит, что предание о гибели Остроила — тоже вымысел. Подобные сюжеты не рождались на пустом месте. За фигурами Остроила и Сенулата, вне сомнения, стоят конкретные исторические лица VII в. Более того, историческую основу предания надо искать именно в событиях середины этого столетия, когда отношения Империи со славянами вновь обострились после пактов Ираклия. С Ираклием дукляне поддерживали мир — следовательно, гибель их первого князя должна была случиться позднее. Не исключено даже, что «загорский» поход Сенулата отражает какое-то вмешательство дуклян в события на землях Македонии. Необязательно, правда, делать столь далеко идущие выводы — как и связывать конец Остроила с подлинной карательной экспедицией из Константинополя. Князь дуклян мог пасть и жертвой столкновения с местными романцами из Бара, которых преувеличенное предание за века превратило в «императорские войска». Правда, карательный поход имперской армии на славян в середине VII в. действительно состоялся. И подвел черту под новой чередой конфликтов. В 650-х гг. пиратство ринхинов и струмлян впрямую затронуло интересы Константинополя. Их суда плавали по всей северной Эгеиде. Славяне перехватывали транспорты с доставлявшимся в столицу с островов урожаем в самом Мраморном море и Геллеспонте. Они совершили несколько налетов на императорские таможни, захватив стоявшие у причалов корабли и всех, кто там находился. Получив теперь в руки «множество» уже ромейских судов и начиная осваивать управление ими, они возвращались к себе.[1441] Когда Констант понял, что дело не ограничивается угрозой для Фессалоники, то решил, наконец, вмешаться лично. В 658 г. император во главе войска «выступил против славинии», к Фессалонике. Армия двинулась по направлению к Струме через фракийские земли. Струмляне «заняли теснины и укрепленные места», отправив просьбы о помощи к князьям ринхинов и других славян. Неясно, подошла ли помощь, или славяне решились защищаться поодиночке. Во всяком случае, на этот раз им не помогло умение делать засады в горах. Войска Константа одержали несколько побед и прорвались в окрестности Фессалоники. В боях погибли самые сильные воины струмлян, многие знатные люди, они лишились тяжелой пехоты. Славяне бежали от победоносного императора. Застигнутых ждали смерть или рабство. Некоторые тайно пробрались в Фессалонику, а разоблаченные, открыли горожанам, что полные припасов поселения оставлены без охраны. Изможденные многолетней блокадой, безоружные и едва одетые солунцы огромной толпой бросились к Лите и разграбили славянские хижины, унеся оттуда пропитание.[1442] Еще одновременно с выступлением на струмлян Констант отправил некоторое количество хлеба для поддержания Фессалоники. Затем, не доверяя бравурным реляциям городского начальства о состоянии граждан, он послал еще в дюжину раз больше. Отправка с этим транспортом в Фессалонику военных кораблей для охраны решило исход войны. Напуганные решительными действиями императора славяне запросили мира. Констант согласился на условии «подчинения» македонских славиний императорской власти. Многих славян он угнал с собой в Константинополь, а затем расселил в Малой Азии, надеясь использовать в борьбе с арабами.[1443] На этом первая война южных славян против Византии закончилась. Конец Великой БолгарииПока балканские славинии звучно заявляли Империи о своем существовании, в Великой Степи развернулись события, возымевшие позже прямое отношение к их судьбам. В конце 641 г. умер хан Великой Болгарии Куврат.[1444] На престол Великой Болгарии в Приазовье вступил его старший сын Безмер-Батбаян[1445] — наполовину ант. В условиях происшедшего распада Аварии это не могло не содействовать упрочению связей между болгарами и антскими племенами. В эти годы влияние Великой Болгарии далеко распространилось на запад — по крайней мере, передвигались болгары по причерноморским степям к западу от Днепра совершенно свободно, как по своей территории. В то же время Великая Болгария еще сохраняла многие черты племенного союза. Хан из рода Дуло первенствовал, но наряду с ним ведали делами вожди остальных из «десяти родов» оногуров.[1446] Куврат, умирая, завещал своим сыновьям «никогда не отказываться от совместной жизни друг с другом, чтобы благодаря добрым взаимоотношениям уцелело все находящееся под их властью», «чтобы они оставались господами всего и не служили другому племени».[1447] Однако сыновья отцовскому совету не вняли. Уже к концу следующего, 642 г., между ними вспыхнула распря.[1448] Батбаян, пытавшийся сохранить единство, в итоге удержал власть над Великой Болгарией. Его племенем являлись т. н. черные болгары, долго кочевавшие в Причерноморье. Второй сын, Котраг, получил имя по матери из племени кутригуров и, конечно, пользовался их поддержкой. Именно давняя вражда между кутригурами и антами и могла стать первопричиной усобицы. Котраг со своими присными откочевал на восток или северо-восток за Дон. Его племя составили т. н. серебряные болгары — предки волжских, часть которых, впрочем, вскоре осела и в Кавказских горах. Третьего сына Куврата звали Аспарух. Более точно болгарское звучание этого имени, «Есперих», передано в «Именнике болгарских князей».[1449] Аспарух после разделения отцовской орды ушел за Днепр, в земли антов или приграничные с ними. Это, а также сохранение славянского имени Безмера в «Именнике» указывает на то, что Аспарух признавал главенство старшего (единоутробного?) брата и был с антами в союзе. В то же время не приходится сомневаться, что Аспарух брал дань с соседних славян и в Северном Причерноморье, как позже на Балканах. Только так понимала союз кочевая знать. Для самих же антов, пострадавших от аварского погрома и ига, дань союзным и родственным болгарам определенно являлась меньшим злом. Ни о какой вражде местных славян с Аспарухом нигде не упоминается — как и о том, что их пришлось покорять.[1450] Наконец, еще один сын Куврата, Кувер, потерпев поражение в распре, ушел со своей частью орды далеко на запад, по следам брата Альцека. Он, однако, собирался не бороться с аварами, а найти у них укрытие. По дороге в Паннонию он, также не встречая сопротивления, миновал антские земли. Это свидетельствует о нейтралитете самих антов в болгарской усобице — хотя сочувствовали они больше, конечно, Безмеру. Ослабленный Аварский каганат с радостью принял болгарское пополнение. Кувер возглавил болгар Аварии, сохранив титул хана («архонта»). Позднее ему были выделены в управление пограничные земли близ Сирмия и в Потисье с их насельниками сирмисианами.[1451] Смена власти в Великой Болгарии сопровождалась и вероотступничеством. Сразу после смерти Куврата или очень скоро после нее болгарская знать во главе с его сыновьями отреклась от христианства.[1452] Впрочем, ни о каком искреннем и глубоком обращении ко Христу и ранее речь не шла. Крещение для самого Куврата было актом политическим, частью союза с Империей, которым он с легкостью пренебрегал, в зависимости от обстоятельств. Итак, созданная Кувратом Великая Болгария распалась. К концу жизни Куврат принял каганский титул,[1453] и имел для этого немало оснований. И Аварский, и Тюркский каганаты находились в состоянии развала. Но теперь над ослабленными осколками и самой Болгарской орды сгущались тучи. В 630 г. в Западнотюркском каганате началась очередная гражданская война. Представители разветвившегося рода Ашина вырывали друг у друга каганский престол. Погибли многие виднейшие представители тюркской знати и правящей династии, в том числе союзник Ираклия, хазарский ябгу. В усобицу вмешался как самостоятельный игрок влиятельный клан Дуло — прямые сородичи одноименной правящей династии Болгарии. Окончательный крах кочевой империи привел к обособлению независимого владения западных Ашина — Хазарского каганата. Хазары, таким образом, сохраняли верность законной династии Ашина. Болгары же оказались естественным союзником партии Дуло.[1454] В 644 г.[1455] хазары после серии набегов на окрестные земли выступили в поход на запад. Они справедливо рассчитывали на малочисленность разобщившихся болгарских орд. Разгромив и отогнав от Дона Котрага, хазары затем вышли в Приазовье. Здесь они нанесли поражение болгарам Батбаяна. Разбитый хан был вынужден признать себя «подвластным» хазарам и обязался платить им дань.[1456] История приазовской Великой Болгарии завершилась, не насчитав и ста лет. Держава Куврата ненадолго пережила своего создателя. Аспарух капитуляцию брата не признал и отверг его власть. Он продолжил борьбу с хазарами. В этой борьбе союзниками его могли выступать и антские племена, не желавшие нового, заведомо более жесткого кочевнического ига. Однако Аспаруха и его орду враги теснили все дальше на запад. Так началось движение болгар к Днестру и за Днестр, к Дунаю — приведшее в итоге к рождению Дунайской Болгарии. Королевство Само и его соседиНа западе славянского мира между тем продолжалось правление Само. Протекало оно, по словам франкского хрониста, «благополучно».[1457] И действительно — храброму и сметливому королю удалось продержаться у власти три с половиной десятка лет без заметных внутренних треволнений. Судя по всему, Само действительно глубоко вник в нужды и заботы славянского общества, принял его как свое родное, и это споспешествовало стабильной власти. У Само в подчинении, пусть во многом условном, находилось несколько крупных племен и племенных союзов — белые сербы, лучане, дулебы, мораване, жители «марки винидов» в Норике. Стабильность власти была характерна для всех них — во всяком случае, владыка упомянутой «марки» тоже правил «много лет»[1458] (не позднее 631 — между 660/665). Впрочем, не следует приписывать такую стабильность только талантам Само. Укрепление власти князей происходило, независимо от него, и у южных славян. Внешние дела Само также шли благополучно. Франкское королевство — враг наиболее опасный — по смерти Дагоберта в 639 г. вновь распалось на уделы. После заключения Само союза с Тюрингией франки его больше не беспокоили. Дружба же с тюрингскими королями, стремившимися закрепить свою независимость, открывала, помимо прочего, пути на запад для славянского расселения. Аварский каганат был побежден. Правда, не вполне умиротворен. Наверняка пограничные стычки с аварами случались на протяжении всего правления Само. Конфликты эти неизменно приносили славянам победу.[1459] Стесненные Само, авары вынуждены были искать более безопасных путей для собственного расселения. Между тем население каганата возросло вследствие как естественного прироста, так и прихода болгарской орды Кувера. С этими обстоятельствами можно связать усилившуюся в середине VII в. миграцию авар и подвластных им славян Паннонии на восток, за Дунай. На Трансильванском плато, населенном тогда преимущественно гепидами и влахами, складывается новая культура, получившая у археологов название «медиаш-группы». Славяне, влахи, авары и гепиды селились здесь на одних тех же поселениях, использовали общие кладбища. Славяне принесли с собой обычай строить полуземлянки с печами-каменками, лепную керамику пражского типа, антские пальчатые фибулы, ритуал кремации умерших. Но постепенно эти яркие черты славянской культуры размываются, как и на основной территории каганата. Славяне повсеместно осваивают гончарный круг, в некоторых их домах вместо славянских печей появляются обложенные камнями открытые очаги.[1460] С Трансильванского плато отдельные группы славян и авар проникали за Карпаты, в Олтению и даже в Мунтению. В одном из могильников Западной Олтении обнаружена любопытная пара трупосожжений. При первом из них найдены предметы аварского вооружения, в другом — славянские украшения.[1461] Не идет ли речь о захоронении представителя смешанной славяно-аварской знати с супругой? Проникавшие с севера в Олтению поселенцы изготавливали как гончарную, так и лепную посуду. Среди них попадались потомки антов, носившие пальчатые фибулы.[1462] Все свидетельствует о смешении народов и культур под властью кочевой знати. Вместе с тем за Дунаем славяне лучше сохраняли черты своего быта, чем на основных землях каганата, в Паннонии. Недружественными соседями королевства Само являлись и хорваты. Они сохраняли верность союзу с франками, от которых война Само и Дагоберта их отрезала. Следовательно, союзниками Само они являться не могли — притом что ранее он не препятствовал их переселению на юг. Теперь балканские хорваты полагали предел южным владениям «винидского» королевства. Земли же хорватского племенного союза в Центральной Европе ограничивали влияние Само с северо-востока. Само унаследовал от авар контроль за землей зличан, близких соседей хорватов и чехов. Отсюда он мог теснить хорватов в дальнейшем, в случае враждебности с их стороны. Нам совершенно неизвестны перипетии взаимоотношений Само с неподчинившимися ему славянскими племенами. Однако есть все основания полагать, что конфликты с хорватами, союзниками франков, случались. Следствием их могло стать подчинение части хорватских племен Само и оттеснение других. В результате хорватский союз начал распадаться. Причиной ослабления хорватов являлся, помимо прочего, отток сил на Балканы. Невзирая на конфликты и существование врезающейся в их землю Аварии, славяне, жившие по Дунаю, — подданные Само, хорваты, сербы, Семь родов, — воспринимали себя как единое целое, поддерживали тесные связи между собой. Как единое целое воспринимались они и соседями. «Франкская космография», созданная в середине — второй половине VII в. говорит о Дунае: «Данубий долго течет среди великих народов,// Огромная река, она дает пастбища славянам,// Протекает среди гуннов и соединяет винидов».[1463] Здесь важна и оценка славян как одного из «великих народов», и сведения о том, что славянские племена могли поддерживать сношения по Дунаю, несмотря на враждебность авар. Начало КраковаКакая-то группа хорватов ушла в середине VII в. довольно далеко на восток, к верховьям Вислы. Причиной было давление со стороны государства Само. Первоначальным намерением же, сколь мы можем судить, — вернуться на историческую родину, в Поднестровье. Однако в итоге хорваты осели среди вислян. С переселенцами из северо-восточной Чехии связано появление в Малой Польше ряда черт придунайской материальной культуры. С середины VII в. висляне начинают хоронить умерших в курганах (обряд, в это же время распространившийся с верховий Лабы вплоть до Силезии). Тогда же они освоили гончарный круг — также известный уже в Силезии — и стали изготавливать посуду дунайского типа, которая постепенно вытеснила пражскую лепную керамику. Первоначально, впрочем, ручной гончарный круг использовался лишь для подправки лепных сосудов.[1464] Это переселение отразилось в предании об эпическом герое, основателе племенного княжения, носящем известное и в Чехии имя-титул Крак (у чехов Крок). Польское предание о Краке передают, в первую очередь, малопольский хронист XII в. Винцентий Кадлубек и великопольский хронист XIII в. Богухвал. Богухвал пользовался сочинением Кадлубка, который, творя в Кракове, знал предание лучше и полнее. Тем не менее Богухвал дополняет предшественника рядом мелких деталей. Кроме того, великопольскому автору совершенно чуждо стремление краковского коллеги связать Крака с античным родом Гракхов. С другой стороны, однако, Богухвал старается и очистить предание от всякой мифологии — а это уже чистое насилие над древним эпосом. Объединяя обе версии и очищая их от наносных штампов латинской учености, получаем — с учетом и поздних фольклорных припоминаний — следующую картину. Из «Каринтии» в земли на верхней Висле пришел знатный изгнанник Крак. В то время обитатели этих мест жили без князя, управляясь лишь двенадцатью выборными старейшинами, «сенатом». Эти старейшины будто бы не брали ни с кого дани и лишь разрешали судебные тяжбы. Нельзя, впрочем, исключить, что рассказывающий об этом Богухвал просто позаимствовал картину старой малопольской жизни из великопольских преданий о «короле» Лешке. Как бы то ни было, Краку удалось завоевать сердца всех вислян и убедить их в необходимости единовластия. Его избрали общим воеводой, а затем — и князем («королем», rex). Крак отличался и умением читать сердца, и воинской доблестью. Он стал верховным судьей и создателем общего для всех законодательства. Главное героическое деяние Крака, описываемое Кадлубком, — уничтожение краковского дракона (Краковский Цмок позднейших преданий). Дракон жил в пещере, которую до сих пор показывают на горе Вавель. Оттуда он то и дело выбирался, чтобы поедать людей. Крак был разгневан бесчинствами чудовища. Он призвал двух своих сыновей и предложил им испытать себя, погубив дракона. Сыновья, сознавая опасность, повиновались тем не менее воле отца. Не сумев одолеть дракона силой, они вместе устроили змею засаду, подбросив ему в пищу запаленные бычьи кожи. Прожорливое чудище заглотнуло приманку и задохнулось от огня. Однако после этого случилось несчастье. Младший из сыновей Крака (также звавшийся Краком) решил воспользоваться случаем, чтобы присвоить наследство отца. Он убил старшего брата и, вернувшись, свалил его гибель на побежденного дракона. Сначала ему удалось убедить в этом отца, отпраздновавшего, несмотря на горе, победу. О дальнейшей судьбе младшего Крака версии предания говорят по-разному. Согласно Кадлубку, ему не удалось насладиться властью. Почти сразу по смерти отца братоубийство раскрылось, и злодея покарали вечным изгнанием. Согласно же Великопольской хронике, младший Крак все-таки какое-то время правил и умер бездетным. Так или иначе, наследницей старшего Крака осталась лишь его дочь, Ванда, на которой позднее династия и пресеклась. В честь «короля» Крака на горе Вавель был возведен и назван укрепленный град Краков. По Богухвалу, его построил сам Крак. Согласно Кадлубку же, Краков был возведен в память о князе-родоначальнике после его кончины.[1465] Предание о Краке-драконоборце — вне всякого сомнения, вариант древнего славянского мифа о громовержце, побеждающем Змея небесным огнем. «Крак» — естественный, звукоподражательный эпитет бога-громовника. «Краковскими» западные славяне называли Карпатские горы — родину исторических хорватов и одновременно священный центр славянского мира. С другой стороны, попытки обоих латинских хронистов так или иначе связать название «Краков» или само имя «Крак» с вороньим граем — не просто курьез. Ворон в древних европейских мифах считался спутником либо божества солнца, либо бога загробного мира. В первом случае перед нами след мифа о солнечном боге-змееборце. Во втором — перенесение на победителя Крака отдельных черт побежденного врага. В мифологии тоже не редкость. И в то же время в предании прочитывается историческая основа. Краков — название, произведенное от имени (Краков град). «Крак» явно трактуется хронистами как родовое, наследственное имя, некий титул. Картина избрания Крака вождем явно пришла из древнего местного предания, достоверно рисующего общественный строй вислян. Исторические события примерно середины VII в. могут быть воссозданы следующим образом. В это время на верхней Висле появились пришельцы из сопредельных чешских земель, люди хорватского племени во главе со своим вождем из рода Краков. Они вступили в союз с вислянами и возглавили новое единство. Это обусловили и лучшая организация пришельцев, и опасения вислян (недавних аварских союзников) в связи с усилением Само. Приход на верхней Висле к власти хорватского Крака — «потомка» и в некотором смысле «двойника» бога грозы Перуна — привел к прекращению почитания Ящера-Велеса в прежней форме. Древняя святыня — вавельская «Пещера Дракона» — забрасывается. Именно тогда лендзянские племена, доселе представлявшие собой религиозный союз, обрели друг от друга независимость. При этом в великопольских землях Ящер (Jesza) продолжал считаться верховным божеством вплоть до X столетия. Но и на Краковщине произошло, по сути, лишь слияние почитания Змея и его победителя в образе Крака — змееборца и в то же время «Ворона». Герой-предок, кроме того, естественным образом слился в мифах со своим божественным прообразом Перуном. Под своим собственным именем Перун в Польше практически неизвестен. Как и Велес, и по тем же причинам — запрет на произнесение наиболее чтимых божественных имен. Впрочем, любые исторические интерпретации мифа, мифологического предания — дело всегда рискованное. Миф отражает действительность по своим законам. И сама действительность в глазах древнего славянина, «создателя» мифа, была иной, чем для нас. Многое кажущееся нам «мифологическим» тогда с легкостью находило место в «эмпирической», опытом познанной реальности. Во всяком случае, ясны как «велесический» облик древней польской религии, так и особые связи образа Змея с Краковом — с Краковом до Крака. Столь же ясно «перуническое» происхождение мифа о Краке-драконоборце. Далее, довольно четка взаимосвязь польского предания о Краке и чешского о Кроке с западнославянскими хорватами. Очевидно происхождение название «Краков» от личного имени или титула «Крак». Но прямолинейный перевод языка мифа на язык «истории» — как понимает ее современная наука — невозможен, и любое вычленение «исторической основы» не обойдется без потерь. «Краки» продолжали править землей вислян на протяжении VIII и большей части IX в. Предание о Ванде отражает уже времена упадка и гибели этой династии. Оно искусственно соединено с более древним драконоборческим мифом. Хотя мотив коварного братоубийства в нем не менее древен. В славянских сказках часто встречается сюжет о присвоении плодов змееборческого подвига самозванцем, который убил или ранил подлинного героя. Героическое сказание о Краке кончается трагичнее сказки, где герой воскресает, дабы обличить обманщика. Но и здесь зло в итоге оказывается покарано. Краков возник в VII в. как резиденция хорватских Краков, правивших вислянами. Изначальное поселение на горе Вавель не было укреплено ничем, кроме природы. Но оно уже становилось естественным центром для поселений, возникающих под горою, по обоим берегам Вислы. VII же или VIII в. датируется приписываемый Краку монументальный курган. Рядом с ним возвышается столь же огромный «курган Ванды».[1466] По народному преданию, курган насыпали подданные Крака, каждый из которых принес по горсти земли. Тело Крака сожгли и бросили прах к подножию холма. Подобные обычаи в Южной Польше известны. В память о Краке установлен праздник поминовения умерших предков — ренкавка (якобы от reka — «рука»), справляемый на кургане.[1467] В кургане Крака действительно не обнаружено погребений. Но поминальные ритуалы на нем справлялись с языческой эпохи.[1468] Можно догадаться, что на самом деле у подножия кургана «Крака» не одно поколение бросали прах мужчин из княжеского дома, а у «Ванды» — женщин. Исполинские курганы «Крака» и «Ванды», воздвигнутые только из религиозных и политических соображений — явление совершенно уникальное. Ничего подобного в других западнославянских землях этого времени нет. Это памятник исключительного влияния и силы хорватских вождей, покоривших Повисленье. Соединив в своих руках жреческую и воинскую власть, «Краки» обрели в глазах своего народа авторитет, намного превосходящий княжескую власть в других землях. Этого авторитета было достаточно, чтобы мобилизовать силы племени на грандиозное строительство в честь умерших вождей. Здесь мы видим первый признак так и не окончившегося ни в одной из славянских земель развития священной княжеской власти в нечто подобное «деспотии» восточного типа. Черты зачаточной «деспотии» — слияние духовной и светской власти в одном лице, высочайший религиозный авторитет правителя на грани обожествления. Проявляются же они чаще всего именно в возведении монументальных сооружений, в том числе погребальных. Если «княжение» Крока явилось прямым предшественником средневековой Чехии, то племенной союз вислян — одним из главных слагаемых средневековой Польши. Таким образом, события середины — второй половины VII в. в известном смысле стоят у истоков польской государственности. Тем не менее родословная ее, как увидим впоследствии, восходит далеко не только к хорватской линии. Глава третья. В новых пределахХорутанское княжествоПравление Само, как уже говорилось, продлилось 35 лет. Умер он в 658/9 г. У «короля винидов» осталось 22 сына и 15 дочерей, рожденных ему 12 женами-славянками.[1469] Сразу вслед за смертью Само созданное им из нескольких славянских племен и племенных союзов королевство распалось. Никаких упоминаний о нем в дальнейшем мы не обнаруживаем. Напротив, после кончины короля все подчинявшиеся ему племена возобновили свое независимое существование. Необходимости в поддержании единства они больше не видели. На севере обособились сербы, усиленные прочным союзом с Тюрингией. На землях Чехии и Моравии образовалось минимум три племенных объединения. Долину Огрже занимал лучанский племенной союз. Основу его составили пять племенных «областей», известных к IX в. Главенствовали собственно лучане, занимавшие плодородную срединную «область», т. н. Луку.[1470] Южные земли Чехии и область зличан являлись в VII–VIII вв. территорией дулебского племенного союза. Наконец, в Поморавье сложился теперь полностью независимый племенной союз мораван, который рассматривается иногда как правопреемник королевства Само.[1471] Многодетность Само и связь его детей с отдельными племенами явились одним из важных поводов к мирному разделению королевства. Во всяком случае, позднейшие князья хорутан определенно возводили себя к Само.[1472] Хорутанское (Карантанское) княжество возникло именно в результате распада королевства Само. Впервые особый «народ славян» в «Карантануме» появляется на страницах письменных источников около 665 г.[1473] Славянский Крнскиград (ныне Карнбург в австрийской Каринтии), именовавшийся у германских и романских соседей Карантаной, стал столицей местных славян около этого времени. Название восходило к местному дославянскому наречию.[1474] Славяне приняли его для имени племенной столицы. Крнскиград располагался на месте античного укрепления. Славяне заново перестроили полуразрушенную крепость, возвели вал и палисад. Град занимал площадь в 4 га. К востоку от него на поле располагался «княжий камень» — племенная святыня, на которой князь клялся в верности своему народу и обычаям.[1475] В обозначении жителей княжества слово «Карантана», «карантаны» видоизменилось в славянское «хорутане». Именно под этим именем предки словенцев упоминаются в русской летописи.[1476] Так по-славянски называли они себя сами. Хорутанское княжество стало прямым преемником входившей в королевство Само полусамостоятельной «марки винидов» в Восточных Альпах. Правивший ей примерно с 630 г. вождь-владыка ненадолго пережил своего короля.[1477] Переход власти в «марке» уже после смерти Само к его потомству свидетельствует в пользу того, что владыка был одним из тестей или скорее шурьев Само. «Свой», местный королевский сын представился славянской знати Норика наилучшим наследником. Это позволяло укрепить статус вождя. Смена правящего рода — частичная — сопровождалась сменой титула на княжеский. Титул «владыка» связан был у славян, в первую очередь, со жреческой властью. Сопровождалась смена «династии» и созданием единой племенной столицы в нагорном Крнском граде. Хорутане, в число которых влились и некоторые переселенные сюда аварами племена (стодоряне, дулебы), слились под единой властью. На севере пределы княжества доходили до района античного Карнунта на Дунае[1478] (ныне Нижняя Австрия). Отсюда можно вести отсчет истории средневековой Каринтии, современной Словении, и складывания словенской народности. Южным соседом хорутан являлось Лангобардское королевство в Италии — точнее, пытавшееся вести независимую политику Фриульское герцогство. Дань Фриулю платила большая часть зилян, родичей хорутан, обитавших не слишком далеко от их княжеского града. Неудачная война Само с лангобардами ничего тут не изменила. Теперь хорутане были заинтересованы в добрососедских отношениях с Фриулем, особенно в связи с начавшимся после прихода Кувера укреплением Аварского каганата. Однако история распорядилась иначе. Лангобардское государство, погрязшее в борьбе профранкской кафолической и арианской партий, а также в соперничестве крупных герцогств, в середине VII в. вошло в полосу политической нестабильности. В лангобардские усобицы оказались втянуты сначала авары, а затем, с неизбежностью, и их враги хорутане. В 662 г. лангобардский престол в Павии захватил герцог Беневенто Гримоальд — младший брат и преемник упоминавшегося ранее знатока славянского языка Радоальда. Ревностный арианин, вступивший на трон через труп короля-кафолика, Гримоальд сразу же показал себя противником и франков, и Империи. Впрочем, вина за это лежала и на императоре Константе, который, отчаявшись в войне с арабами, порешил перенести столицу в Сиракузы и начать отвоевание у «варваров» Италии. Выходец из Фриуля, Гримоальд неплохо представлял себе весь расклад сил у северо-восточных рубежей королевства. Он не питал ни теплых чувств, ни доверия к аварам, некогда убившим его отца Гизульфа. Но, будучи политиком умудренным годами, хладнокровным и запредельно циничным, Гримоальд охотно использовал их против своих врагов. Авары были врагами Византии — и это обусловило союз между ними и Гримоальдом. Когда в 664 г. против Гримоальда восстал герцог Фриульский Луп, король бестрепетно обратился за помощью к кочевникам, призвав авар в пределы собственного королевства. Тогдашний каган откликнулся на приглашение с радостью. Население каганата вновь росло, силы увеличивались. Заявить о себе, а заодно и приобрести новые земли не мешало. Впервые за три последних десятилетия авары осмелились начать большую войну. Вторжение произошло вдоль южных границ Хорутании, через спорную Истрию. Фриульцы не смогли тягаться с противником, неожиданно явившимся из далекого прошлого в полноте новообретенной мощи. Герцог Луп погиб, его земли были разорены дотла. Каган намеревался — теперь уже вопреки интересам Гримоальда — остаться во Фриуле и завладеть им. Но король, родным герцогством все-таки дороживший, убедил авар оставить Фриуль ему и убраться восвояси. Сын Лупа, Арнефрид, провозгласил себя было герцогом Фриуля. Но на смену аварским ордам во Фриуль двигалась королевская армия. Сил для сопротивления не имелось. Арнефрид предпочел бежать — и убежище нашел в Крнском граде.[1479] Хорутане, разумеется, пристально следили за происходящим. Для возглавившего их тогда только что нового князя, сына Само, авары являлись кровными врагами. Да и для всего его племени — хорутане едва ли забыли времена ига. Новое усиление каганата прямо угрожало славянам. А значит, и король Гримоальд, приведший авар в близкие земли Фриуля, союзник кочевников, усиливавший их в собственных корыстных интересах, превращался в опасного противника. Стоит помнить, что никакого мира между лангобардами и славянами со времен Само формально не заключалось. Так что беглец Арнефрид получил в Крнском приют — а затем и подмогу. Хорутане собрали в помощь наследнику герцогской власти войска и около 665–666 гг. направили их во Фриуль. Они намеревались утвердить в герцогстве Арнефрида. Это обеспечило бы Хорутании прочный союз с Фриулем и оторвало бы Гримоальда от его аварского союзника, поставив предел возрождаемому могуществу каганата. Однако фриульская знать (как, впрочем, и массы фриульского населения) Арнефрида не ждали. Земляк-король, умело спровадивший авар, пользовался достаточной поддержкой. Особой же разницы между славянами и аварами здешние жители не видели. Одного «варварского» нашествия с них вполне уже хватило. В 22 км от столицы герцогства Фороюли (Цивитас Аустриа, ныне Чивидале-дель-Фриули), у пограничной крепости Немас (ныне Нимис), хорутан и Арнефрида встретили фриульцы. В происшедшем сражении славяне были разгромлены. Арнефрид погиб, так и не увидев вновь стен герцогской резиденции.[1480] На место погибшего Лупа Гримоальд поставил в родное владение герцогом Вехтари из Виченцы, «мужа доброго и народом правившего мягко». Он и предводительствовал под Немасом — во всяком случае, хорутане после этого его знали и весьма опасались как умелого воина. Для мести за своих погибших и удара по покорному теперь королевской власти Фриулю они выбирали момент отсутствия нового герцога. Наконец, прознав, что Вехтари отправился далеко на запад, в Павию, хорутане вновь собрали рать — «многочисленные силы», около 5000 воинов. Их целью являлось внезапным нападением захватить все-таки Фороюли. На этот раз славянам удалось подойти к столице герцогства гораздо ближе. Двигаясь восточнее, чем в прошлый раз, они миновали границу на меньшем расстоянии от Фороюли и разбили лагерь чуть более чем в 10 км от нее, в Броксасе (ныне Брискис). Отсюда их передовые отряды выдвинулись вдоль реки Натизоне на юг, ища удобной переправы на левый восточный берег, к Фороюли. У древнеримского моста в 6 км от Фороюли хорутане завидели на противоположном берегу небольшой вражеский отряд — примерно 25 человек. Зрелище сначала их развеселило. «Это патриарх с клириками двинулся против нас», — смеялись славяне. Однако, приблизившись к мосту, предводитель лангобардов снял шлем и «показал славянам свое лицо». Это был Вехтари, нежданно вернувшийся из Павии и выехавший на разведку навстречу врагу. По лысой голове герцога узнавали издали. Славян обуяли «смятение» и «страх» — от неожиданности вполне объяснимые. С криком «Здесь Вехтари!» вышедший к мосту отряд обратился в бегство. Паника, раздувшая, конечно, численность герцогской дружины, передалась другим хорутанам — они «думали больше о бегстве, чем о сражении». Вдохновленный Вехтари погнал за славянами и перебил сколько-то бегущих. Хотя лангобардскому преданию отказывает чувство реальности. В нем говорилось, будто Вехтари с 25 воинами «учинил им такую резню, что из пяти тысяч мужей уцелели лишь немногие, спасшиеся бегством».[1481] Можно поверить в распавшееся и убегающее во внезапной панике от небольшого отряда войско — но трудно поверить в наличие у этого отряда физических сил истребить большую его часть. Как бы то ни было, это нелепое поражение закончило войну. Хорутане больше не тревожили при Вехтари и его ближайших преемниках границы Фриуля. Теперь им приходилось уделять больше внимания защите собственных рубежей от давления авар. Тем более что смерть прежнего правителя и военные поражения привели к уходу из Хорутании болгарина Альцека и его возросшего за три десятка лет воинства. Альцек не участвовал в набегах на Фриуль. Следует помнить, что аварскому кагану теперь служил его брат Кувер. Для увеличившихся в числе болгар в Хорутании не хватало места. После победы Вехтари Альцек решил избрать сторону сильнейшего. В конце 660-х гг. болгарский хан «со всем подвластным ему войском» предал некогда давших ему приют славян и откочевал в Италию, к Гримоальду. Альцек обещал лангобардскому королю, «что будет ему служить и жить в его стране». Гримоальд выделил болгарам земли в своем прежнем уделе Беневенто.[1482] Впрочем, верность Альцека лангобардам продлилась тоже не дольше жизни лично принявшего его правителя. В 671 г. Гримоальд умер, и власть вернулась к кафолической партии во главе с королем Перхтари из баварского рода Агилольфингов. Альцек тогда предпочел искать счастья на службе Империи, к миру с которой Перхтари все равно склонялся. В 670-х гг. Альцек переместился в окрестности Равенны, обязался служить и платить дань ромеям — чем и занимался до конца своих дней.[1483] Уход болгар, конечно, ослабил молодое Хорутанское княжество. Он помешал хорутанам продолжать завоевательную войну во Фриуле. Тыл против авар теперь приходилось обеспечивать самим. Однако в борьбе оборонительной, за свою независимость против Аварии, хорутане выстояли. Их княжество не только обеспечило свободу себе. Оно на протяжении десятилетий преграждало возрождающемуся каганату путь на запад, став одним из важнейших политических факторов в Центральной Европе. Между Империей и ее врагамиНесколько иной оказалась в те годы политическая позиция югославянских княжеств. Поход имперских войск в 658 г. в Македонию не мог не насторожить славянскую знать. Империя демонстрировала теперь уже не просто жизнеспособность — но желание вернуть утраченное. Более того, она ясно дала уразуметь, что для исполнения этого желания имеет силы. Понятно, что недовольны остались славяне Македонии, разгромленные и ослабленные. Но еще больше беспокойства за будущее действия императора Константа вызвали у соседей македонцев в Северном Иллирике — сербов, дуклян, хорватов. Первые же значительные неудачи Империи показали это. Арабы продолжали наступать на границы ослабленной прежними войнами Византии. Вслед за Сирией, Палестиной, Египтом мусульмане вторгались теперь и в Малую Азию, угрожая самым подступам к столице. В 664–665 гг. азиатские провинции подверглись нападению арабской армии под командованием Абдаррахмана бен Халида. Абдаррахман разорил «много областей» в восточной части Малоазийского полуострова. Ромеи попытались выставить против Абдаррахмана выселенных в Вифинию славян. Кончилась первая же попытка использовать их против арабов плачевно. Пять тысяч славян перешли на сторону Абдаррахмана и попросили расселить их во владениях Халифата. Вернувшись после зимовки на ромейских землях в Сирию, Абдаррахман поселил новых подданных халифа в селении Селевковолис близ Апамеи. Тем самым он положил начало разросшимся позже сирийским поселениям славян.[1484] Эти события стали первым толчком к славянскому брожению на Балканах. Император Констант между тем перебрался в Сиракузы и пытался управлять Империей оттуда. Пытался не слишком успешно — оскорбленная константинопольская знать роптала и плела интриги. То и дело возникала опасность мятежа. Наконец, в 668 г. император был убит в бане одним из своих придворных. За этим последовала короткая вспышка гражданской войны, отвлекшая на время внимание нового императора Константина IV и от арабов, и от балканских дел. Именно тогда и отложились от Империи «обитатели западных краев» — то есть граничившие с ней на западе славянские племена.[1485] Сербы, хорваты и дукляне, тем более славяне Македонии и Эллады ясно увидели, что трон императоров колеблется. Натиск арабов на Востоке уже сулил, как казалось, освобождение от посягательств Империи. Притязания самого Халифата и порядки в нем едва ли были славянским вождям известны. Вместе с тем Халифат был далек и общение с ним затруднено. Очевидным и давним врагом Византии зато являлся вновь искавший пути к усилению Аварский каганат. За минувшие годы в отношении южных хорватов и сербов к аварам многое изменилось. Ушли поколения, помнившие кровопролитную борьбу. Накал противостояния авар со всем славянским миром, конечно, смягчила и кончина Само. В жилах хорватов и сербов (особенно хорватов) текла и аварская кровь. Авары входили в хорватский союз племен, и их баян стал вторым лицом в Хорватском княжестве. Так что препятствий к союзу практически не оставалось. Тем более что тягаться с самими хорватами и сербами каганат в одиночку не смог бы. Более южным славянам зависимость от кагана не угрожала уже вовсе. Итак, в начале 670-х гг. на западных границах Империи сложился широкий антивизантийский союз. К аварскому кагану и лангобардским герцогам присоединились славянские князья («архонты», «риксы») и «экзархи» (воеводы? жупаны?). Даже смерть Гримоальда в 671 г. не помешала сохранению этого союза. Перхтари трудно было сразу найти путь к миру с Империей, а герцоги за несколько лет нестабильности и религиозного раскола привыкли к известной самостоятельности. Кагана и славяне, и лангобарды вновь признали общим вождем на время войны. В его ведении находилась не только воеводская власть, но и дипломатическая инициатива от имени союзников. Авары, конечно, имели и дальше идущие замыслы. Заключенные Ираклием пакты со славянами оказались расторгнуты. В Сербии и Хорватии не преминуло бы произойти и масштабное вероотступничество — однако события опережали расчеты и кагана, и славянских князей. Военные действия начались, но шли настолько вяло, что почти не отразились в византийских хрониках. Главной заботой для Константина оставался Восток. В Европе же, при тяжелом положении Италии, балканские города пострадали в этот раз мало. Конечно, при желании можно отнести к этому времени широко датируемое падение некоторых из них (например, Аргоса). Или, скажем, действие дуклянского предания о ненавистнике далматинских христиан «короле» Всевладе, сын которого Силимир будто бы с ними примирился при условия уплаты дани.[1486] Однако факт останется фактом. Ничего похожего на события начала или середины VII в. западные славинии в этот раз не предпринимали. Князья, еще недавно «союзные» Константинополю, теперь выжидали — в отличие от своих увлеченных войной аварских и лангобардских соратников. Между тем ситуация резко изменилась, оправдав такую выжидательную тактику. В 673 г. византийцы применили против арабского флота только что изобретенное новое оружие — горючую смесь, получившую отныне название «греческого огня». Это самое страшное боевое средство средневековья сразу обеспечило Империи превосходство на море. В 678 г. ромеи высадились в охваченном христианским восстанием Ливане. Халифат сдался. Халиф Муавия принял в Дамаске византийское посольство и обязался платить Империи ежегодную дань. После этого каган не мог уже полагаться на своих союзников. И лангобарды, и славяне были напуганы происшедшим. Вести о победе Константина над арабами означали вероятность новых походов на Запад. Блистательное же окончание войны, как будто, показывало наличие у Империи сил для таких походов. Те же, по сути, причины, что возбудили в славянских князьях недоверие к Константинополю, теперь побуждали их задобрить оказавшегося слишком сильным врага. Что до лангобардов, то они сплотились вокруг франкофила и кафолика Перхтари, который давно хотел покончить с войной. В том же 678 г. каган по совещании с союзниками отправил в Константинополь большое посольство. В нем были представители и славянской, и лангобардской знати, говорившие от имени своих князей, жупанов и воевод, короля и герцогов. Константину поднесли щедрые дары. Послы просили «даровать им благодать мира». Константин, вопреки их опасениям, разрастания новой войны совершенно не желал, и потому мир утвердил.[1487] Сербы, хорваты и дукляне стали вносить Империи какую-то плату за земли, на которых жили.[1488] Мир с Империей благотворно сказался на распространении христианства. Теперь из Хорватии и Сербии оно проникало уже и в Дуклю, а может, и в Македонию. Папа Агафон в послании VI Вселенскому Собору 680–681 гг., осудившему монофелитство, требовал постоянного осведомления своих епископов о решениях Восточной Церкви: «Дабы наше решение было вынесено ото всего сообщества смиренного собора нашего, чтобы часть не оказалась в неведении, если известия о совершаемом будут идти в одну сторону, в особенности тогда, когда среди народов и лангобардов, и славян, а не только франков, готов и бриттов большинство признают, что они из наших собратьев. А они не перестают интересоваться этим, чтобы быть осведомленными о том, что совершается в делах веры апостольской».[1489] Итак, наравне с отвергшими при Перхтари арианство лангобардами Агафон среди новой своей паствы называет и крещеных славян. Ясно, что речь идет о входившей в римскую юрисдикцию Адриатике — к западным славянам и хорутанам христианство пока едва проникало. После мира с Византией 678 г. уже «большинство» адриатических славян, по данным папы, приняло крещение. В их землях служили епископы (Ираклий и Гонорий, как мы помним, учредили в Хорватии две епархии) и священники на местах. Более того, Агафона можно понять и так, что среди священников имелись славяне родом. Собственно, странно было бы, если б за прошедшие несколько десятилетий таковых не появилось. Славянские священники, трудившиеся среди полуязыческого народа, естественно, выражали беспокойство в связи с церковной смутой, отдалившей Рим от пока монофелитского Константинополя. Новокрещеная знать, столь же естественно, интересовалась истинами принятой веры и сложными вопросами их толкования. Так что в отношении как их, так и лангобардов попечение Агафона являлось вполне оправданным. Расселение влаховПока в Иллирике сплетались непростые перипетии отношений местных славиний с Империей, север бывшего диоцеза Фракия как будто выпадает из поля зрения ромеев. Существовавший здесь племенной союз Семи родов во главе с северами не тревожил границ Византии. Последние ромейские города в Северной Фракии давно пали, так что никто не тревожил Константинополь и просьбами о помощи. Северы и их союзники, закрепившись на новых землях, избрали по отношению к прежним врагам тактику разумного нейтралитета. Со струмлянами и ринхинами они вроде бы состояли в союзе,[1490] однако практически в событиях середины VII в. данный союз никак не проявился. Это при том, что южные пределы Семи родов соприкасались с провинцией Европа — самыми окрестностями византийской столицы. Нейтралитет фракийских славян отчасти связан с новой проблемой, с которой они столкнулись около того же времени. Проблемой этой стало переселение влашских племен. Происхождение влахов — предков современных восточнороманских народов — предмет длительных научных споров. Понятно, что в низовьях Дуная по обе его стороны имелось местное романизированное население, потомки фракийцев и даков, данубии. Эти восточные «волохи», с одной стороны, с V в. тесно общались с расселявшимися здесь славянами, с другой — оставили румынам немалое культурное наследие. Влахи, согласно «Советам и рассказам» византийского полководца XI в. Кекавмена, числили в своих предках покоренных императором Траяном даков и фракийских бессов.[1491] Правда, предвзятый к влахам Кекавмен предпочел умолчать, что предки их также — и легионеры самого Траяна, эпического героя румын. Это, однако, отразил другой средневековый ромей, историк XII в. Иоанн Киннам. Согласно упоминаемому им преданию, предки влахов некогда вышли из Италии.[1492] Однако при всем том, по тому же сообщаемому Кекавменом преданию, прародина собственно влахов располагалась «близ рек Дуная и Саоса, который ныне мы называем Савой, где теперь живут сербы в безопасных и недоступных местах».[1493] Иными словами, на крайней юго-западной периферии Дакии, существенно севернее и западнее древних земель фракийских бессов. Именно оттуда влахи расселились впоследствии. Все это неплохо соотносится с историей восточнороманских языков. Общий восточнороманский (иногда именуемый «прарумынским») язык сложился, как часто полагают, в VI–VIII вв. вне тесных контактов со славянскими.[1494] Следовательно, сложился он не в Нижнем Подунавье, плотно заселенном тогда славянами. Творцы этого языка — не данубии, которые вместе со славянами создавали ипотештинскую и попинскую культуры. Тесные мирные контакты с южными славянами отражаются в «прарумынском» языке только с IX в. По крайней мере, это касается северо-восточной, «дако-румынской» его ветви. Значит, только в VIII–IX вв. в складывание будущей румынской народности влились как славяне, так и испытывавшие вековое воздействие славян данубии. Общие предки румын и влахов южных Балкан такого воздействия не испытывали. Следовательно, они действительно пришельцы из областей выше по реке, лишь смешавшиеся со своими нижнедунайскими сородичами. Особый влашский этнос, положивший начало истории современных восточных романцев, сложился в пограничных областях Аварского каганата — в Потисье, на Трансильванском плато, в междуречье Савы и Дуная. Сюда переселялись выходцы из разных покоренных земель Балканского полуострова, как из Иллирика, так и из Фракии. Имелись здесь и местные романцы. Значительную или даже основную часть этих влахов составляли упоминаемые в «Чудесах святого Димитрия» сирмисиане. Эти жители округи Сирмия на нижней Саве (как раз той области о которой пишет Кекавмен!) расселились затем и на север от Дуная, в Потисье. Именно в Потисье обосновался болгарский хан Кувер, попечению которого вверил сирмисиан аварский каган.[1495] Смешение диалектов народной латыни различных балканских местностей привело к появлению нового языка, в который позже с легкостью вливались и иные романские говоры. Крах Первого Аварского каганата в начале 630-х гг., переселение сербов в район Сингидуна потревожили влахов. Используя возникшую на Балканах анархию, и в то же время гонимые ею, они начали сдвигаться к востоку и к югу. Одной из последних причин стала попытка кагана в середине VII в. упорядочить управление сирмисианами, поставив над ними Кувера. Разбредавшиеся из земель каганата влахи создавали никому не подчинявшиеся вольные дружины «разбойников» — скамаров. По Кекавмену, влахи уже в начале своей истории «рассеялись по всему Эпиру и Македонии, а большинство их поселилось в Элладе».[1496] Это были предки арумын и мегленорумын, тогда как оставшиеся на прародине «черные влахи» положили начало истрорумынам. В то же время какая-то часть влахов устремилась на восток вдоль Дуная, где неизбежно столкнулась с дунайскими словенами. Сложно сказать, насколько с этой группой связана предыстория собственно румын. Более определенно связана она с ее трансильванскими сородичами. Хотя восточные романцы и являлись отчасти потомками древних римлян, Великое Переселение народов превратило часть из них (а затем и почти всех) в кочевников, выбило из государственной системы. Они находились на том же уровне племенного строя, что и окружающие «варвары», с которыми обильно перемешивались. Сирмисиане в пределах Аварского каганата «смешались с булгарами, аварами и другими язычниками». Сохранив «обычаи и стремление рода к земле ромеев», они вместе с тем создали «новый народ». К приходу Кувера, в условиях нестабильности в каганате, они обрели уже статус полноправных подданных.[1497] В кочевой империи он был немыслим, скажем, для славян, возможен лишь при глубоком слиянии с кочевниками. Влахам, перешедшим в VII в. Саву, до образования государства предстоял путь более далекий, чем славянам. Правда, многие из них сохраняли интерес к христианству — и принимали при первой возможности крещение.[1498] Но цивилизованные ромеи воспринимали сирмисиан (и влахов) не иначе, чем как варваров или полуварваров. При столкновении со славянами на Нижнем Дунае разобщенность кочующих кланов скорее помогала. Союз Семи родов оказался не в состоянии противостоять ползучему расселению враждебных влахов. Так и сама Империя веком раньше не смогла остановить собственное проникновение славян в Малую Скифию. Происходившие конфликты с влахами оказывались для славян, как правило, неудачны. По мнению передающего дунайские предания русского летописца, «волохи напали на словен дунайских, и осели среди них, и чинили им насилие».[1499] К пришельцам, разумеется, нередко примыкали местные «волохи», данубии. Ведшие оседлую сельскую жизнь, они вместе с тем ощущали сродство с кочевыми влахами с запада. Ощущали это родство и не успевшие еще раствориться среди новых соседей фракийцы. В такой ситуации быстро перемещавшиеся влашские кочевья могли просто вселяться в отдельные смешанные села и через некоторое время начинать притеснения славян. В случае же возникновения реальной угрозы (в лице, допустим, княжеской дружины или племенного ополчения) кочевье могло столь же быстро перейти в новые места. Учитывая большую и возраставшую численность влахов, возможность присоединения к ним местных сородичей, борьба с ними для дунайского племенного союза оказалась весьма трудной задачей. Разрозненные влахи, впрочем, не сумели бы добиться решающих успехов без внешней поддержки. «Стремление рода к земле ромеев» двигало многими из них в расселении. Поэтому они обращались за помощью в утверждении на новых землях в Константинополь. Император Константин, конечно, с радостью ухватился за подобную возможность. Он вмешался в события не как полководец — о военных действиях во Фракии ничего не известно — а как высший судья, арбитр в межплеменных распрях. Семь родов в новой обстановке были жизненно заинтересованы в подобном посредничестве, которое хоть отчасти упорядочило бы отношения их с влахами. Результат был предсказуем. К концу 670-х гг. земли Северной Фракии «удерживались христианами» и находились как бы под покровительством Империи.[1500] Под «христианами» следует понимать местных влахов, которые потеснили и частично подчинили славян. Влахи старались удерживать дунайскую границу и платили — как и Семь родов — дань в Константинополь. Неясно, как развивались бы отношения между жителями Нижнего Подунавья в дальнейшем. Вернее всего, союз Семи родов ждала бы в итоге судьба славиний Эллады или, в лучшем случае, Македонии. Впрочем, и нижнедунайские влахи в этом случае едва ли превзошли бы своих южных и западных кочевых сородичей, подчинившись государственному организму возрождающейся Империи. Но как раз в эти годы в регион вступила новая сила. Болгарская орда хана Аспаруха перешла Днестр и вышла на подступы к дунайской дельте. Болгары на ДунаеАспаруху удавалось сдерживать хазарский натиск в течение примерно трех десятков лет. Но его теснили. В середине VII в. хазары, уже освободившиеся от власти тюркютов и строившие собственный каганат во главе с династией Ашина, прорвались в заднепровские степи. Аспарух со своей ордой вынужден был уйти за Днестр. Здесь антское население было плотнее, и хан имел довольно прочный оседлый тыл. Однако он искал более надежных, самой природой защищенных мест поселения. Нашел он их в низовьях Дуная, в долинах Прута и Сирета. Топкие земли Нижнего Подунавья были неудобны для не знающих местности кочевников при нападении — но хорошо служили в обороне. С севера поднимались Карпатские горы и протекал «венец рек» нижнедунайского бассейна. Здесь Аспарух на какое-то время расположил свою орду. Назвали местность в знак этого болгары «Аулом».[1501] Хазары, впрочем, продолжали угрожать из-за Днестра. Тогда Аспарух окончательно обезопасил свое местопребывание. Он нанес удар по занятому еще аварами «острову Певка» — дельте Дуная, выбил оттуда давних врагов и обосновался в этом труднодоступном месте сам. Авары бежали на запад, в пределы своего каганата.[1502] Славяне к северу от Дуная подчинились Аспаруху. Без их помощи и навыков наведения переправ ему вряд ли удалось бы завоевать у авар дельту, да и вообще самому закрепиться в недоступном для хазар «Ауле». Вожди северных дунайцев были особенно заинтересованы в союзе с Аспарухом ввиду влашских беспокойств и нового усиления Византии. Потому они, подобно антам за Прутом, согласились объединиться под властью болгарского хана. Во всяком случае, ни о каком насилии источники не сообщают. Но без насилия было не обойтись к югу от Дуная. «Уставив шатрами Истр», Аспарух стал приглядываться к задунайским землям. Скифия и Нижняя Мезия, населенные в значительной части славянами, представлялись ему надежным оплотом от напиравших с востока врагов и не менее надежным источником дохода. Быть может, вожди славян к северу от Дуная побуждали к тому же Аспаруха оттеснить от реки кочевых влахов. Это совпадало с интересами самого болгарского хана. Пока что болгары начали беспокоить задунайских обитателей своими набегами. Страдали от них, конечно, и влахи, и славяне. В 680 г. о разорительных набегах болгар стало известно в Константинополе. Самоуверенный из-за своих выдающихся побед, император Константин решил, наконец, сам двинуться с войском во Фракию. Экспедиция затевалась масштабная. В Европу перебросили тяжеловооруженные войска из Азии. К дельте Дуная отправился ромейский флот. Отряды болгар, бродившие по придунайским селениям, были ошарашены внезапным приближением огромного императорского войска. Когда оно появилось у Нижнего Дуная в боевом строю, а у берега показалась эскадра, болгары не решились принять бой. Они стремглав отступили в топи дельты, уже неплохо укрепленные Аспарухом. Армия и флот подступили к Певке и осадили болгарского хана. В болота дельты углубляться ромеи не рисковали. Это придало оборонявшимся болгарам смелости. На беду для ромеев, в четвертый день этой осады Константина свалили сильнейшие боли в ногах. Император поспешил отплыть для лечения в город Месемврия с его древними банями.[1503] Константин покинул осадный лагерь с ближней свитой и пятью боевыми кораблями. На прощание он приказал своим военачальникам продолжать осаду. Однако отплытие государя скрыть было трудно, и в ромейской коннице зародился слух, будто он бежал. Моментально распространившаяся ложная весть вызвала в среде ромеев суматоху. Первыми бросили осадный лагерь конники, за ними устремилось и остальное войско. Аспарух не преминул воспользоваться нежданным случаем. Болгары бросились вдогонку отступающим в беспорядке врагам, повергнув их в паническое бегство. Многие ромеи, настигнутые кочевниками, погибли, еще большее число было ранено. Преследование продолжалось до реки Варна близ Одисса (ныне — город Варна). Здесь Аспарух остановил своих воинов.[1504] Хан обнаружил, что Малая Скифия весьма удобна для поселения. С севера и с северо-запада ее прикрывал Дунай, с юга — Балканский хребет, с востока простиралось Черное море. Земли эти уже больше ста лет заселяли славяне, и именно они дали протекавшей на юге бывшей провинции реке Варне (Вране) ее имя.[1505] Большинство ромейских городов лежали в руинах, — и тени имперской власти в этих местах давно не осталось. Аспарух велел орде прикочевать в окрестности Одисса и устроил новую ставку здесь.[1506] За этим последовала быстро завершившаяся война с Семью родами и местными влахами. Далеко не все славяне Нижнего Подунавья, конечно, приветствовали приход болгар — тем более что воины Аспаруха некоторое время грабили их веси. Тем не менее в итоге Аспаруху удалось склонить противника к покорности. Славинии Мезии и Скифии сохранили автономию и собственных князей. Но союз Семи родов Аспарух раздробил. Подобно аварским каганам, он выделил славянам особые территории, в то же время переселив их с насиженных мест. На новых землях славяне должны были платить дань Аспаруху и прикрывать рубежи его ханства от врагов — авар и ромеев. Северов, сильнейшее из племен, хан поселил на границе ромейской Фракии — от ущелья Верегава в восточной части Балканского хребта до приморских областей. Остальные племена «Семи родов», выселенные из Скифии и восточной Мезии, переместились на запад, на границу Аварского каганата.[1507] Центром их оседания стала долина реки Тимок, где позже сложился подвластный болгарам племенной союз тимочан. Многие земли к северу от Дуная, в Мунтении, в результате действий болгар запустели.[1508] В то же время какая-то часть «семикорневцев» осталась там[1509] — тоже признав власть Аспаруха. Аспарух покорил и влахов. Их свободное расселение приостановилось. Перевод болгарским ханом славян с привычных мест в плотно занятые пограничные регионы лишил влахов возможности «садиться среди них». Влахов вытеснили на юг и на запад.[1510] Поселившись к югу от Балканского хребта, в ромейской Фракии, влахи постепенно поглотили местных фракийцев. Романцы же и фракийцы Нижнего Подунавья, — по крайней мере, оседлые, — в течение ближайших десятилетий почти полностью смешались со славянами.[1511] Новый приток влахов сюда произошел уже в VIII–IX вв.[1512] На Дунае под предводительством Аспаруха возникло мощное Болгарское ханство — достойный преемник Великой Болгарии. В его состав вошли земли как к северу, так и к югу от Дуная.[1513] Периодически к Аспаруху и его наследникам подходили из-за Дуная подкрепления — теснимые хазарами или бежавшие из-под их власти болгары. Соседи вынуждены были считаться с новой реальностью. С ромеями пока продолжалась война. Болгары теперь «стали опустошать деревни и городки во Фракии», «возгордились и стали нападать на находящиеся под ромейским управлением крепости и деревни, и порабощать их».[1514] В этих условиях соседи западные — сербы — предпочли заключить с болгарами мирный и союзный договор. Он действовал больше столетия, обеспечивая Болгарскому ханству спокойствие на западной границе. Распространялся он (или впоследствии распространился) на все племена сербского корня — во всяком случае, дукляне приписывали его заключение своему князю Владину Силимировичу, внуку Всевлада. Вместе с тем очевидно, что первыми договор заключили именно сербы из Рашки, непосредственные соседи захваченной Аспарухом Нижней Мезии.[1515] Это никак не помешало их пакту с Империей. Далекой от театра боевых действий Сербии удавалось в итоге поддерживать добрососедские отношения с обеими сторонами. Первоначальная ханская ставка к югу от Дуная — защищенная рвами и топями земляная крепость — располагалась в Никулицеле, чуть выше Певки по реке.[1516] Затем Аспарух, по преданию, избрал резиденцией Дристру (Доростол, ромейскую Силистрию), расположенную на Нижнем Дунае, в окружении славянских поселений. На восток от Доростола Аспарух обновил линию валов, прикрывавших теперь болгарскую орду от угрозы с юга до самого моря.[1517] Позднее хан решил перекочевать из Дристры в глубь завоеванной Мезии. На месте разрушенного во время войны с Семью родами или их последующего выселения славянского села, близ современного города Шумен, Аспарух возвел свою новую ставку. От прежнего славянского селения она унаследовала название — Плиска. Общая площадь ханской ставки — 23 км2, ее опоясывал ров длиной около 21 км. Ставка имела форму огромной трапеции с заключенной в ней второй, меньшей. Последняя отводилась собственно под резиденцию хана, вокруг же, но под защитой того же рва, располагались юрты его соплеменников и загоны для скота. В самом центре кочевого становища размещалось каменное укрепление — крепость за стеной из массивного известняка 3 км в периметре. Внутри крепости находились ханский дворец и другие здания из известняка или реже кирпича, баня, бассейны, вкопанные цистерны для хранения воды. Крепость явно строили пленные ромеи, опытные мастера. Помогали им кое в чем и местные славяне, некоторое число которых осталось жить в болгарской Плиске. Кочевникам-болгарам столь грандиозное строительство было пока не по силам.[1518] Изначально болгары старались не смешиваться со славянами. Болгарские становища кучно располагались в районе Плиски и далее к востоку и северо-востоку, до приморских областей и Дуная. Славяне же жили по отведенным им окраинам и вдоль Дуная, на обоих его берегах.[1519] Оба народа сохраняли культурную самобытность и почти не смешивались друг с другом. Складывание славяно-болгарской средневековой народности еще не началось. Но Аспарух — сам, может быть, полуант, — учитывал интересы и представления своих славянских подданных. В этом он принципиально отличался от аварских каганов. Славяне составляли явное большинство населения на покоренных землях, невзирая на всё новые вливания болгар. Долгий опыт общения со славянами привел Аспаруха к здравой мысли о сохранении их племенных княжений на условиях уплаты дани и защиты границ. Славянские племена тем самым изымались из сферы непосредственного контроля хана и его приближенных — боилов. Князья славиний подчинялись хану напрямую, минуя болгарских наместников отдельных земель — тарканов и жупанов. Учитывая славянские обычаи и верования, Аспарух после перехода Дуная стал по-славянски отпускать волосы вместо кочевнической стрижки наголо. Факту этому придавался столь большой идеологический смысл, что он специально отмечен в кратком «Именнике болгарских князей» — отделяя кочевых ханов от их дунайских потомков.[1520] Но для действительного слияния со славянской массой этого было, конечно, очень и очень мало. Напротив — обособленность независимых славиний только мешала превращению Болгарского ханства в славянское государство. Сама возможность этого закладывалась с самого начала — давним смешением болгар и славян, тягой болгар к полуоседлой жизни. Но время не пришло. Болгарское ханство VII–VIII вв. славянским государством еще не являлось. Конечно, славянам жилось в нем гораздо легче, чем в Аварском каганате. Но подчинившиеся Аспаруху славинии все же оставались под инородным владычеством, и именно так оно славянами и воспринималось. В памяти русских соседей это восприятие сохранялось и в начале XII в. — когда южные славяне уже не противопоставляли себя болгарам и рассматривали их как тех же славян.[1521] Итак, история Болгарского ханства еще не стала частью истории Славянской Европы — но судьбы целого ряда ее племен оказались сплетены с судьбой новой кочевнической державы. В этом сплетении медленно, век за веком, и выстраивалось будущее единство. Эпоха Великого Переселения для славян завершалась. Рождение Дунайской Болгарии стало как бы последним ее аккордом. Карта более или менее стабилизировалась, смятенное движение племен затихало. Славянский мир теперь простирался от Средиземного до Балтийского моря, от Лабы до Десны. Наступало новое время — закрепления границ (впрочем, все продолжавших расширяться на северо-восток), непростой защиты независимости. Уже появились первые из будущих средневековых государств Славянской Европы — Сербия, Хорватия, Дукля, теперь и Болгария. А вместе с ними — множество исчезнувших позднее по разным причинам, но тогда более или менее сильных славиний от Прибалтики до Эллады. Можно говорить о первых зародышах Чехо-Моравии, Краковской Польши, Киевской Руси. Пусть пока непрочно, но кое-где прививались ростки христианской веры и церковности. В следующий период — в разное время, при разных обстоятельствах, под различными влияниями или почти без таковых — славянство вступает на дорогу к цивилизации средневековья. Часть 4Глава первая. Болгария, Македония, ЭлладаБорьба за МакедониюВ 680 г. на политической карте Балкан появилось новое государство — Болгарское ханство Аспаруха. Империи, после временных успехов, пришлось отныне считаться с этой грозной реальностью. Славянские же племена оказались вовлечены в водоворот противостояния между Византией и болгарами. Уже в первые годы после нашествия Аспаруха противостояние это вышло за пределы придунайских областей Фракии. Аспарух в течение примерно года продолжал грабительские набеги на остававшиеся под ромейским контролем фракийские земли. В конечном счете император Константин вынужден был вступить в переговоры о мире. По устоявшейся печальной традиции, «варварам» надо было платить. На условии выплаты ежегодной дани Аспарух согласился прекратить военные действия. Мир заключили в начале августа 681 г.[1522] Однако беспокойства, причиняемые Константинополю болгарами, на этом не завершились. Пример Аспаруха оказался заразителен для других болгар — в том числе для обосновавшегося в Паннонии Кувера. Его взор теперь тоже обратился к границам Империи. Неясно, насколько последующие события были действительно связаны с действиями Аспаруха во Фракии. Но последовали они сразу за возникновением Болгарского ханства. Отрицать здесь взаимосвязь — хотя бы на уровне подражания успеху сородича — странно. К описываемому времени Кувер уже не один десяток лет правил своими болгарами и сирмисианами. Сирмисианами именовались потомки людей, принудительно выселенных каганом в конце 610-х гг. из опустошенных балканских провинций Империи. Первоначально место их проживания в каганате располагалось в Сирмии и округе. Но к 680-м гг. сирмисиане жили уже и к северу от Дуная. Здесь, в землях по Тисе, располагалась и ставка Кувера.[1523] Ранее уже говорилось, что сирмисиане — в числе наиболее вероятных предков позднейших балканских влахов. Население Потисья было довольно пестрым. Среди местных жителей имелись и кочевники, и гепиды, и славяне. Подобно другим кочевым державам, Аварский каганат строился на четком определении прав и обязанностей каждого народа, на четком отведении ему того или иного места в строгой иерархии — во главе с аварами. Влахам-сирмисианам удалось в этой иерархии подняться наверх. Они получили личную свободу, смешались с кочевниками — аварами и болгарами.[1524] Вместе с новыми свойственниками сирмисиане угнетали данников-земледельцев — в первую очередь, славян. Память о том, что «волохи» господствовали над славянами к западу от Карпат, сохранялась в славянских преданиях.[1525] В среде влахов выделилась на аварской службе собственная знать. Типичным ее представителем был человек с латинским именем Мавр — «один из архонтов», то есть племенных вождей при Кувере.[1526] В жилах Мавра текла и болгарская кровь.[1527] Автор «Чудес святого Димитрия», который должен был знать Мавра лично, описывает его так: «выдающийся и коварный во всем и знающий наш язык [греческий] и язык ромеев [латинский], славян и булгар, вообще искусный во всем и исполненный всяческой дьявольской хитрости».[1528] Мавр отличился на службе кагану, в том числе и в войнах с ромеями. В то время «он никогда не хранил верности, но всегда из-за ничтожества, клятвопреступности и коварства поступая наихудшим образом, разорил многие места и народы».[1529] Мавр был богат, владел зависимыми «людьми» и по кочевническому обычаю имел нескольких жен.[1530] Однако подобные вожди, прославившиеся службой кочевникам, были скорее исключением в своем народе. Сирмисиане остро ощущали свою зависимость от авар. Среди них оставалось немало христиан, и число их постепенно возрастало. Стремление сирмисиан вернуться на родину предков было почти всеобщим. Разумеется, узнал об этом стремлении и о недовольстве властью кагана со временем и приставленный управлять влахами Кувер. Ему, как и влашской знати, здесь представлялся случай самому освободиться от власти кагана.[1531] Примерно в том же 681 г.[1532] Кувер, наконец, решился восстать. Обстановка для этого складывалась как нельзя лучше. Только что Аспарух нанес поражение аварам в Нижнем Подунавье и выбил их из дельты. Переселенные Аспарухом славяне Семи родов встали заслоном между новым Болгарским ханством и каганатом. События, произошедшие за Дунаем, вдохновляли болгар на освобождение от аварского владычества, побуждали искать новых земель на Балканах. С другой стороны, они не могли не вызвать охлаждения между аварской верхушкой каганата и болгарскими вождями. 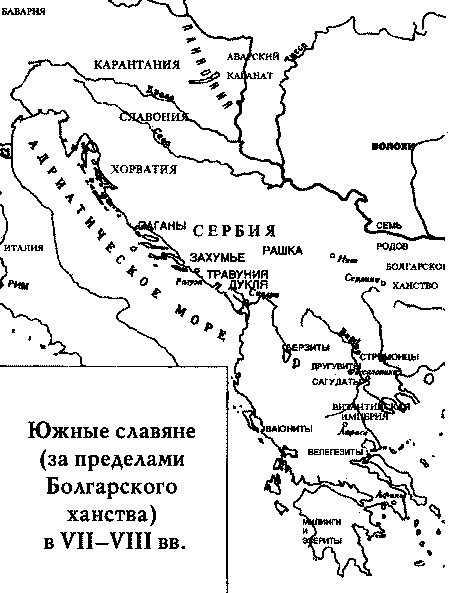 Кувер открыто отказался подчиняться власти кагана. Собирая болгар и сирмисиан «с имуществом и оружием», Кувер двинулся на юг, к Дунаю. Каган погнался за мятежниками. Вновь в каганате разразилась болгаро-аварская война. «В пяти или шести битвах» Кувер нанес аварам поражения. Последняя произошла при самой переправе через Дунай. Понеся сокрушительные потери, каган с остатками аварских войск обратился в бегство и ушел на север, в Паннонию. Кувер переправился через реку и вступил в желанные пределы Империи.[1533] Эти события привели к новому катастрофическому упадку Аварского каганата. Лишь через пару десятков лет авары — теперь уже «Второго каганата» — вновь решились беспокоить соседние народы. Кувер же, благополучно пройдя через полупустынные придунайские земли до Македонии, остановил свою многочисленную орду на Керамисийском поле — в районе Прилепа.[1534] Здесь, однако, в среде подданных Кувере началось вполне закономерное размежевание. Христиане, а по их примеру и прочие сирмисиане, стали понемногу разбредаться по византийским городам. Кто-то отправился за надежные стены не слишком далекой Фессалоники, кто-то искал пути в Константинополь, кто-то же стремился вернуться в уцелевшие фракийские города.[1535] Все это совершенно не входило в планы Кувера и окружавшей его кочевой знати — как болгарской, так и влашской. Кувер рассчитывал создать в Македонии собственное государство и строить отношения с Империей по образцу Аспаруха. Верхушка переселенцев собралась на совет и постановила — «никто из них не должен уходить в желанные места, но самому Куверу владеть всеми смешанными пришельцами и стать им архонтом и хаганом». Если Кувер просто покорится императору, разумно рассуждали приближенные, — «тот возьмет у него весь народ и распустит, а его лишит власти».[1536] Тем не менее Кувер нуждался в пропитании для своих людей. К северу от Дуная пропитание это обеспечивалось окрестными земледельцами-славянами. Новоявленный каган решил воспользоваться этим же способом и на имперских землях. Отправив все-таки посольство к императору Константину, Кувер «попросил» у него разрешения остаться на землях Империи. Понятно было, что после поражения во Фракии у Империи нет сил не согласиться на эту «просьбу». Бесплатно снабжать орду провиантом, «продовольствием в достаточном количестве», Кувер «просил» обязать македонских славян, дреговичей. На все эти довольно унизительные требования только что заключивший еще более позорный мир с Аспарухом император согласился.[1537] Что касается самих славянских князей, то у них особого выбора не было. Македонские славяне, конечно, восстанавливали уже силы после разгрома 658 г. Но Фессалонику они пока тревожить не пытались. Память о карательном походе Константа еще была жива. Так что императорский приказ явился для дреговичей достаточно веским аргументом. Но и помимо него бороться против победоносной рати Кувера для разрозненных славянских «княжений» означало бы гибель. Итак, дреговичи покорились. Влахи и болгары практически не смешивались в те годы со славянами. Они просто группами «приходили за съестным в хижины славян» и забирали его.[1538] Конечно, дреговичи встречали «насельников» не с распростертыми объятиями. Вскоре жить в близости от угнетаемых славян стало опасно. Славяне сами теперь угрожали завоевателям. Это только усиливало желание влахов бросить орду и перебраться в ромейские города.[1539] Влахи, более близкие к славянам по жизненному укладу, общались с ними во время сбора дани чаще, чем болгары. Это общение какое-то время ускользало от взора людей Кувера. Между тем «многие» влахи расспрашивали славян о расположении и состоянии Фессалоники. Поняв, что город по-прежнему силен и находится неподалеку, влахи целыми семьями начали перебегать в Фессалонику — вопреки запрету своего кагана. Всех перебежчиков эпархи Фессалоники отправляли на кораблях в Константинополь.[1540] Кувер и его окружение, осознав новую опасность, разгневались. Однако они и решили воспользоваться ситуацией в своих интересах. На тайном совете Мавру было поручено перебежать в Фессалонику с верными людьми, разжечь в городе смуту и сдать его Куверу. Кувер намеревался перенести в Фессалонику свою столицу, покорить всю Македонию, а затем выступить против Константинополя. Покорение славян с их прославленным флотом позволило бы совершать набеги на острова Эгейского моря и даже азиатский берег.[1541] Мавр перешел в Фессалонику. Правители города наилучшим образом аттестовали его перед императором, а тот пожаловал ему титул консула (ипата). Все перебежавшие от Кувера сирмисиане были подчинены Мавру. Отныне их оставляли в Фессалонике под его началом. Его солдатам назначили содержание за счет казны. Он разделил его на сотни, полусотни и десятки, поставив офицерами своих сообщников, опытных воинов. Кое-кто из влахов пытался разоблачить Мавра перед властями. Но влашская знать была с ним заодно. Узнав о попытках разоблачения, Мавр велел обезглавить обвинителей, а их семьи продать в рабство. Это наложило печать на уста даже знающим или догадавшимся о заговоре. Располагавший все возрастающей за счет новых перебежчиков воинской силой Мавр стал почти что хозяином Фессалоники.[1542] Мавр назначил мятеж на канун Пасхи. В ночь на Воскресение он велел поджечь «некоторые известные места» и в начавшемся смятении захватить город. Однако в Великую Среду неожиданно в город прибыл со всеми своими кораблями ромейский стратиг Сисинний, командовавший созданным для борьбы с арабами флотом «карависиан». Император отправил его в Фессалонику для охраны города — на случай, если Кувер решится напасть и силой вернуть Мавра с его людьми. Таким образом, каган и его приближенный перехитрили сами себя. Перепуганный Мавр сразу по прибытии флота слег в лихорадке. Лишь через «много дней» его выходили — не без участия заботливо опекавшего его Сисинния. Ромейский адмирал, естественно, о провалившемся заговоре и не подозревал.[1543] Когда Мавр встал с постели, Сисинний приказал его людям, а также своим морякам встать лагерем к западу от города. Этот лагерь должен был привлекать сирмисиан, спасавшихся от Кувера, и от недовольных гнетом славян. «Много дней» Сисинний и Мавр собирали стекавшихся беженцев.[1544] Сколько времени заняли все описанные события, не совсем ясно. Неясно и то, о Пасхе какого года идет речь в «Чудесах святого Димитрия». Однако есть основания полагать, что это была уже Пасха 685 г., когда умер император Константин и на престол уступил его сын Юстиниан II.[1545] Случилось это уже после Пасхи — 10 июля. Новый император, не доверявший договоренностям с «варварами», отправил в Фессалонику приказ — перевезти Мавра и его беженцев в Константинополь. Кораблей Сисинния для этой цели не хватило, и из столицы отправили еще суда. В Константинополе Мавра приняли добром. Он получил титул «патрикия и архонта сирмисиан и булгар». Людей его разместили на Стримоне — вновь на славянских землях, но теперь на более покорных.[1546] «Скифы» влашского и болгарского происхождения должны были и обеспечивать покорность славян, и прикрывать Македонию от возможного нападения Аспаруха. Юстиниан, грезивший лаврами своего великого тезки, уже готовился нарушить заключенный с ханом мир. Для теперь уже византийского патрикия Мавра настало, казалось бы, время благополучия. Он получил имение где-то во Фракии, а также родовую фамилию «Бесс». Дана она была то ли по влашскому происхождению, то ли по месту нового поселения. Мавр Бесс мог забыть об обязательствах, взятых перед Кувером. Но, кажется, не забыл. Неверен Мавр был только ромеям. Теперь же сам едва не пал жертвой предательства. Вскоре после переселения собственный сын Мавра донес императору не только о былом заговоре против Фессалоники, но и о том, что отец готовил покушение на монаршую особу во Фракии. Юстиниан, убедившись, что Кувер не тронул ничего из имущества «перебежчика», да еще и воздает более высокие почести его женам, признал вину Бесса. Тем не менее смертной казни Мавр избежал. Он был лишь смещен с должности и заключен в тюрьму.[1547] Тем не менее Юстиниан не намеревался спускать обиды Куверу. Он объявил о разрыве мира с болгарскими ханами. Первый удар ромеев обрушился именно на Македонию. В сентябре 688 г. императорское войско выступило в поход на запад. Перебросив конные части во Фракию, Юстиниан сам во главе их вторгся в земли струмлян. Здесь ему «случайно» встретилось войско болгар. Кувер не оставлял надежд распространить свою власть на Македонию, но успех сопутствовал императору. Болгары были отброшены. Император с боем пробился до Фессалоники, громя по дороге как болгарские, так и славянские отряды. Впрочем, не все славяне, несмотря на свои «великие полчища», рискнули меряться силой с Юстинианом. Для них, ничем перед Империей не провинившихся, вторжение жаждущего крови василевса явилось полной неожиданностью. Кто-то пытался сопротивляться, но другие предпочли запросить мира на условиях ромеев. Повсюду в Македонии императору сопутствовал успех. Вступив в Фессалоники, Юстиниан, связывавший свою победу с помощью святого Димитрия, первым делом одарил его храм доходами от местного соляного промысла.[1548] Затем он распорядился делами побежденных славян. Часть их, — прежде всего перешедших в его власть добровольно или готовых присоединиться к его войску, — он решил по примеру деда выселить из Македонии. Переправив их из Фессалоники в азиатский Авидос, он велел им расселиться в феме Опсикий. Там, на северо-западе Малой Азии, уже жили славяне, расселенные Константом. Запамятовав о печальном дедовском опыте, Юстиниан вновь намеревался использовать славян против арабов. Впрочем, на этот раз он вроде бы имел дело с «добровольными» переселенцами, которых возглавляли собственные вожди, «более благородные».[1549] В Македонии Юстиниану сопутствовал видимый успех. Немудрено — императору здесь пришлось иметь дело с разрозненными, к тому же не ждавшими столь мощного нападения племенами. Совсем иначе пошли дела, когда на обратном пути от Фессалоник в начале 689 г. Юстиниан решил испытать на прочность южные границы ханства Аспаруха. В горной теснине болгары заперли ромейское войско. Произошла настоящая «резня». Сам император еле спасся, получив «многочисленные ранения». Так грандиозный, уже восхваленный самим императором в Фессалонике поход закончился сокрушительным поражением.[1550] Но Юстиниан, не смиренный поражением в Болгарии, готовился к новой войне. Борьба его отца с арабами кончилась победоносно, и мир был более чем выгоден ромеям. Но по истечении срока договора в 687–688 гг. Юстиниан начал военные действия. После первых неудач и поражения от болгар император заключил было мир. По этому договору арабы, оставшись «данниками» Империи, вместе с тем получали всю Сирию, Ливан, а также половину налоговых поступлений с Кипра и Армении. Обустроив славян Македонии в Малой Азии и оценив их число, Юстиниан решил нарушить мир с опорой на свежие силы. С конца 690 г. начались столкновения, но с официальным расторжением договора император не торопился. В конце 691 — начале 692 г. из славян Вифинии сформировали и вооружили за счет имперской казны «отборное войско». Так его назвал сам император. Во главе войска Юстиниан поставил знатного славянина Небула. Сохранилось золотое кольцо-печатка Небула с его монограммой. Получено оно, надо думать, при назначении от императора. Для своих соплеменников Небул являлся князем, для ромеев, соответственно, — «архонтом».[1551] Общая численность «отборного войска» составила 30 тысяч человек. После завершения набора, летом 692 г., Юстиниан объявил арабам войну. Юстиниан со славянским войском и всей ромейской кавалерией выступил на восток. У Севастополя в приморских областях Малой Азии император встретился с арабским полководцем Мухаммадом бен Марваном. В первом сражении арабы потерпели поражение. Но Мухаммад тайно отправил Небулу колчан, полный золотых монет, сопроводив его щедрыми посулами и просьбой перейти на свою сторону. Небул согласился. Едва ведомые арабы по-прежнему казались славянам привлекательнее ромеев, к тому же после вероломного вторжения Юстиниана. Цена же «добровольности» славянского переселения в Азию теперь была совершенно ясна. В следующей битве под тем же Севастополем, в которой арабы несли впереди войска вместо стяга договор с Юстинианом, ромеи потерпели поражение. Как только войска императора дрогнули, Небул с двумя третями своих воинов перешел на сторону арабов. Мухаммад и Небул вместе преследовали бегущих ромеев, избивая их.[1552] Судьба славян, сохранивших ромеям верность, оказалась страшной. Юстиниан по-своему отблагодарил тех, кто остался ему верен вопреки измене собственного князя. По его приказу все уцелевшие в битве и бежавшие вместе с ромеями славяне были убиты со своими женами и детьми. Произошло это «у так называемой Левкаты, в месте обрывистом, прибрежном, расположенном на Никомидийском заливе».[1553] Расселенные в Вифинии славяне (или немалая их часть) были приписаны к царской казне в качестве рабов-пленников. Ими заведовал теперь ромейский чиновник в должности «апоипата славянских рабов епархии вифинов».[1554] Судьба же славян в Халифате в сравнении с этим подтверждала как будто правильность расчетов Небула. Славяне расселились в Сирии, где уже имелись поселения их соплеменников, перебежавших некогда от Константа. Они еще долго сохраняли здесь определенную самостоятельность. В VIII в. численность сирийских славян возросла еще за счет переселенцев с севера. Об этом речь пойдет позднее. Но положение славян-язычников в мусульманском Халифате, конечно, не было радужным. И недаром Феофан замечает, что Мухаммад «обманул» Небула.[1555] Никакого высокого положения без принятия ислама славянин в Халифате достичь не мог. Более того, господствовавшая в пору джихада логика «меч или ислам» делала со временем обращение неизбежным. Заметим, что ромеи в ту пору христианство славянам не только не навязывали, но и не слишком активно проповедовали. Как бы то ни было, пока, в первые годы, переселенные в Халифат славяне не являлись еще мусульманами. Резко возросшая их численность тревожила простых арабов. Даже внешне отличавшиеся от них, привыкшие к независимости и стремившиеся к ней славяне воспринимались окружающими как некая угроза. У поэта ал-Ахтал славяне — синоним вызова и угрозы: «Верблюды каравана сторонятся встречных людей, точно видят в них толпу златокудрых саклабов».[1556] В то же время именно необычность, чуждость славян привлекала арабскую знать. Взять себе на службу славянина — означало подчеркнуть свои богатство и могущество. В поэме неустановленного автора, посвященной восхвалению одного из омейядских царевичей, как признак его славы упомянуты и его телохранители из «красных саклабов». Вместе с чернокожими африканцами они добавляют блеска передвижениям господина.[1557] Главным же достоинством славян в глазах арабов являлись их боевые качества, а также опыт борьбы с ромеями и жизни на ромейских землях. Уже в 694 г. Мухаммад бен Марван вторгся в пределы Империи, имея в качестве «знатоков Романии» славян. Мухаммаду сопутствовал успех. «Многих» ромеев он увел в плен. Так временный успех Юстиниана в Македонии обернулся в конечном счете новыми несчастьями для его Империи. Впрочем, и македонские достижения при ближайшем рассмотрении оказались весьма скромными. Кувер так и остался на Керамисийском поле, не так уж далеко от Фессалоники. Оставалась его орда здесь и в начале VIII в., совершенно не подчиняясь ромеям.[1558] Славян, доселе верных, пусть поневоле, необоснованная кара Юстиниана только оттолкнула. С другой стороны, напуганные и отчасти освобожденные произошедшим влахи разбрелись по всем окрестным балканским землям. Империя никак не могла контролировать передвижения полукочевого и не слишком покорного народа. Именно тогда влахи и «рассеялись по всему Эпиру и Македонии, а большинство их поселилось в Элладе», как писал о том спустя века Кекавмен. Часть влахов, однако, освободившись от власти Кувера, осталась среди дреговичей. Ромейская и болгарская угроза быстро сплотили тех и других. Влахи вошли в ринхинский племенной союз, возглавляемый дреговичами. К началу VIII в. союз этот получил новое имя — «влахоринхины».[1559] Именно здесь, в Македонии, впервые началось смешение влахов с южными славянами, оказавшее позже большое влияние на историю и тех и других. Сам Кувер не мог не считаться с новым соседством — крупным славянским племенным союзом, усилившимся за счет его бывших подданных. Здесь можно увидеть едва ли не главную причину того, что болгарский каганат в Македонии оказался краткосрочен. Во Фракии Аспаруху удалось опереться на славянские племена. В Македонии они быстро сбросили болгарское владычество. Только это и оказалось единственным прочным итогом похода Юстиниана. Культура и общество в VIII в.На протяжении VIII в. южное славянство окончательно разделяется на три больших группы. Одну из них составили славяне Болгарии и Македонии, другую — сербские племена, третью — «альпийские» славяне в Паннонии, Хорутании и Хорватии. Каждая из этих групп имела свои особенности в языке и культуре, отличавшие их от сородичей и соседей. «Болгаро-македонская» группа вполне уже сложилась как отдельная целостность к IX в. Это выразилось, в первую очередь, в диалектной общности. Сближению славян Фракии и Македонии способствовали вторжения болгар и передвижения славян в ходе болгаро-византийских войн. С другой стороны, сложившаяся общность имела и более глубокие исторические корни — в антских истоках болгарской и македонской культур. На диалектах, близких болгарским и македонским, говорили в VIII–IX вв. также славяне на территории современных Греции и Албании.[1560] Ясно, что значительная часть общих черт болгарской и македонской культуры, отличающих их от других славянских культур, появилась именно в эти века. Но как конкретно протекали эти процессы, мы судить не можем, — данные о духовной жизни южных славян дохристианской эпохи весьма скудны. Лишь немногим иначе обстоит дело с материальной культурой. В VIII в. восточная часть южных славян продолжала делиться на те же три культурных ареала, что и в VII. В первом — к северу от Дуная — на смену ипотештинской археологической культуре приходит культура Хлинча I. Во втором — к югу от Дуная в Болгарии — продолжалось вплоть до конца века развитие попинской культуры. Третий ареал — Македония и Греция — также сохранял наследие предшествующего века, «мартыновской культуры» аваро-славянского происхождения. Похоже, что сближение бытовых навыков южных славян шло медленнее, чем сближение диалектов. Славянские земли к северу от Дуная запустели в результате нашествия Аспаруха и устроенных им переселений. Лишь очень небольшая часть дунайцев из числа Семи родов осталась на прежних местах, в Мунтении и Олтении.[1561] Романское население, и без того немногочисленное, теперь рассеялось или окончательно слилось со славянами. Для Болгарского ханства земли между Карпатами, Прутом и Дунаем являлись полем битвы против наступающих с востока хазар. Постоянная военная угроза не сулила ни болгарам, ни местным славянам стабильной жизни. Аспаруху, строго говоря, было выгодно оставить на Нижнедунайской низменности выжженную землю, которая в случае захвата не приносила бы врагу никакой пользы. На севере осталось ровно столько зависимых от него дунайских словен, сколько было необходимо для снабжения и пешего прикрытия болгарского войска. Однако в долине Сирета, в позднейшей Молдове, славянское население сохранилось. Оно еще и возрастало за счет притока новых переселенцев с востока, из-за Прута. Приток этот продолжался на протяжении всего VIII в. и позднее. Конечно, он отличался от могучих переселенческих волн VI столетия. Но все же он оказался достаточен, чтобы поддерживать существование новой славянской культуры.[1562] Первым толчком к переселениям славян на запад Прута, в Молдову, стало движение дулебских племен на юг и занятие ими на рубеже VII/VIII вв. антских земель. Большая часть антов слилась с пришельцами. Подробнее речь об этом пойдет ниже. Здесь же отметим, что для не желавших принять такое слияние или для изгнанных пришельцами антов естественно было искать новый дом за Прутом, среди сородичей и подобно предкам. Это переселение и дало начало новой культуре, получившей название Хлинча I по одному из поселений в Центральной Молдове, в окрестностях Ясс. Из этого района славяне расселялись на север, до Сучавы, и на юг, до окрестностей нынешнего Бухареста. При этом приток населения — теперь уже дулебского — с востока не прерывался.[1563] Ясной причиной такого притока являлось давление хазар. Славяне искали защиты от них на землях их вечного врага — Болгарского ханства. Облик культуры Хлинча I вполне славянский. Точнее даже сказать, что он ярко выраженный славянский — в большей степени, чем у прежней ипотештинской. Это сказывается и в облике поселений и жилищ, и в безусловном преобладании лепной керамики, и в погребениях с кремациями. Впрочем, встречается и гончарная керамика «римско-византийского» типа. Наряду с кремациями, на тех же могильниках, нередки и трупоположения. Все это можно связать с проникновением из-за Дуная и с Карпат влахов, предков нынешних румын, с рубежа VIII/IX вв. Именно в это время прарумынский язык вступает в тесный контакт со славянским, и начинается длительная романизация местных славян. Ее облегчило присутствие в Мунтении и местных «волохов», остатки которых теперь слились с пришельцами.[1564] К югу от Дуная попинская культура продолжала существовать до конца VIII в. Все это время славяне и болгары оставались двумя отдельными, почти не перемешивающимися между собой этносами. Те и другие полностью сохраняли свою самобытность. Лишь кое-где в Скифии с начала VIII в. смешение двух народов делало самые первые шаги. Однако и это не приводило к возникновению единой культуры. Славяне твердо придерживались, в частности, своих языческих ритуалов, а болгары — своих. Даже пользуясь одними могильниками, они хоронили своих умерших по-разному. Болгары — по обряду ингумации, с конями и оружием. Славяне — сжигали мертвых, как правило, без всякого инвентаря, иногда и погребали прах без урн. Лишь отдельные новые элементы в славянских обрядах свидетельствуют о внешних влияниях. Урны иногда покрывали — свидетельство смешения с фракийцами. У болгар же восприняли в обычай бросать погребальный костер жертвенное мясо.[1565] При этом славяне все более превосходили кочевников числом. К началу 760-х гг. их жило в Болгарии уже несколько сотен тысяч.[1566] На рубеже VIII/IX вв. ситуация меняется. Попинская культура и культура бывших кочевников болгар сливается в единую культуру будущего Болгарского царства.[1567] В науке это новое, только еще родившееся в самом конце VIII в. культурное целое получило имя балкано-дунайской культуры. В балкано-дунайской культуре прослеживается три исходных составляющих. Первой была культура славян Семи родов, дунайских словен, называемая ныне попинской. Второй — культура кочевых гунно-болгар. К концу VIII в. столетнее совместное, на одних землях, проживание со славянами сделало свое дело. Началось медленное смешение народов, причем менее многочисленные, уже переходящие к оседлости болгары славянизировались. Образцовым в этом смысле является просуществовавшее несколько веков попинское селище Джеджови лозя. В VIII в. на нем поселяются перешедшие к оседлости болгары, приносящие свою гончарную керамику и круглые, по подобию юрт, дома с очагами. Вскоре они растворяются в славянской среде и возникает новая «славяно-болгарская» культура.[1568] Третьей же составляющей населения Болгарского ханства являлись носители «римской» культуры.[1569] Их число возрастало за счет как многочисленных войн, так и переселения влахов с запада и с юга. Через земли Фракии и Мезии влахи двигались и дальше, за Дунай. Именно эти восточные романцы, наряду с карпатскими сородичами, явились прямыми предками румынского народа. Македония и Греция в это время медленно восстанавливались после катаклизмов предшествующих веков. Одним из таких катаклизмов, конечно, явилось и славянское нашествие. Плотность населения в Македонии на протяжении VII–VIII вв. оставалась невелика, и славяне явно не заняли всей ее территории. Впрочем, отметим, что причиной тому явились и ромейские карательные экспедиции с последующими массовыми депортациями славян. Таких было две за VII в., причем только Юстиниан переселил не менее 30 000 боеспособных мужчин-славян с семьями. Естественно, что Македония — край войны между славянами, ромеями, а теперь еще и болгарами, и влахами, — обживалась медленно. Славяне постоянно жили в основном на Охридском озере.[1570] Вместе с тем на уровне местного населения вражда постепенно изживалась. Славяне, греки, иллирийцы становились ближе друг к другу. Немногочисленное иллирийское население Македонии год за годом растворялось в славянской среде. То же самое — славянизация греков-селян — вплоть до конца VIII в. местами происходило и на юге, в Греции. Продолжалось смешение славян и иллирийцев и в Эпире.[1571] Славяне, перенимая местные хозяйственные навыки, хранили верность своему языку и религии, греческому же языку оставались «совершенно непричастны».[1572] Хозяйственная жизнь славян не претерпела значительных изменений. Если в Греции они переняли многие обычаи и быт местных жителей, то на севере, близ Дуная и в Македонии, черты славянской культуры сохранялись нетронутыми. Поселения культуры Хлинча располагались у воды и представляли собой скопления отдельных «гнезд» жилищ. Основной тип жилища здесь — прямоугольная полуземлянка. Отапливались жилища печами-каменками, но в других случаях глиняными печами или очагами, обложенными камнем. Набор находок в жилищах тоже вполне обычен для славянских культур — орудия труда, наконечники стрел, железные кольца. Лепная посуда скромно орнаментирована вдавлениями и насечками.[1573] Облик хлинчевских памятников в целом выглядит гораздо более первобытным, чем у попинских. Это подтверждает приток в Молдову и Мунтению славян из-за Прута, еще не знавших гончарного круга, живших неразделенными большими семьями. Основными занятиями славян к югу и к северу от Дуная являлись земледелие и скотоводство. Во Фракии их роль к концу VIII в. — отчасти в ущерб охоте — еще и возрастает. Основной животной пищей болгарских славян являлось мясо крупного рогатого скота, и его потребление неуклонно росло.[1574] В немалой степени увеличению стад, содействовало, конечно, начавшееся смешение с болгарами. Важным хозяйственным достижением южных славян было повсеместное освоение к концу VIII в. гончарного круга. К югу от Дуная гончарная посуда — плавно расширяющиеся кверху горшки — господствует с этого времени безраздельно, полностью вытеснив лепную. К северу от Дуная гончарные сосуды славянских типов только появляются. Древнейшая форма гончарного диска, известная славянам, — «медленный», вращаемый руками. Но к концу VIII в. славяне, по крайней мере, знали уже и ножной «быстрый» круг, используемый ромеями и влахами.[1575] Южные славяне по-прежнему жили широко разбросанными соседскими общинами. Община, как и ее основная ячейка — большая семья, — была гораздо прочнее к северу от Дуная, ввиду большей однородности населения. К югу, где славяне смешивались с кочевниками или ромеями, это неизбежно вело к расшатыванию общинных устоев. Славяне объединялись в крупные племена и племенные союзы — «славинии». Каждое племя обладало определенной территорией, которую считало своей. Во главе каждой славинии стоял князь — «архонт». В описываемых землях славянские «архонты» не были в VIII в. самостоятельными правителями. В Болгарии они подчинялись болгарскому хану, в Македонии и Греции — византийскому императору. Однако формы и степень такой зависимости славиний сильно различались. Северы и Семь родов платили болгарским ханам дань, защищали границы Болгарии от ромеев и авар, поставляли войска для ханских походов. В то же время они самостоятельно распоряжались своими делами и могли совершать собственные набеги на Византию.[1576] В Македонии от Империи к началу VIII в. больше зависели вожди смолян и их соседей на Стримоне. Именно на струмлян дважды и с наибольшей силой обрушивался в минувшем веке карающий меч Константинополя. Они же неизбежно становились главными жертвами депортаций. Это, однако, только усиливало их западных соседей — влахоринхинов и их союзников сагудатов. Особенно силен был племенной союз влахоринхинов, который включал дреговичей, многочисленных берзичей, а также примкнувших к славянам в конце VII в. влахов. В землях берзичей располагался первый укрепленный град славян в южной части Балкан — Охрид. Стоит заметить, что на землях Болгарии славянские грады этого времени неизвестны. Другое дело, что славяне подчас селились в развалинах римских крепостей, не перестраивая и не подновляя их. Ясно, что влахоринхины и сагудаты с легкостью выходили из призрачного повиновения имперской власти. Еще в большей степени относилось это к славиниям Греции. Из них известны славинии велеездичей в Фессалии, войничей в Эпире, милингов и езеричей на Пелопоннесе. Славянских племен в Греции было, впрочем, гораздо больше. «Авары» — так по старой памяти звали их греки, хотя в культуре здешних славян почти ничего аварского не осталось, — занимали в первой трети VIII в. «епархии Диррахия и Афин».[1577] То есть они расселились на обширной территории от Адриатики до Эгеиды. Расположенная примерно посреди этой разрезающей Элладу дуги славиния войничей возглавляла, таким образом, большой племенной союз. Еще один союз сложился на Пелопоннесе, где верховодили милинги и езеричи. Для всех этих племен «зависимость» от Империи ограничивалась разовыми дарами императору и не мешала то и дело воевать с ромеями. Единственной в полной мере зависимой от Империи племенной группой южных славян были славяне Вифинии, принудительно выселенные туда из Македонии. Им, как мы помним, Юстиниан II сам назначил архонта — впрочем, из собственной славянской знати. Измена же Небула повлекла за собой утрату племенной самостоятельности и полное подчинение уцелевших вифинских славян императорской воле.  Знакомство с бюрократической системой Империи и с жесткой военной иерархией болгар не могло не заинтересовать славянских князей. Шаг за шагом они укрепляли свою власть, следуя новым образцам. Уже во второй половине VIII в. князья могли распоряжаться имуществом людей своего племени — в том числе рабами.[1578] Раньше такая власть принадлежала одном лишь вечу. Опорой князей являлись преданные им дружины, а равным образом и знать, хотя бы на словах выбиравшая их. Частые войны и грабительские набеги способствовали обогащению князей и знати — впрочем, и рядовых славян-воинов тоже. Процветали рабовладение и работорговля. Ни о каких освобождениях рабов-пленников по истечении срока теперь и речи нет. «С давних времен», десятилетиями, тысячи пленных ромеев могли оставаться в рабстве.[1579] Обустроив жизнь на новых местах, славяне могли гораздо бдительнее наблюдать за всем своим достоянием, и за рабами тоже. Раб мог стать предметом торга и выкупа. О религии южных славян этого времени сведений мало. Как уже говорилось, на Балканах славяне-язычники не оставили заметных следов преданности вере отцов. Но поскольку племена Болгарии, Македонии и Греции часто воевали с ромеями, постольку религиозное отличие от врага осознавалось и подчеркивалось ими. Христианство воспринималось, с неизбежностью, как вера «греков». Отступничество от него могло приветствоваться в среде славян. Так, ближайшим соратником князя северов Славуна был в 760-х гг. вероотступник Христиан. Он являлся вожаком разбойников — скамаров, отряды которых орудовали вдоль границ Империи с Болгарией.[1580] В среде скамаров, в основном влахов, отступничество, надо полагать, случалось нередко. Некоторые данные о языческой вере «авар»-славян Греции VIII в. сообщает созданное тогда «Житие святого Панкратия». Описанные «авары» почитали, по их собственным речам, «в качестве богов изображения всех видов четвероногих, огонь, воду и наши мечи». У них будто бы имелся «храм» с этими «изображениями» — но это уже явная условность, никаких храмовых зданий у южных славян не было. «Знаменитейших из богов» «авары» брали с собой в сражение. «Чтобы они могли сражаться за нас, — объясняли они, — и ставили их впереди себя».[1581] В этой картине нет практически ничего необычного и недостоверного. Южные славяне знали обожествленный Огонь. Для племени же, жившего морским разбоем (как «авары» Жития), естественно почитать водные божества. «Изображения всех видов четвероногих» — священных животных — известны по велестинской коллекции. Несколько странно для славян почитание мечей. Но воинственные «авары» греческого приморья могли воспринять его и от гепидов, и от подлинных авар. На славянских капищах Балкан, конечно, стояли деревянные идолы. Некоторые из них и выносились в сражения, как описывает Житие. Славяне хранили верность своей языческой религии, поскольку она обособляла их от враждебных «греков». Но как только исчезала враждебность — исчезала, в отсутствие глубокой религиозности, и причина для языческого упорства. Те из славян, кто вступал в мирные сношения с греками или оказывался доступен для христианской проповеди, с готовностью принимали крещение. Известно, пусть поверхностное, обращение в христианство македонских славян — влахоринхинов и сагудатов — в первой половине VIII в.[1582] Перед крещеным славянином открывался путь в имперскую элиту. Уже в начале VIII в. известен византийский дипломат, патрикий Сисинний Рендаки — предположительно славянин. Он, кажется, имел связи с Фессалоникой, что делает возможным происхождение из македонских славян. Византийский двор использовал Сисинния для сообщения с болгарами.[1583] Итак, славяне, проживавшие в пределах Империи, в VIII в. начали понемногу приобщаться к христианству. Но, к несчастью, этот первый этап обращения выпал на время жесточайшей смуты в делах церковных. Императоры-иконоборцы из Исаврийской династии своими гонениями омрачили для православных иконопочитателей большую часть VIII столетия. Естественно, что на первых христиан и тем более священнослужителей из числа южных славян торжествовавшая при дворе доктрина оказала свое воздействие. У некоторых из числа неопытных, малограмотных неофитов борьба с «идолопоклонством» в среде христиан неизбежно находила отклик. Таким печальным порождением иконоборческой эпохи являлся патриарх Константинополя Никита I. 16 ноября 766 г. император Константин V незаконно устроил рукоположение в патриархи славянина-евнуха Никиты, настоятеля одной из столичных церквей. Весьма слабая образованность сочеталась у Никиты с пылом неофита, и пыл этот оказался направлен против «идолопоклонства» в Церкви — почитания икон. Император нашел в глухом к ученым аргументам иконопочитателей невежде послушного исполнителя своих замыслов. Под предлогом ремонта церквей Никита выявил и уничтожил все иконы и мозаики с изображениями Христа и святых. Этим варварским кощунством он и вошел в историю Церкви. Умер Никита 6 февраля 780 г., и доброй памяти по себе не оставил. С 843 г. имя его анафематствовано.[1584] Но, конечно, не Никита — пусть и первый столь высоко поднявшийся в церковной иерархии славянин — определяет лицо южнославянского христианства. Движение славян к новой вере только началось. Продолжилось же оно уже после торжества иконопочитания, в лоне устоявшей перед натиском иконоборцев византийской культуры. И уже в следующем веке из среды славян выйдут первые подвижники христианства, чьи имена до сих пор чтит в сонме святых Православная Церковь. В годы кризиса ИмперииНа рубеже VII/VIII вв. Византия вновь оказалась в глубоком упадке — более длительном и едва ли не более тяжком, чем в начале минующего века. Виной тому стало тираническое правление императора Юстиниана II, последнего в Ираклейской династии. Пожалуй, со времен Фоки византийский престол не знал столь жестокого и сумасбродного деспота. Жестокость императора обращалась отнюдь не только на подвластных и соседних «варваров». Еще в большей мере познали ее, разумеется, сами ромеи. Наконец, прямое столкновения императора с патриархом вызвало восстание в столице. В 695 г. Юстиниан был низложен. Свергнутому императору отсекли нос и сослали его в Херсон. Но мира и покоя не наступило. Новый император Леонтий продержался лишь три года. В 698 г. короткая вспышка гражданской войны вознесла на престол командующего византийским флотом Апсимара — под именем Тиверия III. Между тем Юстиниан искал возможности вернуть власть. Женившись на дочери хазарского кагана, он рассчитывал на его помощь. Но жестоко просчитался. Каган был готов выдать его ромеям. Юстиниану пришлось бежать из Причерноморья. По морю в 705 г. он прибыл в Болгарию. К тому времени Аспаруха уже не было в живых. Создатель балканской Болгарии погиб в 702 г. в битве с хазарами на Дунае. Власть унаследовал его сын Тервель.[1585] Юстиниан сначала обратился не к нему, а к кочевавшему в Македонии Куверу или к его наследникам. Македонские болгары, однако, не поверили воевавшему с ними прежде Юстиниану. Не желая участвовать в византийской смуте, они откочевали на север. Иначе повел себя Тервель. Встретившись с Юстинианом, он согласился оказать ему помощь. Изгнанник пообещал щедро одарить хана, в том числе имперскими землями. Тервель собрал все свои силы, в том числе и воинов с подвластных славиний. Осенью 705 г. болгаро-славянская рать с Тервелем и Юстинианом во главе подступила к Константинополю.[1586] 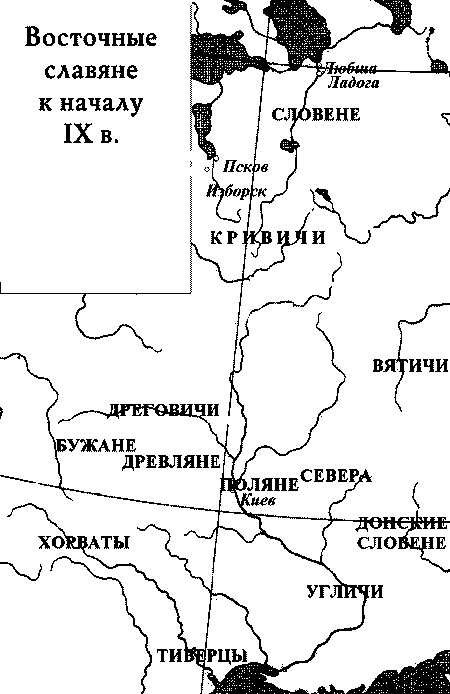 Впрочем, жители столицы, уставшие от смут и напуганные болгарским нашествием, предпочли покориться Юстиниану. Тот вступил в город со своими приближенными ромеями, не встретив сопротивления. Тервель получил обещанную награду. Первым из сопредельных варварских вождей — случай поистине невиданный в истории Империи — он получил титул кесаря. Этот щедрый дар, впрочем, лишь скрывал лицемерие Юстиниана. Вскоре он попытался возобновить войну с болгарами — и сразу потерпел очередное поражение. Главным итогом событий стало распространение власти болгарских ханов на юг от Балканского хребта, в болгарское Загорье, Загору. Эти земли, где уже жило немало славян, теперь заселялись ими еще плотнее. Славянское население Болгарского ханства значительно увеличилось. Второе правление Юстиниана продлилось еще меньше первого. Военные неудачи и жестокие расправы над врагами навлекли на вернувшегося тирана общую ненависть. Роковой оказалась попытка Юстиниана вернуть Херсон, отложившийся к хазарам. Серия экспедиций против мятежного города кончилась в итоге только разрастанием мятежа. Последним посланным из Константинополя флотом командовал Мавр Бесс — и он, оправдывая давнюю свою репутацию, перешел на сторону мятежников. Восставшие провозгласили императором Вардана Филиппика — прямого ставленника хазарского кагана. Несмотря на вновь оказанную помощь Тервеля, Юстиниан потерпел поражение. 7 декабря 711 г. он, попавший в руки к Вардану, был казнен.[1587] И вновь падение Ираклейского дома — теперь окончательное — не привело к миру и порядку. Перевороты следовали один за другим. В 713 г. Вардана свергли и ослепили, на престол вступил придворный секретарь Артемий под именем Анастасия II. В 715 г. страна вновь была ввергнута в гражданскую войну. Восставший флот провозгласил императором известного своей честностью сборщика налогов Феодосия, а фема Анатолик — своего стратига Льва Исавра. Артемий был свергнут сторонниками Феодосия и выслан в Фессалонику. Армия Льва Исавра двинулась на Константинополь. Все это происходило на фоне непрекращающегося натиска арабов. В 717 г., по следам армии Льва, они прорвались к самому Константинополю и осадили его, в том числе и с европейского берега. Чудом столица Империи смогла устоять. Но новому императору Льву III потребовалось время, чтобы завершить гражданскую войну и оттеснить мусульман от Мраморного моря. Воцарившийся в центре Империи хаос, разумеется, использовали славяне. Зависимость славиний Македонии и тем более Греции от Империи стала в эти годы пустым звуком. Славяне свободно расселялись на имперских землях, занимая новые. Во времена Льва III они владели уже всей Македонией. Этому способствовало и усиление Болгарского ханства, стремившегося распространить свою власть на Македонию и поощрявшего расселение здесь славян.[1588] Расселение славян по Македонии являлось теперь мирным и постепенным. Оставшаяся островом в славянском море Фессалоника совсем иначе теперь строила отношения с «варварами». В начале VIII в. славяне уже оседали в самом городе. Местная знать, давно склонная к соглашательству, теперь почти что приняла славянских вождей в свои ряды. Некоторые из славян крестились, перешли на имперскую службу и достигли высокого положения — как Сисинний Рендаки. Гавань Фессалоники стала пристанью для некогда наводивших ужас на ее обитателей славянских боевых ладей-однодеревок.[1589] Приобщение славян к городской жизни происходило не только в Фессалонике. То же самое имело место и в Вифинии. Здесь славяне, освобожденные от чиновного надзора ромейской смутой, также чувствовали себя теперь гораздо вольнее. Местами они превращались в основное население — даже в городах. Какой-то «город славян» в Малой Азии захватил около 715 г. наступавший на Константинополь арабский полководец Маслама.[1590] Неудивительно, что в конечном счете кое-кто из славянских вождей решился принять участие в борьбе за власть над Византией. Возможность для этого появилась в 718 г., когда константинопольская знать составила заговор против Льва III. Глава заговорщиков Никита Ксилинит поддержал вожделения пребывавшего в Фессалонике Артемия. За Артемия стояли знатные люди этого города во главе с архиепископом — и тесно связанные с местными ромеями славянские вожди. Сисинний Рендаки находился в ту пору с миссией у болгар, которых Лев склонял к союзу против Халифата. Заговорщики попросили Сисинния привлечь хана на свою сторону — и Сисиннию это удалось. Тервель предоставил лично прибывшему к нему Артемию болгарскую конницу и золото. С болгарами и Сисиннием Артемий вернулся в Фессалонику, где по его призыву уже собрался славянский флот. Славяне на своих однодеревках должны были прикрывать армию мятежников с моря. Артемий и Сисинний по суше, а славянский флот по морю двинулись к столице. Но Никите и его сообщникам не удалось впустить Артемия в город. Только что отстоявший столицу Лев пользовался у горожан гораздо большей популярностью, чем прежний незадачливый правитель. Войско дошло до Ираклии на северном берегу Мраморного моря, флот встал близ берега — но дальше продвинуться оказалось не суждено. В Болгарии побывало новое посольство от Льва, убедившее Тервеля сохранить верность прежнему миру. Тервель, оценив ситуацию, решил поставить на победителя. По его приказу Артемия и архиепископа выдали Льву, а Сисиннию отрубили голову на месте. После этого болгарское войско покинуло славян и солунцев. Впрочем, и для тех война теперь стала бессмысленной. Они и не пытались ее продолжить. Артемия, Никиту и архиепископа Фессалоники по приказу Льва предали публичной казни.[1591] Однако провал заговора Артемия, завершивший гражданскую войну в Византии, не означал еще прекращения славянского давления на Империю. Для самих славян это, конечно, был мелкий эпизод, дерзкое, но вовсе не этапное предприятие. Несмотря на энергичные меры Льва — а в чем-то и благодаря ним — смута в Империи утихла не вполне. Лев положил начало иконоборчеству Исаврийской династии. Церковный раскол вызывал и политические неурядицы. Дважды еще выливались они в гражданские войны — при Льве в 726–727 гг. и при сыне его Константине V в 742–743. Главными заботами для Империи являлись сдерживание арабов на востоке и замирение болгар на севере. Славинии Македонии, Эпира и Греции могли чувствовать себя совершенно свободно. Неудивительно, что первые годы царствования Исаврийцев оказались временем новых славянских набегов и расселений. Установление прочного мира, даже союза с Фессалоникой открыло для славян полуостров Халкидику, простершийся к востоку от города. Константинополю судьба внутренней Македонии и Халкидики, кажется, была совершенно безразлична. Местное же чиновничество срасталось со славянской знатью. Заселяли Халкидику влахоринхины и сагудаты. Более близкие к ней струмляне все еще были ослаблены после похода Юстиниана. К тому же теперь им приходилось отстаивать свою независимость от надвинувшихся с севера болгар. В правление первых Исаврийцев, еще в пределах первой половины VIII в., ринхины и сагудаты целыми семьями расселились в окрестностях горы Афон — знаменитого центра православного монашества. Расположена гора на крайнем юге Халкидики, у оконечности ее восточного мыса Нимфеон. В эту местность ринхины и сагудаты пришли с северо-запада, заняв уже почти весь большой полуостров. Никто не помешал язычникам обосноваться близ монашеских келий. Вообще, их расселение никакого сопротивления не встречало.[1592] Одновременно с широким расселением славян возобновилось и морское пиратство. Вновь ушло из жизни поколение, помнившее победы имперских армий. Молодежи требовались не только жизненное пространство, — его теперь хватало, — но и воинская добыча. Причем целями разбойничьих рейдов теперь все чаще становились ромейские прибрежные земли. Набеги могли возглавлять и сами славянские «архонты». Примерно в 730-х гг. или немногим позже славяне опустошили Имврос, Тенедос и Самофракию — острова в северо-восточной Эгеиде, близ входа в Дарданеллы. В набеге или серии набегов участвовал флот нескольких племенных княжеств. Тысячи ромеев увезли в рабство.[1593] Расположение островов определенно указывает на славян Македонии. Это могли быть и обосновавшиеся теперь на Халкидике ринхины с сагудатами, и струмляне. Созданное примерно в то же время, в 730-е гг., «Житие святого Панкратия» описывает «авар», живших по Адриатике, в округе Диррахия. Они вели войну с сицилийскими ромеями, временами подвергаясь и набегам с их стороны.[1594] Владения этих славян-«авар» вплотную смыкались с землями берзичей у Охридского озера, а на севере — с дуклянами. Они находились в союзе со своей родней, расселившейся до Афин. От Эгеиды до Адриатики протянулся пояс свободных славиний, в те годы противостоявших если не самой Империи, то местным ромейским властям. Крайний юг Греции, Пелопоннес, в этих условиях оказался совершенно отрезан от Константинополя. Похоже, что в столице предпочли просто забыть о его существовании. Здесь также славяне вольно расселялись по недавней еще Элладе, проникали в последние ромейские города. Англосакс и немецкий епископ Виллибальд, побывавший в 723 г. в Монемвасии, последнем убежище спартанских беженцев, был уверен, что расположен город «в земле Славинии».[1595] Значит, город находился в плотном славянском окружении. Более того, славяне находились в каких-то сношениях с ним — селились в нем, собирали с горожан дань. Знать Монемвасии еще в большей степени, чем знать не менее неприступной Фессалоники, была заинтересована в добрососедстве. В правление Константина V (741–775) на Пелопоннесе разразилась эпидемия. Жертвами мора стали в основном проживавшие в сообщавшихся между собой городах греки. Славяне в своих разбросанных весях пострадали намного меньше. В итоге эпидемия ускорила и так шедшую полным ходом славянизацию полуострова. «Ославянилась вся земля, — писал об этом позднее Константин Багрянородный, — и стала варварской».[1596] Отдельные города, подобны Монемвасии, остались — но у их жителей не имелось никаких сил, да и желания, противостоять расселению независимых ни от кого славян. Предпринять отвоевание земель — теперь возможное только как подчинение славиний — могла лишь императорская власть. В болгарских войнахВнутренняя история Болгарии в первой половине VIII в. известна крайне плохо. А история входивших в ее состав славиний — неизвестна вовсе. Ясно, что они сохраняли свою автономию. Такой же автономией обладали и только вошедшие в состав Болгарии славянские племена Загоры. За счет их славянское население Болгарии увеличилось. А между тем болгарские ханы приглядывались и к македонским землям. К середине VIII в. произошло слияние болгар на Балканах под властью преемников Аспаруха. Иных отныне не упоминается. Потомки Кувера либо откочевали к Дунаю, либо слились со стримонскими «скифами» — потомками болгар и сирмисиан. На Керамисийском поле в Х в. располагалось уже славянское княжество Керминица.[1597] После смерти Тервеля (ок. 718 г.? [1598]) сменилось еще два хана из династии Дуло. Около 739 г. произошла мирная, через свойство, смена династии.[1599] На престол вступил хан Кормисош, представитель рода Вокил или Укил. Отношения с Византией в течение этих лет оставались мирными и союзными. Этот союз скрепила общая победа Тервеля и Льва III над арабами в 717–718 гг. Впрочем, скрепляла союз и выплата Империей регулярной дани болгарам. Естественно, что по мере укрепления своей власти Исаврийцы стали тяготиться унизительной «дружбой» с болгарскими ханами. В противовес им они ищут других союзников в кочевом мире. В 732 г. Лев III, расширив антиарабский фронт союзом с Хазарией, женил своего сына Константина на сестре кагана. От этого брака у императора Константина V, наследовавшего отцу в 741 г., родился сын Лев Хазар, будущий Лев IV. Сближение Империи с извечным врагом болгар не могло не насторожить ханский двор. К середине 750-х гг. отношения нового императора с болгарами резко обострились. Как раз около 755 г. умер хан Кормисош, и на престол вступил его наследник Винех. При нем началась открытая война. В ответ на строительство Константином новых крепостей на границе с Болгарией хан потребовал пересмотра прежних договоров — естественно, в сторону увеличения откупа. Константин отказался и прекратил выплату дани. В 755 г. болгары начали войну. Они вторглись в земли Империи и дошли до окрестностей Константинополя. В ответ в 756 г. Константин совершил поход на Болгарию, нанеся ханскому войску сильное поражение. Стремясь прикрыть свой фланг, Константин обратил внимание на Македонию. Поневоле императорская власть, наконец, озаботилась защитой островов Северной Эгеиды и утратой Халкидики. В 759 г. Константин выступил в поход на запад. На этот раз основной удар был направлен именно против македонских славян к северу и к западу от Фессалоники. Константин «поработил» здешние славинии. Не везде он встретил сопротивление. К этому времени, благодаря общению с афонскими монахами, влахоринхины и сагудаты Восточной Халкидики познакомились с христианством. Еще до похода императорских войск в Македонию они покрестились, хотя веру восприняли поверхностно. Теперь они покорились ромеям без сопротивления.[1600] Основной удар императорских войск пришелся на этот раз не по уже дважды пострадавшим струмлянам, а по славянам к западу от Фессалоники. Племенной союз ринхинов с тех пор не упоминается. Название это сохранили за собой, в отличие от соседних сагудатов, только разноплеменные выселки на Халкидике. «Другувития» и «Верзития» в дальнейшем упоминаются как отдельные племенные княжества. Но это доказывает и поверхностность произошедшего «порабощения». Константин, конечно, угнал немало славянских пленных, полностью разгромил отдельных «архонтов». Но уничтожать славянское население ему и не требовалось — это означало бы не подчинение, а опустошение Македонии. Славян можно было обложить данью или повинностями — но их нельзя было еще лишить собственного племенного устройства, подчинить имперской бюрократии. В итоге обстановка в Македонии мало изменилась. Характерно, что Константин не смог даже освободить тысячи ромейских пленников с островов, содержавшихся по пути следования его войск — у струмлян или на Халкидике.[1601] Константин пытался переселять «покорившиеся» племена, но не желал иметь дело с затяжным сопротивлением. Ради лучшего христианского образования покорившиеся вожди славян Халкидики попросили императора оставить их племена у Афона — и получили разрешение.[1602] Поход Константина устрашил других южных славян. Славинии Балкан в очередной раз поспешили признать верховную власть Империи.[1603] Но эта «подвластность» являлась еще более призрачной, чем «порабощение» славян Македонии. Частичный успех в македонских землях никак не мог повлиять на дела ни в Средней Греции и Эпире, ни на Пелопоннесе. Самое большее, чего мог добиться император — это прекращение набегов на уцелевшие ромейские поселения. Едва ли на что-то большее он и рассчитывал. Главной задачей Константина являлось спокойствие в Македонии и Греции на время Болгарской войны. Добившись от славиний внешней покорности, жестоко проучив наиболее грозных противников, он потерял к ним интерес. Обеспечив себе надежный тыл, Константин вновь выступил в 760 г. против болгар. Вторгнуться в страну на это раз он попытался через ущелье Верегава, охранявшееся северами. Здесь его встретило ханское войско. Славяне как участники битвы не упоминаются — но их участие подразумевается самим местом сражения. Северская пехота и болгарская конница наголову разбили императорское войско. Повторить успех 756 г. не удалось. Погибло «много» воинов Константина, в том числе два полководца — патрикий Лев, стратиг фемы Фракисия в Малой Азии, и его тезка Лев, носивший один из высших придворных чинов логофета дрома. Болгарам досталось оружие павших ромейских воинов. Остатки армии во главе с императором «бесславно» бежали.[1604] Болгары, однако, не смогли воспользоваться успехом. Внезапно, в том же 760 или в 761 г., в ханстве вспыхнула междоусобица. Болгары восстали против правящего рода Вокил. Причины мятежа не совсем ясны. Но возглавила его кочевая знать, — собственно болгары, — а противниками их выступили славянские вожди со своими племенами. Можно угадать, что хан Винех как-то благоволил к славянам, в чем-то отдал им предпочтение перед соплеменниками. Победа, свершившаяся на славянских землях, давала тому достаточный повод. Таким образом, именно она могла послужить толчком к мятежу. Хорошо организованные и хозяйничавшие в центре страны кочевники одержали победу. Хан и все его родичи были перебиты. На престол взошел Телец из рода Угаин, «злонравный муж», по словам Феофана, примерно 30 лет от роду.[1605] Потерпевшие поражение славяне не желали оставаться на территории Болгарии. Сразу после захвата власти Телецом огромные массы славян бежали к Черному морю. С места сдвинулись целые племена — немалая, если не большая часть всего тогдашнего славянского населения Болгарии. Общую численность их Никифор оценивал «до двухсот восьми тысяч» — не так уж фантастично, если речь идет действительно о беженцах с огромной территории. Славяне погрузились на ладьи и по морю переправились на азиатский берег, в Вифинию. Здесь в это время готовился к новой войне Константин. Он принял славян — определенно не имея другого выхода, но и радуясь ослаблению врага. Беженцев расселили в Вифинии на реке Артане.[1606] Выселение многотысячных славиний, конечно, ослабило Болгарию и сократило численность болгарских славян. Однако даже находившаяся у самого моря — в тех самых областях, где грузились на ладьи беженцы — славиния северов сохранилась. Ее князь Славун как-то договорился с победителем, который нуждался в славянах для войны с Империей. К 763 г. Телец сумел мобилизовать не менее 20 тысяч славянских воинов — цифра с учетом потерь от усобицы немалая.[1607] Так или иначе, к 764 г. северы еще оставались достаточно сильны, чтобы самостоятельно бороться с ромеями.[1608] Итак, Телецу удалось сохранить «союз» с подвластными славянами. Бегство необходимых для войны людских масс, несомненно, отрезвило самых непримиримых ревнителей болгарского господства. С оставшимися славянскими вождями следовало обращаться уважительно. Тем не менее при императорском дворе справедливо полагали, что разлад так просто не преодолеть. Константин решил нанести удар, пока раны от междоусобной распри еще свежи. И не ошибся в расчетах. 16 июня 763 г. Константин выступил с пешим войском через фракийские земли к приморскому Анхиалу. Конницу в 9600 скакунов он на 800 легких судах отправил по морю к низовьям Дуная. Телец, узнав о движении императорского войска, изготовился к сражению. В приграничных укреплениях, прикрывавших балканские перевалы и побережье, он разместил 20 тысяч славянских «союзников». Тем самым он, как надеялся, защитил Болгарию от вторжения императорского войска. Однако затем Телец совершил непоправимую и роковую для себя ошибку. С основными своими «полчищами» из болгар и славян хан выступил навстречу императору, уже достигшему Анхиала. В четверг, 30 июня, на поле у Анхиала, где разбили лагерь ромеи, противники встретились. Около 11 часов дня Телец со своим разноплеменным войском атаковал. Но тут произошло то, чего и ожидал император, — хотя, быть может, не так скоро. Стоило начаться битве, как бой разгорелся внутри самого болгарского войска. Часть нападающих внезапно перешла на сторону ромеев. Многие болгары и славяне погибли от рук друг друга, а не от вражеского оружия. Пало «великое множество», «большинство» болгар — как и славян. Немало знатных людей попало в плен. Пораженный несчастьем Телец обратился в бегство. Избиение разбегающихся в панике болгар продолжалось до вечера. Константин не стал штурмовать стены Балкан и отозвал отправленный к Дунаю флот с конницей. Он понимал, что и так на время обуздал угрозу с севера. Вернувшись в столицу, император устроил себе триумф. Пленных болгар он выдал на растерзание константинопольской толпе. Всех их убили перед Золотыми воротами ромейской столицы.[1609] Константин сполна рассчитался с болгарами за поражение 760 г. Поражение Телеца поставило крест на его правлении и всей политической линии. Сразу после битвы болгары — разумеется, не без участия ненавидевших его славян, — низложили хана-неудачника. Телеца и всех его сторонников перебили. В итоге на ханский престол вступил Сабин, чудом уцелевший в предыдущей междоусобной резне зять хана Кормисоша. Сабин, однако, разочаровал болгарских боилов, ждавших от него продолжения войны с ромеями. Попросив у Константина мира, он тут же был низложен и бежал к ромеям. Мир не устраивал и высшую славянскую знать. Князь северов Славун совершал частые набеги на Фракию, совершая там «много зла». Заодно с ним действовали и местные разбойники из числа фракийцев и влахов, скамары, во главе которых стоял некий вероотступник Христиан. Впрочем, и новый хан Паган понимал, что сил для продолжения войны у Болгарии нет. В 764 г. он попросил о свидании с Константином. Получив гарантии безопасности, Паган со своими боилами прибыл к императору. Константин посадил рядом с собой свергнутого Сабина «и бранил их бесчинство и неприязнь к Сабину». Тем не менее, снизойдя к просьбам Пагана, Константин согласился на заключение мира. Естественно, ни о какой дани с Империи теперь речь не шла. Но и болгары, по видимости, ничего не теряли. Константин, вопреки ожидаемому, не стал добиваться возвращения Сабина.[1610] Объяснялась неожиданная для победителя мягкость Константина просто — он не собирался соблюдать мир, с самого начала признав его «лживым». Передышкой он воспользовался для того, чтобы собрать новые силы, а заодно покончить с опасными союзниками болгар. Отправив в Болгарию своих тайных агентов, Константин велел им выкрасть Славуна и Христиана. Посланцы императора справились с поручением — лишнее доказательство прославленной искусности византийской разведки. И среди болгар, и среди славян хватало у нее пособников. Дальнейшая судьба Славуна неизвестна. Его лишь доставили в Константинополь, но не казнили. Иначе обстояло дело с Христианом, в котором видели двойного изменника — вере и государству. Его четвертовали, затем, еще заживо, вскрыли, «чтобы узнать устройство человеческого тела», после чего сожгли.[1611] Расправившись с Христианом и обновив войско, Константин почувствовал себя в силах нарушить мир. Повод для этого быстро нашелся. После Пагана на ханский престол в 765 г. возвели, согласно договору с Империей, указанного Сабином его свояка Умара из рода Укил. Однако Умар продержался только 40 дней.[1612] Его низвергли и провозгласили ханом некоего Токту. Константин решил вмешаться. Внезапно выступив с армией из Константинополя, он вероломно напал на Болгарию. Ромеи не встретили даже стражи в горных проходах. Славянские гарнизоны Паган распустил после заключения мира. Это, конечно, облегчило захват Славуна. А пленение князя, в свою очередь, смутило и ослабило единство северов. Не встретив практически никакого сопротивления, Константин перевалил Балканы и вторгся в пределы ханства. Двигаясь на север вдоль Черного моря, ромейская армия достигла реки Цика (ныне Камчия), впадающей в море южнее Варны. Таким образом, Константин прошел до самого сердца ханской Болгарии. Здесь он выжег болгарские кочевья-аулы. Но затем император испугался собственной дерзости. Боясь столкнуться с подлинным сопротивлением, он повернул назад и возвратился в свои пределы, так и не скрестив меч с неприятельским войском.[1613] Продолжавшиеся в Болгарии — и усиливаемые вмешательством ромеев — смуты помешали болгарам отомстить. Хан Токта погиб во время внезапного ромейского вторжения, как и многие боилы, беспорядочно бежавшие к Дунаю. Но к ставленникам ромеев ханская власть не вернулась. На трон взошел Телериг — умный и упорный противник Империи. В 766 г. Константин превосходством сил принудил его к миру, но для обеих сторон это была лишь новая передышка. Начало ромейского отвоеванияВременно покончив с Болгарской войной, Константин вновь обратил внимание на македонские дела. Наведение здесь хотя бы видимого порядка могло укрепить пошатнувшийся из-за иконоборческого террора авторитет императора. Кроме того, налаживание тесных связей со славянской знатью и ее крещение дали бы Константину новых сторонников. В этом ключе и следует понимать неожиданное и дерзкое возведение в 766 г. на патриарший престол в Константинополе славянина Никиты. В 769 г. Константин обратился к славянским «архонтам» восточной Македонии с предложением выкупить находившихся у них в плену много лет жителей островов Эгеиды. Славяне с готовностью согласились. Пленных, числом около 2500 человек, обменяли на шелковые одежды, высоко ценившиеся у «варваров». Вся операция была проведена за счет казны. Пленных, доставленных к себе в Константинополь, император к тому же и одарил — правда, «скромно», — и отпустил на все четыре стороны.[1614] Вся эта история ясно свидетельствует о двух вещах. Во-первых, никакой действительной властью над славянами даже Халкидики и Стримона император не обладал. Стоит отметить, что писавший вскоре после этого арабский географ ал-Фазари помещает по соседству с Византией и Болгарией огромную и независимую «область славян».[1615] К ней определенно следует относить всю территорию балканских славиний — и элладских, и македонских. Во-вторых, Константин явно заискивал перед славянской знатью, общался с ней почти на равных, стремясь добиться расположения «архонтов». Вскоре ему представился еще один случай для этого — уже на западе Македонии. Между Болгарией и Византией натянутые отношения сохранялись. Понимая враждебность Телерига, Константин сам в мае 774 г. нарушил мир и глубоко вторгся в Болгарию. Впрочем, и самого императора быстро охватил испуг, и болгары запросили мира. В Константинополь император вернулся с ханскими послами. Еще в дороге утвердили мир на условиях взаимного ненападения. Но Телериг, в свою очередь, лукавил. Главной задачей болгарского хана, помимо борьбы с тайными пособниками ромеев в своем стане, являлось еще и восстановление сократившегося населения страны. Численность болгарских славян в результате смуты уменьшилась минимум вполовину. Теперь, когда Константин вернулся к себе, Телеригу пришла в голову мысль и ослабить Империю, и решить свои проблемы. Буква договора, как он полагал, не пострадала бы. В качестве цели своего нападения он избрал самую крупную, населенную и удаленную от византийской столицы из «порабощенных» Константином македонских славиний. «Верзития», земля берзичей, старейший центр славянского расселения, обеспечила бы болгарскую орду необходимыми земледельцами и пехотой. Хан не надеялся удержать эту далекую от Плиски землю. Он решил, по давней кочевнической традиции, насильно выселить берзичей к себе в Болгарию. Для этой цели он отправил двенадцатитысячное войско во главе со своими боилами. Но при дворе Телерига еще действовали «тайные друзья» ромейского императора. Только вернувшись в столицу, в октябре, Константин уже узнал о замысле своего врага. Константин не стал распускать постоянные войсковые части, а находившимся еще в столице болгарским послам сообщил, что выступает против арабов. Для отвода глаз отряды под знаменами и войсковую обслугу перебросили на азиатский берег. Ничего не подозревавшие ханские послы отбыли из Константинополя. Удостоверившись в их отъезде, Константин выступил на запад, на перехват болгар. Императорская армия насчитывала 80 тысяч человек. Это были в основном тагмы — постоянные наемные отряды Империи — а также ополчение малоазийской фемы фракисианов. Близ Лифосории, где-то на границах Македонии, василевс настиг посланное Телеригом войско. Константин атаковал внезапно, не давая сигнала к бою. Видя неожиданную атаку превосходящих сил врага, болгары обратились в бегство. Многие были захвачены в плен, Константин получил богатую добычу. Ни один ромей не погиб, что дало повод императору-триумфатору поименовать кампанию «благородной войной».[1616] «Благородная война» 774 г. на время обезопасила македонские славинии со стороны Болгарии. Однако она и прочнее привязала их к Византии. Славянские «архонты» на опыте поняли, что подчинение Константинополю может принести и пользу. Константин в известном смысле баловал славянскую знать — знаками своего расположения усыпляя бдительность на будущее. Что касается Болгарии, то мир ее с Империей так и остался непрочен. Телериг уже в следующем году отплатил обманом за обман. Посулив свой побег от якобы неверных болгар на ромейскую службу, он выведал у Константина имена его агентов — и покончил одним ударом со всей ромейской партией при своем дворе. Судьба, однако, сыграла с Телеригом злую шутку. В 777 г. болгары действительно свергли своего хана, и он действительно вынужден был бежать в Константинополь. На его счастье, правил там уже Лев IV (775–780). Он обласкал беглеца и лично крестил его. Новый болгарский хан Кардам (777–803) на первых порах избегал войн с Империей. После недолго правления Льва IV в 780 г. престол перешел к его малолетнему сыну Константину VI при регентстве его матери Ирины. С именем Ирины связаны первые шаги по восстановлению былого величия Империи, выходу из «темных веков». Православная уроженка Афин, Ирина с первых шагов выказала себя сторонницей иконопочитания. При ней и ее стараниями VII Вселенский собор 787 г. осудил иконоборчество как ересь. Первостепенной задачей для имперского правительства являлось отвоевание Балкан. Разбросанные по Македонии и Греции славинии, лишь на словах подчинявшиеся императорской власти, следовало привести к покорности. Гречанка Ирина потерю родной страны, засилье там «варваров», конечно, воспринимала с особой болью. Все договоренности со славянами, заключенные при Константине V, перед этой болью теряли силу. Тем более что Ирина ненавидела тестя-иконоборца и его политику. Именно для того, чтобы сосредоточиться на освобождении Эллады, она поспешила сразу по вступлении на престол заключить мир с арабами. Гарантировав себя от опасности с Востока, Ирина осенью 783 г. поставила во главе «большого войска» свое доверенное лицо, придворного евнуха Ставракия. Ставракий, довольно одаренный военачальник, в то время носил титулы патрикия и логофета дрома. Целью Ставракия было реальное подчинение многочисленных «племен славян» — от Македонии до самого Пелопоннеса. Ставракий выступил на запад. Пора была наиболее удобная для вторжения в славянские земли, и родившаяся в Афинах Ирина, конечно, хорошо знала это. Завершался сбор урожая, а затем следовало гощенье славянских князей. Их можно было захватить врасплох, сбор племенного ополчения становился почти невозможен. Сначала Ставракий двинулся прямиком на закат, к Фессалонике. Здесь он покорил струмлян и славян Халкидики. Подчинились ему и другие племена фемы Фессалоника — дреговичи, берзичи, сагудаты. От Фессалоники Ставракий повернул на юг, в фему Элладу. Здесь ему также сопутствовал успех. Велеездичи, войничи и другие славяне Средней Греции, застигнутые внезапным, давно уже невиданным вторжением ромеев, покорились Ставракию. Существенного сопротивления ромейский полководец не встретил. Поход его продолжался считанные месяцы. В фемах Фессалоника и Эллада, пишет Феофан, «он подчинил всех и сделал данниками царства».[1617] Однако сложнее обстояло дело на Пелопоннесе. Сюда Ставракий добрался в последнюю очередь. Власть Империи здесь практически отсутствовала уже не первое десятилетие. Славяне — прежде всего, милинги и езеричи, — были гораздо сплоченнее и многочисленнее, чем на севере. Тем не менее в сражениях с ними Ставракий одерживал победы. Ему досталось «множество пленных и добыча». В результате удалось закрепить за Империей восточную прибрежную полосу Пелопоннеса от Коринфа до мыса Малея. Здесь учредили новую фему Пелопоннес, стратиг которой должен был постепенно укреплять власть Империи на полуострове.[1618] Ставракий, и так сделавший немало, не стал оставаться на Пелопоннесе. После первых успехов и назначения стратига он вернулся в Константинополь. В январе 784 г. Ставракий с победой вступил в столицу и справил триумф. Закрепляя его успех, Ирина в мае совершила, тоже с «большим войском», мирный поход по фракийским землям. Этот поход демонстрировал, что теперь все подступы к Константинополю вновь принадлежат Империи. Пострадавшие в ходе болгарских войн Вероя (ныне Стара Загора) и Анхиал были отстроены по приказу императрицы. При этом Вероя получила новое имя — Иринуполь.[1619] Итак, внешне отвоевание юга и юго-востока Балкан Империей состоялось. Славинии, наконец, устрашились и действительно подчинились власти Константинополя. Но «подчинение» это заключалось лишь в мире и выплате дани — пусть отныне и регулярной. Славянские «архонты», сдавшись Ставракию, сохранили свою власть и свою силу и в Македонии, и в Средней Греции. Ставракий не дробил и не уничтожал славиний — они нужны были как данники и как союзники во время болгарских войн. Не последовало на этот раз и каких-либо выселений славян с насиженных мест. Что касается Пелопоннеса, то он так и остался по преимуществу «варварским». Пока за пределы защищенных скалами прибрежных областей власть стратига новой фемы не распространялась. Уже спустя полтора десятка лет славянская знать, — правда, лишь одной из славиний, — попыталась продемонстрировать императрице свою силу и непокорность. Первое время впечатление от похода Ставракия жило стойко. Славяне Македонии и Эллады жили с Империей в мире, исправно внося назначенную дань. Этого мира не поколебала даже возобновившаяся Болгарская война. С 789 г. хан Кардам начал новые атаки на ромейские границы. На этом фоне подросший император Константин, опиравшийся на армию, сверг в 791 г. свою мать с престола. Впрочем, ему едва и с переменным успехом удавалось сдерживать болгар. На других границах дела шли тоже не лучшим образом. В 797 г. сторонники Ирины устроили заговор. Константина низвергли и ослепили. Императрица-мать вернулась к власти. В это время и выступил против нее князь велеездичей Акамир. Он присоединился к заговору, который созрел против императрицы в ее родной Элладе. Элладская знать сделала ставку на сыновей Константина V, дядьев Константина VI, незадолго до того ослепленных племянником. Правители и аристократы Эллады обратились за помощью к Акамиру. Он должен был со своей дружиной освободить содержавшихся под стражей царевичей, а затем объявить одного из них императором. Ирина, однако, вовремя узнала о заговоре. В Фессалию отправился спафарий (младший офицер) Феофилакт, племянник императрицы. Его отец патрикий Константин Сарандапих находился в Элладе — очевидно, он как-то связался с заговором и сообщил о нем императрице. Феофилакт и Константин быстро покончили с заговорщиками. Все они, включая Акамира, были схвачены и ослеплены, ничего значительного не сотворив.[1620] Столь легкая расправа едва ли была возможна лет сто назад. После похода Ставракия власть имперского центра в этих местах все-таки укрепилась. Итак, к концу VIII в. положение болгарских, македонских и греческих славян существенно изменилось. В Болгарии славяне, несмотря на исторические треволнения, постепенно начинали сливаться с болгарами в единый народ. Это прокладывало путь к превращению Болгарии в славянское государство — признаки тому в последние годы VIII в. уже появляются, пусть и не на страницах хроник. С другой стороны, славяне Македонии и Эллады оказались в более прочной зависимости от властей Империи. Византия начинала восстанавливать свои границы. На очереди был Пелопоннес. Это приближало славян к христианству, к высокой византийской культуре. Но утрата самостоятельности грозила утратой и самого славянского имени — что произойдет, в конце концов, со славянами Греции. Только крещение славян при сохранении независимости творило новую культуру, культуру Славянской цивилизации. По этому пути пойдет Первое Болгарское царство, включившее в свои пределы и Болгарию, и Македонию. А место встречи двух культур, греческой и славянской, Македония, даст славянскому миру его просветителей, создателей славянской грамоты и славянской письменной культуры. Солунские братья, святые Кирилл и Мефодий, войдут благодаря своим трудам в историю всех славянских народов. Глава вторая. Хорутания, Хорватия, СербияАльпийские и паннонские славяне в VIII в.Около 772–773 гг. арабский географ ал-Фазари между «областью бурджан», то есть Дунайской Болгарией, и «Византией с Константинополем» разместил «область славян». Размеры ее огромны — 3500 на 700 фарсахов (1 фарсах = около 6 км). Для сравнения — протяженность Болгарии 1500 на 300 фарсахов, то есть гораздо меньше; Византии — 3000 на 420, также меньше.[1621] Оставляя в стороне естественную условность, а скорее просто вымышленность подсчетов, ясно, что независимые славяне занимали территорию, превышающую тогдашнюю Болгарию и тогдашнюю Византию. Южными окраинами этой обширной «области» служили славинии Македонии и Эллады. Но большую ее часть составляли славянские княжества северо-запада Балкан и Среднего Подунавья. Они делились на две большие культурные зоны. Одну образовали сербские племена, расселившиеся от Адриатики до Сербского Подунавья. Вторую — «альпийские славяне», хорваты и хорутане, составлявшие пока единую языковую группу.[1622] С точки зрения русского летописца начала XII в., «хорваты белые и сербы и хорутане» входили в один круг древних славянских племен.[1623] Но в описываемое время хорваты ближе стояли к хорутанам, чем к сербам. При всем том хорутане еще поддерживали более тесные, чем хорваты, связи с западными славянами.[1624] Многие новые явления в культуре и языке — общие для восточных, западных славян и хорутан. К альпийским славянам примыкали славяне Паннонии и соседних с ней восточных задунайских областей. Эти земли еще находились под властью авар. Сложение к началу VIII в. Второго Аварского каганата стало серьезной угрозой и для соседних славянских племен. Авары уже не могли держать в страхе всю Восточную Европу. Но они были в состоянии и тревожить соседей набегами, и захватывать некоторые славянские земли. Аварская угроза и борьба с ней, свержение еще тяготевшего над частью славян аварского ига — вот что определяло историю славян альпийских и паннонских в VIII столетии. Трем массивам славянского населения — хорутанскому, паннонскому и хорватскому — соответствуют в VIII в. три археологические культуры. При всей языковой и культурной близости хорутан и хорватов их быт и образ жизни несколько отличались. С другой стороны, и в Хорутании, и в Хорватии сильно ощущалось наследие местного населения. И там, и там таким местным населением были иллирийцы и кельты, некогда воспринявшие от римлян романский язык и культуру. К началу VIII в. эти древние жители повсеместно сливаются со славянами, передавая часть своего культурного наследия им. Собственная единая культура Хорутании (Карантании) сложилась к середине VIII в. Это стало итогом долгого смешения славян, германцев и местных романцев в Восточных Альпах. В итоге славянские племена хорутанского союза расселились от Дуная до Адриатического моря. Основная их часть жила в гигантском треугольнике между границами Баварии, Лангобардского королевства и Аварского каганата. Однако на юге уже в VIII в. хорутане расселялись по Истрии и Фриулю, проникали по Саве в Хорватию. На западе отдельные роды славян оседали в землях Баварии, до окрестностей Зальцбурга и даже западнее.[1625] Государственные границы не могли стать преградой для стихийного движения страдавших от малоземелья славян. Славяне-хорутане являлись потомками как славянских переселенцев, так и туземного населения. Подчас они и жили на местах, освоенных уже издревле.[1626] С другой стороны, родство с другими славянскими племенами ощущалось в культуре и, конечно, составляло немалую важность в самосознании хорутан. Исследователи уже давно обратили внимание на одну разновидность женских украшений славян — височные кольца — как на своеобразный маркер племенной принадлежности. У восточных славян, например, женщины разных племенных союзов носили височные кольца разных типов. У хорутан и хорватов VIII в. распространен один и тот же тип височных колец — проволочные, с петелькой и крючком или двумя крючками на конце. Реже и там, и там встречаются кольца с завитком в форме буквы S. Особенно много их у хорутан, и это наследие предшествующей пражской культуры.[1627] Хорутане занимались как земледелием, так и скотоводством. Постоянное расселение в малолюдных местах не позволяло им полностью отказаться от подсеки.[1628] Но на старопахотных землях, конечно, господствовало пашенное земледелие. От романцев хорутане восприняли гончарный круг. Их посуда — вариант распространенной по всему Среднему Подунавью, родившейся в землях Аварского каганата дунайской гончарной посуды.[1629] В письменных источниках упоминается оружие хорутан — копья, топоры.[1630] В погребениях карантанской культуры их не находят. Зато находят многочисленные украшения — помимо височных колец, также серьги, фибулы, шейные цепочки, привески, перстни. Из стекла делали бусы и привески в виде ягодок к серьгам.[1631] Находки украшений свидетельствуют о продолжавшемся расслоении в обществе. Хорутанская знать владела немалым числом рабов.[1632] Хорутане продолжали жить своим древним племенным строем. Большая семья у их потомков — словенцев — дожила до начала нового времени.[1633] Княжеская власть укреплялась, но довольно медленно. Князей по-прежнему выбирали. Хотя только из одного дома, возводившего свою родословную к Само. Во всяком случае, это относилось к общим князьям всех хорутан.[1634] Князь Крнского града стал к этому времени единственным. Не признававшие такой его власти земли отделялись.[1635] Отдельные «роды» возглавлялись жупанами.[1636] Тем не менее власть этого единственного князя оставалась весьма ограниченной. Решения о войне принимались «войском» коллективно, на вече.[1637] Но в религиозных и судебных делах князь, как высший жрец, «владыка», имел достаточно высокий авторитет. К концу VIII в. этот авторитет укрепился до почти что монархической власти — но по-прежнему зависел от народной «любви» к конкретному правителю.[1638] Двусоставные «княжеские» имена появились в княжеском роду хорутан только в середине VIII в. и не сразу прижились. В первой четверти VIII в. хорутане, по оценкам недавно окрестившихся баварских соседей, оставались «жестокими язычниками».[1639] По мере укрепления власти князей и связанных с ними жрецов их сопротивление всякой угрозе проникновения христианства возрастало. Особенно агрессивно по отношению, скажем, к соседним монастырям, оно проявлялось во время войн с христианами. Но близилось время, когда интересы князей, вынужденных заботиться о целостности своей земли, пойдут вразрез со служением старым богам. Предпосылки для того в народных массах имелись. Хорутане явно не страдали особой набожностью с языческой точки зрения. В смешении народов многие черты древней культуры утрачивались, появлялись новые. Так, среди хорутан получили хождение подвесные амулеты в виде молоточков — явно германского происхождения.[1640] Конечно, «молоточек Донара» легко становился для славянина «молоточком Перуна». Но и при этом размывание древней веры с неизбежностью происходило. Приходили ведь не только «молоточки». От германцев наверняка воспринимались и мифы, и образы их во многом отличающегося от славянского пантеона. И через германцев, и в гораздо большей степени через романцев славяне знакомились с христианской верой. Еще в VI в. в Восточных Альпах трудились посланцы Турской епархии. Позднее здесь побывал Аманд. Далеко не все потомки смешавшихся со славянами иных «родов», конечно, впали в вероотступничество. В итоге уже с VI в. славяне восприняли многие элементы как римской вообще, так и христианской культуры. Хорутане VIII в. хоронили своих мертвых только через трупоположения, головой на восток, на спине, со сложенными руками. Клали их на досках-дрогах или прямо в землю. Впрочем, этот вполне христианский по виду обряд сопровождался и языческими ритуалами. По местному древнему обычаю погребение сопровождалось ритуальной трапезой, и кости от нее бросали в могилу. Шестая часть могил сопровождалась еще и пищевой жертвой — сосудами с едой, которые ставили в головах тела. В зависимости от времени года, умерших обращали головой к северо-востоку или к юго-востоку. Зная некоторые христианские обычаи, славяне легче воспринимали христианство. Но вот глубокое его приятие, изменение образа жизни и тем паче привычных ритуалов шло с трудом. Даже после начала принятия хорутанами христианства их погребальный обряд особых изменений не претерпел. А примерно с рубежа VIII/IX вв., по мере обогащения знати, даже распространился обычай класть в могилы богатый инвентарь — чего раньше не было. В том числе и упомянутые ранее языческие амулеты.[1641] Придунайские земли нынешней Нижней Австрии, окрестности античного Карнунта, были аваро-хорутанским пограничьем. Здесь жили как хорутане, так и бежавшие под их защиту из земель Аварского каганата славяне. Они и принесли сюда еще в VII в. аварскую культуру Паннонии. Позднее, к середине века, здесь появились и сами завоеватели. Но и тогда подавляющее большинство населения этой придунайской области составляли славяне.[1642] Культура самой Паннонии носила смешанный характер. Здесь вперемешку жили авары, романцы и славяне. Славянские земледельческие поселения с домами-полуземлянками квадратной формы располагались по краям занятых аварами степных угодий нынешнего венгерского Алфёлда. Но и на основных землях каганата встречаются славянские памятники — в основном кладбища. Славяне нередко хоронили своих умерших по исконному ритуалу кремации — вплоть до VIII/IX вв. Там, где они теснее сближались с завоевателями и покоренными ими романцами, погребальный ритуал менялся. Известны могильники с десятками славянских трупоположений, ориентированных на запад. В могилы славяне подчас клали в виде подношений умершим птичьи яйца, иногда крашеные — древнейшее свидетельство этого обычая у их племен. Известны в Паннонии и Венгерском Задунавье и славянские изделия — пальчатые фибулы, ритуальные ножи с завитой рукоятью, а также ценившиеся славянами византийские серьги в виде звездочек.[1643] Еще больше славянского населения было дальше на восток, на Трансильванском плато. Здесь продолжалось развитие сложившейся еще в VII в. культурной «медиаш-группы», соединившей славян, гепидов и романцев-влахов.[1644] Славяне все чаще селились на одних поселениях с соседями, прежде всего влахами. Точнее, как свидетельствует русское летописное предание, влахи насильно подселялись к славянам и жили отчасти за их счет. Это была часть политики Аварского каганата. Каганы выстроили жесткую иерархию подвластных племен, в которой лишившиеся собственных вождей земледельцы, славяне и германцы, оказались в самом низу лестницы. Оставшимся на службе у кагана остаткам сирмисиан по-прежнему предоставлялась возможность угнетать соседей. В этих условиях неудивительно, что, даже живя вместе с влахами, славяне старались сохранять верность своей культуре. Они хоронили умерших — пусть и на общих кладбищах — по ритуалу кремации.[1645] Облик сел «медиаш-группы» вполне славянский — скопления прямоугольных или округлых полуземлянок, отапливаемых либо печами-каменками, либо очагами, обложенными камнем. Славяне восприняли от влахов ручной (но еще не ножной) гончарный круг. Нередко посуду изготавливали по старинке, лепным способом. Появление гончарства содействовало развитию искусства орнамента. Лепная керамика обычно украшалась обычными засечками или щипками по венчику. Стройные, вытянутые гончарные сосуды славян медиаш-группы орнаментированы заметнее и богаче — прямыми и волнистыми линиями, ямками. Это сближает медиаш-группу с другими областями распространения среди славян гончарной дунайской керамики — Словакией, Нижней Австрией. Конечно, мастера разных сообщающихся областей, при сравнительной редкости гончарства у славян, обменивались навыками. С другой стороны, славяне явно учились и у мастеров-влахов. И сам ручной гончарный круг, и форма сосудов пришли от них.[1646] Среди других славянских находок на поселениях медиаш-группы — глиняные пряслица, костяные проколки, железные ножи и сверла.[1647] На протяжении VIII в. население Трансильванского плато еще возрастает. На западе аварскую агрессию сдерживали франки, хорутане и бавары, на юге — хорваты. На севере славянские племена удерживали берег Дуная. Пополнявшемуся за счет естественного прироста и угона пленных земледельческому населению каганата не хватало места в его центральных областях. К тому же каганы по-прежнему практиковали переселения славян с захваченных ими земель (Нижняя Австрия, какие-то области Словакии). В результате на Трансильванском плато возникли новые славянские поселения — Мурешти, Молдовенешти.[1648] Если в Аварском каганате славяне оставались под аварским игом, то в добившейся независимости Хорватии на протяжении VIII в. авары растворились в славянской среде. Они сохранили до Х в. самоназвание, какие-то предания предков, но утратили и язык, и большую часть черт культуры. Тем не менее в VIII в. еще известны аварские захоронения — с конями, оружием, сбруей, в украшенных бронзовыми подвесками поясах. В целом же культура Хорватии — совершенно славянская по облику.[1649] Хорваты с рубежа VII–VIII вв. начали активнее общаться с жителями восстанавливающегося далматинского Приморья. Соответственно, славяне многому учатся. Хорватские ремесленники воспринимают от романцев наследие античного ювелирного дела, гончарства, резьбы по кости. На смену славянским полуземлянкам приходят сельские строения римского облика. Нередко хорваты и жили в древних, античных еще селениях. Хорваты поддерживали в хорошем состоянии римские дороги, использовали их. Развивается торговля — в руки знатных людей приходят товары из Византии, Северной Италии, даже Сирии. В то же время денежное обращение едва развилось. Лишь в одном из хорватских погребений VIII в. найдена византийская монета.[1650] В целом Хорватия имела не менее, а то и более «цивилизованный» облик, чем славинии Эллады или тем паче Хорутания. В этих условиях к концу VII в. сложились основные черты хорватской повседневной культуры. Она представлена многочисленными находками на кладбищах VII–IX столетий. Из металлических изделий чаще всего встречаются разнообразные украшения (височные и головные кольца, шейные ожерелья со стеклянными бусами, перстни) и железные ножи. Из железа изготавливали также оружие, орудия сельского труда, бритвы, кресала, шила.[1651] Хорваты изготавливали керамику, сосуды дунайского типа, уже только на гончарном круге. При этом наряду со «славянским типом» — в основном плоскодонными округлыми горшками с широким горлом — есть и «особые типы». Они восходят к несколько упрощенным, «варваризованным» античным образцам. Посуду обычно делали из качественной, хорошо прочищенной глины, тщательно прогревали в гончарной печи. Наряду с глиняной посудой, использовали деревянные ведра. Их, как и глиняные пряслица для домашней работы, могли изготавливать в каждой семье. Находят в могилах также изделия из кости и рога — гребни, иголки.[1652] Пряжа и ткань шли на одежду. Обувь изготавливали из кожи. Сохранились как остатки обуви и одежд, так и металлические застежки к ним.[1653] Хорватские роды состояли из больших семей, которые и составляли основную ячейку общества.[1654] Власть общего князя хорватов ограничивалась жупанами, которые выбирали его, и старшинами семи родов. Тем не менее князь уже давно на деле передавал власть наследникам из собственного потомства.[1655] Князь являлся общим главой на войне.[1656] Вторым лицом после князя в хорватском племенном союзе являлся аварский баян. В подчинении у него находилось три жупы, тогда как князю подчинялось одиннадцать собственно славянских.[1657] Во внешней политике хорватские вожди ориентировались на христианские державы. Хорватский князь держал землю как дар византийского императора. Но при этом, в виде противовеса, «подчинялся» и далеким, пока бессильным на Балканах франкам.[1658] Развитие связей с возрождающейся Далмацией, становление новой культуры сопровождалось укреплением власти князей и знати. В хорватском обществе, особенно в Приморье, четко выделяются три общественных слоя. Основную массу населения составляли простые общинники, занимавшиеся большую часть жизни мирным трудом. С их бедными на находки могилами резко контрастируют погребения дружинников. Это были люди войны, нуждавшиеся в оружии даже в загробном мире. Оружие хорватского воина могли составлять не только лук и копье, но также меч, секира, боевой нож. В наследство от авар досталось искусство конного боя — и обычай погребения с конской сбруей. Особую группу в хорватском войске составляли местные авары, имевшие собственного вождя-баяна. Эти сражались верхом, с мечом или саблей. Их могилы выделяются и бронзовыми украшениями «мартыновского» поясного набора. Наконец, высший общественный слой составляла знать — жупаны и прочие «господа». Их боевое снаряжение гораздо дороже, чем набор простого дружинника. Хотя, конечно, некоторые из местных «господ» входили в дружины князя или баяна. Верхушку общества составляли богатейшие жупанские и княжеский роды. В их могилах обнаружены богатые украшения, в том числе привозные ценности из золота и стекла.[1659] Общение с романцами облегчалось единством веры — хотя бы формальным. Еще в VII в. хорватская знать приняла крещение. Хорватское духовенство подчинялось Риму. В стране создали две епархии. Глава одной из них был в сане архиепископа. Это позволяло с известной даже самостоятельностью от папства поддерживать церковную жизнь. Местами действовали римские еще христианские храмы. С конца VII в. хорваты полностью отказались от кремации умерших — если прежде вообще их совершали. Умерших хоронили в ямах на глубину до 1,5 м головой в зависимости от времени смерти на северо-запад или юго-запад, часто с инвентарем. Постепенно распространялся обычай захоронений по христианскому обряду в каменных или деревянных «гробах». Конечно, в массах, да и среди знатных людей новая вера была еще очень непрочна. Сохранялась возможность отступничества. Даже «христианские» могилы заполнены подношениями умершим, в зависимости от их имущественного положения. В могильниках Северной Далмации инвентарь имеется в 90 % захоронений конца VII — первой половины IX в.[1660] Но первые шаги в обращении хорватов уже были сделаны. Итак, альпийские славяне на протяжении VIII в. достигли довольно высокого уровня общественного и культурного развития, во многом опережая других южнославянских сородичей. Главной причиной тому было сохранение независимости. Как увидим далее, лежавшие к востоку Сербия и Дукля отличались здесь лишь немногим. Хорватия и тем более Хорутания не знали ни болгарской, ни ромейской угрозы. Но им пришлось в VIII в. столкнуться с угрозами иными — аварской, а затем и франкской. На этом фоне разворачивалась и борьба вокруг принятия новой веры, христианства — к началу века еще отвергаемой хорутанами и лишь на словах воспринятой хорватами. И упорная проповедь, и смешение с местными жителями, и нужды политические влекли славян к христианству. Но те же политические заботы, при возникновении даже призрачной — а далеко не всегда призрачной — угрозы независимости, могли от веры и отвратить. Между тем усиливавшиеся государства Запада и в религиозных делах блюли свои интересы. Нарождающееся у альпийских славян христианство избежало иконоборческого погрома — благодаря почти полному отсутствию связей с Византией и ориентации на Рим. Но это же вовлекало их в сложные церковно-политические построения папского Рима, все теснее связанного с франками. Вместе с тем пока интерес славян и франков был общий — уничтожение Аварского каганата, освобождение его подданных от ига. И это имело решающее значение для исторического выбора хорватов и хорутан. Последние войны с ФриулемК началу VIII в. на границе Хорутании с лангобардами царил мир. Вернее, формального мира не заключалось, и славянские «роды» время от времени самовольно оседали на фриульских землях. Но крупных столкновений уже давно не было. Аварская угроза сковывала силы хорутан. Своих проблем хватало и у лангобардов. Такое затишье могло сохраняться еще долгое время, если бы не фриульский герцог Фердульф. Человек он был, по воспоминаниям потомков, «неустойчивый и надменный». Выходец с другого конца Северной Италии, из Лигурии, Фердульф желал доказать свое право на власть над фриульцами ратными успехами. Фриульцев, конечно, раздражало расселение славян по землям герцогства. Такое расселение не могло то и дело не выливаться в конфликты из-за земель. К тому же рано или поздно хорутанские князья, отвлекшись от своих проблем, могли заявить притязания на занятые их соплеменниками земли. Потому «слава победителя славян» представилась Фердульфу весьма почетной в глазах подданных. 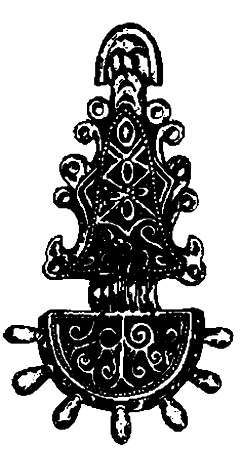 Пальчатая фибула. Аварская культура Фердульф решил спровоцировать хорутан на нападение. Он подкупил «некоторых из славян», дабы те «своим наущением» натравили на Фриуль соплеменников. Неизвестно, какие аргументы использовали агенты Фердульфа. Вообще, славяне в племенную эпоху никогда от войн не бежали. Аварская угроза сковывала силы, но не лишала всякой возможности безнаказанного набега за добычей. Когда на хорутанском вече в поддержку новой войны с Фриулем выступила влиятельна партия, она нашла поддержку. Речь сначала шла именно о небольшом набеге. Примерно в 706 г. хорутане пересекли границу с Фриулем и напали на горные пастбища. Угнав с собой пленниками пастухов и стада овец, они повернули назад. Лангобардский наместник (скульдхайз) пограничья Аргаит бросился в погоню, но сильно отставал и поэтому решил вернуться. Тут его встретил и остановил сам герцог со своей дружиной, «всей фриульской знатью». Фердульф, издеваясь над неудачной погоней и сердясь, что враги так и сбегут без битвы с ним, обозвал Аргаита трусом, «аргой» — грубейшее оскорбление в среде лангобардов. Взбешенный Аргаит, вообще-то «муж отважный», «знатный», «могучий духом и силой», воскликнул: «Да будет на то Божья воля, чтобы я и ты, герцог Фердульф, ушли из этой жизни не раньше, чем другие узнают, кто из нас больше арга!» Агенты герцога между тем устроили посылку шайке подкрепления. Вернувшись «с большими силами», славянское войско разбило стан на труднодоступной вершине пограничной горы, поджидая неприятеля. Конечно, большая часть воинов совсем не собиралась бежать или сдавать добычу и пришла всерьез померяться силами с лангобардами. Самих прислужников герцога, понимавших, зачем ему нужна война, среди славян могло и не быть. Да и они вполне могли вести двойную игру, заманивая спесивого лангобарда. Фердульф и Аргаит вместе двигались к славянской границе по следам разбойников. Обнаружив спустя «несколько дней» после встречи со скульдхайзом славянский отряд, Фердульф решил, что для него пробил час славы. Однако взобраться на гору напрямик оказалось затруднительно. Фердульф повел дружину в обход, чтобы найти более пологий склон. Но планы его сорвал Аргаит. «Вспомни, — вскричал он, — герцог Фердульф, как ты заявил, что я малодушен и никчемен, и назвал меня низким словом “арга”! Теперь же да сойдет гнев Божий на того, кто из нас доберется до этих славян последним!» Аргаит отделился от дружины и по «неровному», «крутому склону» погнал коня вверх. Фердульф, потеряв голову, бросился обгонять скульдхайза, за герцогом же последовала понукаемая стыдом дружина. При виде этой безумной атаки славяне взялись за камни, а когда уцелевшие враги приблизились — за топоры. Лангобардские всадники падали с коней, гибли, попадали в плен. Пала почти вся герцогская дружина. Погибли и сам Фердульф, и Аргаит. О знатном лангобарде Сикуальде сообщается, что он потерял в бою обоих сыновей. «Единственный поступил отважно и мужественно» Мунихиз, отец будущего фриульского герцога Петра. Сброшенный с коня, он немедленно был связан по рукам каким-то славянином. Но Мунихиз связанными руками вырвал у пленившего копье, пронзил его, а затем стремглав бежал вниз по тому же «неровному склону». Так ему удалось спастись.[1661] После этого набеги хорутан на Фриуль продолжились. Военные действия на границе длились больше десяти лет. Лангобарды выказали слабость и очевидную глупость. Славянские вожди не преминули воспользоваться этим — и для обогащения, и для возможного в будущем расширения границ. Места в Восточных Альпах уже не очень хватало, потому славяне и выселялись в Фриуль. Обострение отношений с лангобардами отозвалось и на баварской границе. Хорутане вновь стали беспокоить набегами западных соседей. Здесь также набеги славянских дружин прикрывали мирное расселение и расчищали ему дорогу. Примерно около 720 г. славяне разорили монастырь в местности Понгау к югу от Зальцбурга, основанный незадолго до того создателем Зальцбургской епархии Рупертом. Небольшой монастырь святого Максимилиана в Понгау возник в землях, уже заселяемых хорутанами. Его поддерживал герцог Теодеберт. На право быть благотворителями монастыря притязали и местные держатели из романского рода Альбина.[1662] Монахи, конечно, проповедовали христианство соседним «жестоким язычникам». В условиях войн с христианами на юге все это запросто могло вызвать агрессию. Не исключен и конфликт из-за земли — герцог едва ли брал в расчет при своих пожалованиях самовольное славянское расселение. Возведенный на фриульский трон после гибели Фердульфа новый герцог Пеммо взял на воспитание малолетних детей погибших лангобардских дружинников. Около того же 720 г., когда воспитанники уже держали в руках оружие, произошел очередной славянский набег. «Огромное множество» хорутан объявилось у селения Лавриана, всего в 5 км к северу от Фороюли. Пеммо со своими воспитанниками и новой старшей дружиной выступил против них. В двух сражениях славяне потерпели поражения и понесли большой урон. Как повествовали лангобардские предания, особенно отличился наряду с юношами старик Сикуальд, мстивший за потерю сыновей. Третье сражение превратилось в «большую резню» уже подавленных и разбитых славян. Со стороны лангобардов погиб один Сикуальд, а со стороны славян — опять «множество». Но Пеммо не преувеличивал свой успех. Герцог понимал крайнюю слабость Фриуля и боялся новых потерь в будущих войнах. Послав к отступающим славянам, он предложил им мир. Те, — что естественно после поражения, — сразу согласились. Хорутане почувствовали, что во Фриуле появилась достойная власть, и теперь желали с ней мира. Память о понесенном от Пеммо поражении, — впрочем, как и иные заботы, — впредь удерживали хорутанских князей от войн на юге.[1663] Следует напомнить, что последняя война была спровоцирована самим злосчастным Фердульфом. С другой стороны, расселение славян продолжалось. Ясно, что как раз согласно миру, подписанному Пеммо. Герцог, боявшийся новых войн едва ли не больше, чем разбитые славяне, вынужден был терпеть их на своих землях. Непременными условиями являлись признание герцогской власти и соблюдение земельных прав лангобардов. Пеммо завязал со славянами довольно добрососедские отношения. Они могли бы помочь ему в 737 г., когда из-за ссоры с патриархом Аквилеи герцог навлек на себя гнев короля Лиутпранда. Этот сильный и одаренный правитель на время обуздал самовластие знати на местах и сплотил лангобардов под своей властью. Во Фриуле король встал на защиту патриарха, которого Пеммо заключил в тюрьму. Низложив герцога, Лиутпранд передал власть над Фриулем его же сыну Ратхизу. Пеммо со своей дружиной тогда задумал бежать к славянам — конечно же, рассчитывая на их помощь. Хорутане еще в VII в. участвовали в борьбе за фриульский престол. Но Ратхиз удержал отца и заступился за него перед королем. Впрочем, хитрый Лиутпранд лишь заманивал Пеммо в Павию. Явившись под сыновние гарантии в столицу со своими сторонниками, низложенный герцог немедленно попал в заточение.[1664] Ратхиз стал герцогом Фриульским. Однако все происшедшее испортило отношения со славянами. Поступок Ратхиза пусть и невольно, но заманившего отца в темницу и отнявшего у него власть, для славян выглядел кощунственно. Издавна платившие дань фриульским лангобардам зиляне в верховьях Зильи отказались подчиняться новому герцогу.[1665] Отложились они, судя по дальнейшему, не к Хорутании, а к новому славянскому княжеству — Крайне. Возникновение княжества Крайна на землях древнеримской области Карниола относится к первой трети VIII в. Широкое расселение хорутан привело к ослаблению центральной власти сидевшего в Крнском князя. Славяне, сидевшие в самых верховьях Савы между горами Караванке и Юлийскими Альпами, стали управляться собственными вождями. Не исключено, что князья Крайны являлись ответвлением хорутанской династии. Но они могли выдвинуться и из местной знати. Ни о каких усобицах в связи с этим неизвестно — что не значит, будто их вовсе не было. Южная окраина Хорутании — откуда и название — обособилась в самостоятельное племенное княжение. На западе земли Крайны достигали долины Зильи, так что для зилян не составляло труда прибегнуть к помощи именно крайнских князей. Хорутане же сохранили мир с Фриулем. В 738 г. Ратхиз выступил в поход на Крайну. В сражении с фриульцами крайнцы потерпели поражение. Погибло их «большое множество». Ратхиз углубился в земли Крайны и подверг всю страну опустошению. При этом в каком-то месте его войско подверглось внезапному нападению славян. Застигнутые врасплох лангобарды не успели толком подготовиться. Даже герцог не взял еще копье у оруженосца, когда сшибся с врагом в рукопашную. Первого подбежавшего славянина, отмечает в связи с этим живописующий герцогские подвиги хронист, Ратхиз убил простой палицей. Но о каких-нибудь значимых итогах похода — как на самом деле и об исходе описанного сражения — нет ни слова.[1666] Похоже, фриульцы не без труда покинули разоренные славянские земли. Что касается зилян, то они так и остались независимы от лангобардов. Это была последняя вспышка войны на границе альпийских славян с Фриулем. После этого, наконец, установился действительный мир. Славянских набегов не происходило еще со времен договора, заключенного Пеммо. Хорутан всецело заняла борьба за независимость против наступавших с новыми силами авар. Славяне продолжали жить на землях самого герцогства, подчиняясь его властям. Но фриульские герцоги более не пытались распространить свое влияние на собственно славянские земли Хорутании и Крайны. Тем более что к Хорутании уже приглядывалось другое германское герцогство, намного превосходившее Фриуль силами — Бавария. Обращение хорутанОбразование к западу от аварских границ сильного славянского княжества — Хорутании — вдохновляло славян каганата на борьбу с игом. Однако победа на территории самой кочевнической державы казалась невозможной. Пришлось бы истребить или изгнать всех авар, на что у славян явно не хватало сил. Как и влахи, славяне просто стремились покидать пределы каганата целыми племенами. Многим удалось прорваться, как и влахам Кувера и Мавра на востоке. С начала VIII в. массы славян бежали вниз по Дунаю в район древнего Карнунта, принадлежавший тогда хорутанским князьям. Каганат не мог мириться с этим — как и с самой потерей западных земель. Восстановив силы после мятежа Кувера, вновь сплотившись вокруг своего кагана, авары перешли в наступление. По следам славянских беглецов в Нижнюю Австрию вторглись кочевники. Занятые столкновениями с лангобардами на юге, хорутане не смогли защитить свои северные границы. Авары захватили земли по Дунаю, отрезав Хорутанию от северных задунайских сородичей, возможных союзников. Местные славяне вновь были порабощены. В их землях теперь постоянно находились отряды аварской конницы, собиравшие дань и следившие за местным населением.[1667] Отрезав хорутан от Дуная и от возможной поддержки с севера, авары перешли в наступление на основные земли княжества. Хорутанию ослабляли и сравнительно недавняя еще война с Фриулем, и отпадение Крайны. Правивший Хорутанией около 740 г. князь Борут решил выбрать из двух зол меньшее. Он обратился за помощью к баварам. При этом князь отдавал себе отчет в том, что дело кончится подчинением баварскому герцогу Одило. Бавары помощь оказали с готовностью. Тому имелось несколько причин. Во-первых, натиск авар на запад создавал очевидную угрозу для самой Баварии. До сих пор славянские земли прикрывали герцогство от Аварского каганата. С захватом аварами района Карнунта каганат вновь превращался в непосредственного соседа Баварии. Сохранение славянской Хорутании как передового рубежа обороны становилось двойной необходимостью. Но Хорутания и сама являлась источником беспокойства. Бавары уже столкнулись с расселением хорутан по собственной территории. В Понгау за пару десятков лет до того уже имел место конфликт, закончившийся гибелью монастыря. Так что Одило был весьма заинтересован в мире с Борутом, а по возможности и в контроле за Хорутанией. Бавары пришли на помощь Боруту. Авар разгромили и отбросили, хотя захваченные вначале области так и остались за ними. Теперь Хорутания нуждалась в постоянной помощи баваров, а те — в постоянном союзе с ней. Борут пошел на признание зависимости от Одило. В знак подчинения он отдал в заложники союза своего сына Горазда и сына своего брата Хотимира. Тем не менее хорутанский князь остался для баваров «герцогом», dux, наравне с их собственным вождем. Так что подлинного покорения Хорутании не произошло. У одной Баварии, независимой тогда от франков, на это не хватило бы сил. Да Одило и не пытался принудить Борута силой к чему-то, чего тот не уступал сам. Условия договора между хорутанами и баварами выглядели так. Бавары брались защищать хорутанские земли, тогда как Борут признавал старшинство Одило — прежде всего, в делах войны. Самым существенным для будущего условием являлось то, что Борут «попросил» воспитать посланных в Баварию наследников княжеского престола как христиан.[1668] Парадокс в том, что сам Борут при этом остался язычником. Отсюда ясно, что «просьба» являлась на деле уступкой баварам — дабы прочнее связать их с делами Хорутании. Являясь по обычаю верховным жрецом, Борут, как можно судить из этого, к вере своей был довольно равнодушен. Сам по себе подобный факт неудивителен. Смешение различных народов в Восточных Альпах знакомило славян как с иными языческими верованиями, так и с христианством. Многие представители знати обретали необычную для предков «широту взглядов». Это, в свою очередь, превращало их со временем в «скептиков» по отношению к вере отцов. К тому же христиане в Хорутании имелись — потомки и романцев, и крещеных когда-то Амандом «немногих» славян. Союз с Баварией, конечно, вдохновил их. При княжеском дворе начала складываться христианская партия, которая видела в этом союзе возможность для крещения соплеменников. Мир и союз между Хорутанией и Баварией позволил баварам ввести славянское расселение в более-менее приемлемое русло. Теперь славянские поселенцы, хотя и возглавлявшиеся собственными вождями-жупанами, подчинялись герцогской власти. Вскоре после договора с Борутом, около 741–746 гг. пресвитер Урс из рода Альбина с разрешения Одило восстановил обитель в Понгау.[1669] Примерно около 750 г. князь Борут умер. К этому времени обстановка вокруг Хорутании существенно изменилась. Всесильный уже правитель франков, майордом Пипин Короткий в 748 г. сместил Одило, зятя по сестре, с баварского престола. Одило поплатился за вмешательство в смуту среди сыновей своего тестя Карла Мартелла. С этого времени подчинение Баварии франкам, доселе лишь внешнее, наполняется не слишком приятным для баварской знати содержанием. Новый герцог Тассило III, племянник Пипина и сын Одило, первые годы правления вел себя как ставленник дяди. Для Хорутании это означало две вещи. С одной стороны, франки теперь поддерживали бавар и хорутан в непрекращающейся борьбе с аварами. В «непрестанных войнах» баварам и хорутанам при помощи франков удавалось успешно сдерживать кочевников.[1670] С другой стороны, Франкское королевство намного превосходило и Хорутанию, и Баварию силами. Теперь, когда под властью сына Карла Мартелла франки обрели единство, с ними не мог сравниться уже вообще никто в «варварской» Европе. Отношения с таким «союзником» могли строиться уже только на подчинении, в чем бы это ни выражалось. После смерти Борута — с согласия франков и баваров — на княжеский престол вступил вернувшийся из Баварии Горазд. Он уже был крещен, но к распространению христианства среди соплеменников никаких усилий не прилагал. Впрочем, это пока не заботило и баварское духовенство. Нельзя исключить, что Зальцбург просто опасался, как бы попытки обращения «жесточайших язычников» не разрушили зыбкий союз. Вокняжение христианина Горазда являлось пробным камнем. Горазд благополучно прокняжил три года и скончался около 753 г. Ближайшим наследником оставался его двоюродный брат Хотимир, по-прежнему живший заложником в Баварии. Хотимир тоже крестился и был гораздо сильнее верующим христианином. Пипин Короткий утвердил Хотимира вассальным «герцогом» в Хорутанию. Еще в 751 г. Пипин с благословения папы римского Захарии взошел на королевский престол франков. Хотимир отправился на родину не один. С собою он взял священника Майорана, племянника и постриженика Лупа, настоятеля монастыря Св. Петра в Зальцбурге. Приезд Майорана означал первый шаг в становлении христианской Церкви в Хорутании. Христианское исповедание нового князя, как и покойного, не помешало его избранию хорутанами. Правление безразличного к вере Борута и Горазда, не следовавшего языческим обычаям, принесло плоды. Тем не менее не произошло и массового крещения хорутан. Князь не решался навязывать свою веру подданным. Майоран долго наставлял князя в христианстве и проповедовал в Хорутании в одиночку.[1671] Наконец, пример князя, уже вполне убежденного христианина, склонил к новой вере и многих подданных. Правление Хотимира длилось долго, безо всяких признаков гнева языческих богов. Одно это убеждало многих язычников в неистинности прежней веры. К тому же в пользу князя и христианства говорили ратные успехи. Хорутане при помощи христианских союзников продолжали сдерживать авар в новых границах. В то же время на западе и на юге царил теперь ничем не омрачаемый мир. Наконец, христианство уже давно приняла хорватская знать — безо всяких худых последствий. Все это привлекало и хорутан — по крайней мере, знатнейших, — к христианской вере. Поняв, что плод созрел, Хотимир начал действовать. Он отправил посольство в Зальцбург к тамошнему епископу Виргилию с просьбой прислать ему священников для обращения народа. Произошло это спустя сравнительно недолгое время после вокняжения Хотимира. Виргилий с радостью откликнулся на просьбу славянского князя. В Хорутанию отправились епископ Модест, четверо священников — Оттон, Регинберт, Гозхарий и Латин, — диакон Эгихард и какое-то число сопровождающих клириков. Они взялись за массовое обучение хорутан и обращение их в новую веру. По стране строились и освящались христианские церкви, в них начиналась постоянная служба. Многие славяне, следуя примеру своего князя, крестились. Служители древних богов, казалось бы, никак не сопротивлялись. Их паства стремительно сокращалась. Главным храмом Хорутании, кафедрой для поставленного по просьбе Хотимира епископа, стала церковь Святой Марии. Проповедники новой миссии на юге достигли земель Крайны и хорватской границы у Адриатики.[1672] Епископ Модест своими трудами завоевал уважение хорутан, даже язычников. Но после его кончины отношение к новой вере сразу же изменилось. Кажется, мир держался только на его влиянии. Если для принятия хорутанами новой веры имелись основания, то имелись они и для противодействия ей. Обращение шло из Баварии, условия союза с которой, пусть и необходимого, наверняка казались многим в Хорутании унизительными. Помимо того между славянами и латинскими священниками вставал языковой барьер. Сколь бы старательны и искренни ни были проповедники христианства, они оставались чужеземцами, и Богу служили на латыни. Это увеличивало отчуждение. Если же Хотимир, как иногда полагают, действительно отчислял некую ежегодную долю дани монастырю Святого Петра,[1673] то у хорутанской знати имелись основания и для гнева. Всем этим воспользовались приверженцы язычества. Сразу после смерти Модеста, пока Хотимир еще не выписал ему преемника из Зальцбурга, в стране началось восстание. В Баварии он получил название «кармула»,[1674] что и означало на древнебаварском «мятеж». И слово это вошло в славянские языки как «крамола» — обозначение междоусобицы, восстания против законной власти,[1675] недаром. Ведь это первый мятеж против княжеской власти, известный в славянской истории. Не исключено, что и первый вообще случившийся в славянском мире. Речь шла не о однодневном перевороте, не о свержении дружинниками вождя-неудачника, не о кровной вражде двух-трех родов. Такое-то как раз в языческую эпоху случалось, и нередко. Хорутанская крамола 760-х гг. стала первым мятежом племени против политики своего главы и вопреки существующему закону. Уходящая вера вступила в противоречие с племенным правом, «правдой». Перед лицом закона Хотимира, умелого дипломата и успешного правителя, защитника рубежей страны, упрекнуть было не в чем. Потому и раскололась Хорутания надвое, и началась междоусобная война. Первая, повторим, в славянской истории. Весть о ней потрясла славянских соседей и сородичей, а баварское слово, принятое и самими хорутанами, стало у славян нарицательным. Проще всего возложить за это ответственность на вошедшее в жизнь хорутан христианство. Но подобные явления возникали в истории всех народов при разложении первобытных устоев, принимали эти народы христианство или нет. Амбиции усиливающейся местной знати и противостоящей им высшей власти рано или поздно приводили к столкновениям в разных славянских княжествах. Но религиозная природа противостояния именно в Хорутании очевидна. Знать увидела в личной попытке князя сменить отчую веру собственной посягательство на свое влияние. Надо иметь в виду, что христианство распространялось мирно, без заметного нажима со стороны властей. Не происходило ни поголовных крещений, ни разрушения языческих святынь. Из этих святынь, кстати, даже в самом Крнском некоторые дожили до средневековья и еще тогда использовались для возведения на престол каринтийских герцогов. Хотимир был крайне осторожен в обращении своих подданных. Конечно, по факту князь являлся франко-баварским ставленником. Но выбор для хорутан на тот момент был невелик — самостоятельность под скипетром Пипина или прямое аварское иго. Полная независимость, к несчастью, уже в число альтернатив не входила. У власти Хотимир утвердился мирно, по воле самих здраво судивших соплеменников. За оружие же взялись язычники, движимые и униженным племенным чувством, и отступничеством князя от веры отцов. Причем взялись за оружие только тогда, когда угроза мирного торжества новой веры стала вполне осязаемой. Как и во многих странах мира, не появление религии откровения, а сопротивление ей приверженцев старого стало причиной религиозного гонения. Именно крамола, а не крещение, лишила Хорутанию исторического выбора на будущее, перевела ее отношения с франками и баварами в совершенно иную плоскость. Крамола сделала невозможной дальнейшую проповедь. Предоставив князю разбираться с мятежниками, миссионеры на время прекратили работу. Виргилий отказался прислать нового епископа в Хорутанию. Хотимиру удалось было справиться с мятежом. Тогда в преемники Модесту был назначен Латин. Но победа князя оказалась неокончательной. То ли в связи с избранием нового главы миссии, то ли просто несломленные полностью, язычники поднялись вновь. Латина прогнали из Хорутании. Крамола возобновилась. Наконец, Хотимир одержал победу. Но церковную организацию Виргилий воссоздавать в Хорутании не решился. Направив настоятелем к святой Марии пресвитера Мадальхола, он одним этим и ограничился. Позднее на смену Мадальхолу прибыл новый священник — Варманн. Примерно в 769 г. умер Хотимир. Судя по длительности правления, князь был достаточно популярен среди своих подданных. Он сохранял власть порядка 15 лет, притом что впервые в славянской истории столкнулся с междоусобной войной. Недовольных ему удалось подавить, искренне исповедуемое христианство — утвердить на хорутанской земле. Однако сразу после его смерти крамольники вновь дали о себе знать. Мятеж вспыхнул с новой силой. Варманн бежал из Хорутании, и в стране не осталось «ни одного священника».[1676] Новый князь, некто Вальтунк, сначала поддерживал язычников. Его имя напоминает о языческом титуле князя как верховного жреца — «владыка». Не исключено, что «Вальтунк» принял этот титул, вступив на престол и восстановив язычество во всех его правах. Разгром христианской партии, сторонников союза с Баварией, естественно, привел к разрыву этого союза. На границе начались столкновения. Баварская знать совершала набеги на Хорутанию, захватывала рабов.[1677] Хорутанская крамола не ограничилась только пределами Хорутании и пока языческой в основном Крайны. В соседней Хорватии имелись свои, пусть не столь острые, причины для отступничества. Собственно, основной являлось крайне поверхностное восприятие христианства даже знатью. Рим был далек, связи с ним не слишком регулярны. До Хорватии наверняка доходили какие-то сведения о разладе римских пап с византийским иконоборческим двором. Обширное Хорватское княжество меньше, чем Хорутания, нуждалось в союзе с франками. До сих пор он был просто противовесом восстанавливающейся Византии. Авары Хорватию тревожить не смели. Но теперь франки и бавары пытались утвердиться в Хорутании. А это грозило сделать «подчинение» франкам реальностью. Так что хорватская знать поддержала хорутанскую крамолу. В Хорватии тоже произошло вероотступничество. Княжеский дом отказался от христианства. Две епархии, созданные при Ираклии, были уничтожены. В то же время хорваты не стали отказываться от «подчинения» франкам. Они выжидали.[1678] Тассило III готовил для борьбы с крамолой как военные, так и мирные средства. Действовать ему приходилось в одиночку, без поддержки франков. В 768 г. умер король Пипин. Франкское королевство поделили его сыновья Карл и Карломан. Бавария вновь обрела самостоятельность, к чему Тассило всегда стремился. Но вместе с независимостью пришло и немало проблем. В 769 г., с началом новой крамолы, Тассило выделил Атто, аббату монастыря Шарниц Фрейзингского епископа, местность Иннихен для создания нового монастыря. Пустынный Иннихен, который выпросил Атто у герцога, располагался в верховьях Дравы, на границе с Хорутанией. Граница проходила тогда, согласно грамоте, по впадающему в Драву и стекающему с Анрасских Альп «ручейку». Вплоть до него и простерлись новые монастырские владения. Цель создания монастыря Тассило, в согласии с просьбой Атто, сформулировал четко — «вывести неверующий род славян на путь истины».[1679] Духовенство Фрейзинга рассчитывало преуспеть там, где потерпели неудачу зальцбургские собратья. Исход крамолы решило баварское оружие. В 772 г. пограничные столкновения вылились в большую войну. Против Хорутании выступил сам Тассило. В сражении с герцогским войском хорутане потерпели поражение.[1680] Неудивительно — им теперь приходилось вести войну на два фронта, против Аварии и Баварии. Ныне, после разгрома, речь могла идти только о действительном подчинении баварам. Вальтунк сделал минимальную уступку. Он «послал вновь к епископу Виргилию и попросил его направить туда же священников».[1681] Тем самым под крамолой была подведена черта. Для Хорутанского княжества это означало еще полвека относительной независимости. Виргилий не стал восстанавливать Карантанскую епархию. Это означало прямой конфликт с Фрейзингом, миссионеры которого тоже трудились среди хорутан.[1682] Однако по «просьбе» принявшего крещение Вальтунка он отправил к нему священников Хеймона и Регинбальда с диаконом Майораном и клириками. Затем вплоть до кончины Виргилия в 784 г. миссионеры из Зальцбурга сменяли друг друга в Хорутании. На смену Регинбальду в помощь Хеймону прибыл священник Дублитер, в священство был возведен и Майоран. Затем Хеймона и Дублитера сменил новый глава миссии Гозхарий, уже живший среди хорутан при Хотимире, и приданный ему Эрханберт. Затем вся миссия была отозвана, и в Хорутанию вернулся Регинбальд с новым сотоварищем Регинхаром. Следующие две миссии тоже состояли из пар священников — Майоран с новым спутником Августином и тот же Регинбальд, тоже с новым спутником Гунтаром. Обращают на себя внимание сокращение числа миссионеров с трех до двух, а также полное отсутствие сведений об их успехах. Новое обращение хорутан после кровавой крамолы шло с трудом.[1683] В итоге большинство хорутан еще и в 788 г. «оставалось в неверии» и «упорно пребывало в черствости своего сердца». Некий франкский аббат, около этого времени просивший у своего покровителя сведений «в отношении славян и авар», только надеялся на обращение хорутан. Не желают ли они, народ «жалкий и весьма несчастный», — осведомлялся он — «когда-нибудь обратиться к вере и принять святое крещение»? [1684] Итак, обращение хорутан разворачивалось своим чередом, но крайне неспешно. Гораздо быстрее, и Тассило приложил к этому все усилия, происходило подчинение их власти баварского герцога. Для начала Тассило поставил под свой прямой контроль жупы, возникшие в собственных землях Баварии. Впрочем, говорить о собственных землях Баварии не всегда приходилось. В редкозаселенных областях на востоке, где хорутане и бавары селились чересполосно, границу доселе не всегда можно было провести. Теперь ее проводила воля баварского герцога-победителя. Пограничные жупы превращались в декании — единицы сбора герцогских податей и управления в сельской местности. Во главе деканий оставались при этом славянские жупаны. Однако жупан являлся в большей степени хранителем племенных традиций, «духовным» главой малого племени. Он, например, в случае необходимости свидетельствовал клятвой племенные рубежи. Практическая власть находилась в руках утверждаемых герцогской властью чиновников — акторов — из числа самих славян. Так, жупой в области Траунгау у реки Кремс (Верхняя Австрия) управляли жупан Быш и два актора — Долюб и Сборуна. При этом власть акторов не распространялась на три десятка славян, поселившихся отдельно по ручью Дитах и самовольно расчистивших землю по нему соседнему ручью Зирнинг. Эти славяне, однако, повиновались жупану. Власть герцога, осуществляемая через самих славян, оставалась призрачной. Границы деканий были неустойчивы и не закреплены документально. Соответственно, славяне самовольно выселялись за пределы деканий и расчищали новые земли — как те самые поселенцы на Дитахе. Такие захваченные земли становились частью декании лишь на словах и акторам совершенно не подчинялись. Однако герцог мог пожаловать славянские земли, и тогда зависимость славян становилась гораздо прочнее. Территория, указанная жупаном, обмеривалась и фиксировалась. В пределах установленных границ закреплялись строго определенные повинности. Декания сохраняла свой внутренний строй и своих вождей, но превращалась в частицу феодальной вотчины или церковного владения. И управлялась уже не из далекого Зальцбурга. Именно так произошло с жупой Быша осенью 777 г., когда Тассило III пожаловал ее вновь созданному Кремсмюнстерскому монастырю. К нему были приписаны не только славяне собственно декании, но и вольные поселенцы на Дитахе. Таким же вольным баварам в Эбершталле, занявшим землю без герцогской воли, Тассило разрешил либо служить монастырю, либо «свободными удалиться». Славянам такой выбор не предоставлялся — занятые ими земли просто передавались обители вместе с ними самими.[1685] Но подчинение восточноальпийских славян Баварскому герцогству оказалось недолговечным — как и само его независимое существование. В 772 г. Франкское королевство объединилось под власть Карла, впоследствии Великого. В войне 772–774 гг. Карл покончил с Лангобардским королевством в Италии. Последним, в 776 г., пал Фриуль — давний сосед и некогда противник хорутан. В 788 г. разразилась война между франками и Византией за господство в Италии. Тассило, опасавшийся усиления франков, вступил в сговор с ромеями и с аварским каганом. Но Карл разгромил авар и сместил Тассило с герцогского престола. Теперь с независимостью Баварии было покончено. Хорутании следовало впредь иметь дело с самим Франкским королевством, стремительно превращавшимся в новую Западную Империю. Во франко-аварских войнахНеизвестно, правил ли в те годы хорутанами еще Вальтунк. Смена сюзерена внешне не повлияла на Хорутанское княжество. Война с аварами продолжалась, и франки нуждались в прочном союзе со славянами. Вальтунк, покорившийся Тассило, умер или лишился власти вскоре после низложения герцога. Князем Хорутании стал некий Инго — славянин, но с именем явно германским. Инго происходил или из славянских жупанов Баварии, или из числа местных сторонников союза с Западом. Может, в его жилах действительно текла и германская кровь. Как бы то ни было, Инго удалось существенно укрепить княжескую власть в Хорутании. Жупаны и прочая знать повиновались ему беспрекословно, а в народе князь пользовался любовью. Его верховную власть признавала и Крайна.[1686] Главной задачей хорутан, с точки зрения Карла, являлась поддержка его в войне против авар. Для самих хорутан и их князя война франков с аварами открывала, наконец, дорогу к избавлению от аварской угрозы. Более того, франки полнились решимостью вовсе стереть каганат с карты Европы. Это сулило славянам Паннонии свободу от аварского ига, а Хорутании и Крайне княжествам позволяло раздвинуть границы на восток. В 791 г. Карл лично предпринял большой поход против авар. Для участия в походе были мобилизованы силы всей франкской державы. В войске Карла шли бавары, саксы и другие покоренные германские племена. Выставили свои войска и хорутане. Карл нанес аварам поражение и разорил их владения. С богатой добычей франкское войско вернулось в свои пределы.[1687] В результате этого похода началось продвижение франкской границы на восток. Франки отвоевали у авар славянские земли по Среднему Дунаю. Несмотря на многочисленное здесь славянское население, под власть хорутанских князей Нижняя Австрия не вернулась. Правда, с первым поражением авар открылась возможность движения прямо на восток, в Паннонию. Здешние славяне жаждали сбросить аварский гнет и видели освободителей в хорутанах и их союзниках. Между тем в расширившихся пределах Франкского королевства славяне шаг за шагом утрачивали самостоятельность. Местные вотчинники и монастыри могли управлять славянами непосредственно, в самом тесном контакте. Соответственно, автономия податного славянского населения уменьшалась. Уже к 791 г. жупа Быша на Кремсе была полностью поглощена деканией, и вождь утратил свой титул. Вся власть перешла в руки подчиненных монастырю акторов.[1688] Позднее произошло закрепление монастырем взимавшихся с подвластных славян повинностей и податей. Власть феодальных держателей распространялась дальше на восток, в ранее подвластные аварам земли. В местности Грунцвити в Нижней Австрии, на реке Фланвиц, живший здесь хутором-починком славянин должен был платить подать тому же Кремсмюнстерскому монастырю.[1689] В 795 г., в обстановке военных неудач, у авар разразилась междоусобица. Кагана попытался свергнуть югур — второе лицо в каганате. В разразившейся войне оба предводителя кочевников погибли. Франки и союзные им славяне Крайны решили немедленно воспользоваться случаем. Осенью 795 г. князь Крайны Войномир выступил в поход на самое сердце каганата, так называемый хринг (по-германски «кольцо»). Эта укрепленная ставка располагалась в глубине аварских земель, между Дунаем и Тисой. Прикрытая от франков великой рекой, доселе она оставалась для них недоступна. В помощь Войномиру франкский герцог Фриуля, Эйрик, отправил свою дружину. Совместный удар славян и франков был успешен. Хринг подвергся разграблению. «Сокровище прежних царей» авар, «собранное на протяжении многих веков», досталось Эйрику и Войномиру. Эйрик отослал свою долю добычи Карлу в его столицу Ахен. Король, в знак благодарности Богу за победу, отослал большую часть присланного в Рим, а остатки раздал приближенным.[1690] В результате этого похода на основной территории Аварского каганата воцарился хаос. Закрепляя успех, король Италии Пипин, сын и наместник Карла, в 796 г. сам вступил в Паннонию и, переправившись через Дунай, вновь захватил хринг. Остатки аварской знати в панике бежали за Тису. Каганат развалился в считанные месяцы. Местами авары еще сопротивлялись франкам, но у них вышли из повиновения массы славян. Они теперь признавали власть князя Хорутании. Бдительно следившая за происходящим Зальцбургская епархия отправила своих священников проповедовать христианство в освобожденных от власти кагана землях. Преемник Виргилия, епископ Арн, считал закрепление христианства в Хорутании и обращение Паннонии главной своей задачей. Будущими христианами он видел и славян, и авар. Прерванная было после смерти Виргилия проповедь христианства на востоке возобновилась. Арн обратился за поддержкой к хорутанским и соседним князьям и жупанам, прежде всего к Инго. Инго к этому времени достаточно укрепил свою власть верховного князя Хорутании и бывшей аварской Паннонии, чтобы показать силу. У себя на пиршестве князь решил пристыдить языческую знать. Он пригласил к столу рабов-христиан, напоив их из позолоченных чаш. А знатных хозяев Инго и усадил за воротами, и посуду им дал простую. Оскорбленные господа обратились к князю с вопросом: «Зачем так обходишься с нами?» Инго ответил: «Недостойны вы с вашими грязными телами восседать вместе с ними, омывшимися в святом источнике. Ешьте еду свою снаружи, у дверей дома, как псы». Один этот поступок князя убедил хорутанскую знать лучше любого насилия. Не дожидаясь иных намеков, родовитые хорутане начали креститься.[1691] Около этого же времени под влиянием западных традиций перестраивается Крнскиград. Быт его знати меняется на франкский манер.[1692] Успехи франков в борьбе с аварами вплотную затрагивали хорватов. Хорватские князья не желали стоять в стороне от происходящего. С франками они, несмотря на свое отступничество от христианства, сохранили давний союз. Однако теперь Карл мог потребовать действительного подчинения. С другой стороны, разгром каганата давал и хорватам возможность присвоить сколько-то земель со славянским в основном населением. Победы Войномира и Пипина позволили хорватам захватить часть каганата. «От хорватов, пришедших в Далмацию, — как повествует на основе хорватских преданий Константин Багрянородный, — отделилась некая часть и овладела Иллириком и Паннонией». В результате возникло самостоятельное княжество. Его глава на равных сносился с князем Хорватии, поддерживая с ним «дружбу».[1693] Этот новый племенной союз включил как пришельцев-хорватов, так и живших доселе под властью авар славян по Саве и в междуречье Савы и Дравы. Так появилась Посавская Хорватия или Славония — особое хорватское княжение, просуществовавшее более века. С большой Хорватией Славонию связала «дружба», основанная на родстве. 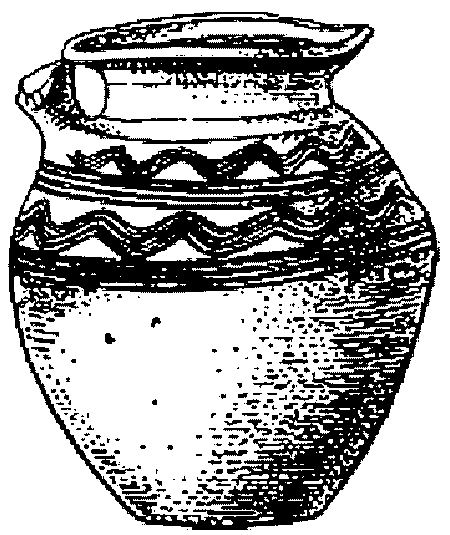 Глиняный сосуд. Паннония Но самовольство хорватов, занявших часть аварских земель, разгневало Карла. Паннония предназначалась, в лучшем для славян случае, преданным королю хорутанам. Никак не хорватам, чья зависимость от франков ограничивалась заверениями. Имело значение и то, что хорутане принимали крещение, а хорваты оставались вероотступниками. Сразу после разгрома хринга и основания Славонского княжества Карл вновь отправил Пипина в поход. На этот раз, в 797 г., король Италии выступил против славян. С Пипином пошли бавары и часть его лангобардского войска. Одновременно Эйрик с основными итальянскими силами выступил против авар. Пипин вторгся в Посавье и разорил славянские земли. Существенных потерь франки не понесли — хорваты только обосновывались в Славонии и не ожидали нападения. Но и Пипин понял, что отнять Посавье не получится. Он «с миром вернулся к своему отцу».[1694] Хорваты соглашались по-прежнему «подчиняться» франкам, а те оставили за ними захваченные южные земли Паннонии. Поход укрепил влияние франков и на верхней Саве, в Крайне. Эйрику в его действиях против авар сопутствовал гораздо более значимый успех. В 797–798 гг. франкский полководец покончил с остатками каганата. Теперь Аварии действительно настал конец. На земли Северной и Центральной Паннонии распространилась власть хорутанских князей. Сюда, на освободившиеся от бежавших авар места, устремились, правда, не в великом числе, хорутанские переселенцы.[1695] В том же 798 г. епископ Арн посетил Рим. Согласно воле папы Льва III и короля Карла Зальцбургу был дарован статус архиепископии. Теперь ее обязанностью становилось окормление обширных земель на востоке. Вместе с графом Баварским Герольдом, который должен был покорить остатки авар в Паннонии (и погиб там в 799 г.), на восток отправился назначенный Арном епископ Теодорих. Герольда и Теодориха сопровождал и сам архиепископ. Вместе они дошли до самого впадения Дравы в Дунай. Начался новый этап обращения альпийских и паннонских славян в христианство. Он сопровождался дальнейшим упрочением королевской власти над Хорутанией.[1696] Крушение Аварского каганата привело к падению кочевнического ига и на Трансильванском плато. Местное славянское и романское население больше не повиновалось аварам. Они могли найти здесь приют только по договоренности с местной знатью. Кое-кто так и поступил. С конца VIII — начала IX в. в Трансильвании появляются богатые курганные могильники. Погребенные в них знатные люди подражали аварской культуре, явно знались с аварами. Но сами аварами не являлись — по крайней мере, не чистыми аварами.[1697] Славянская и влашская родовая знать приняла остатки кочевников в свои ряды — и тем закрепила свершившееся освобождение от их власти. Сербия и Дукля в VIII в.Об истории сербских племен на протяжении VIII в. известно очень мало. Сербия и примыкавшая к ней на юго-западе Дукля остались вне поля зрения и латинских, и греческих хронистов. Это очевидное следствие выгодности их тогдашнего политического положения. Ни Византия, ни западные королевства не могли угрожать независимости сербских княжеств и жуп, надежно прикрываемых славянскими сородичами. Союз с Болгарией не нарушался до IX в. ни разу, даже во время болгаро-византийских войн. При этом Сербия и Дукля поддерживали союзные отношения и с Империей, даром которой считались их земли. Ни в какое подчинение это не выливалось. Оплотом Империи на Среднем Дунае пока оставался Сингидун. Но он, как и разрозненные далматинские общины, жил в плотном славянском окружении и по большому счету из милости славянских князей. С другой стороны, Сингидун прикрывал север от возможных аварских набегов, и сербские князья отчасти нуждались в здешних ромеях. В VIII в. делало самые первые шаги слияние разрозненных сербских племен в единую народность. Это отразилось в появлении единой для всех сербских земель археологической культуры. Началось сложение ее с Подунавья, где сербы смешивались с мораванами и более всего подвергались ромейскому влиянию. Здешний культурный тип со временем, за два примерно века, распространился на всю страну. Древнейшие могильники этой культуры обнаружены в окрестностях Белграда и соседних районах Подунавья.[1698] В рождающуюся сербскую культуру внесли вклад не только славяне. Сербы расселялись на обезлюдевших, но не совсем безлюдных землях. Иногда они оседали в развалинах древних поселений. Но иногда находили их заселенными. Тогда они либо изгоняли туземцев, либо селились вместе с ними. Живя среди греков, иллирийцев и влахов, в домах византийской, а то и античной постройки, сербы перенимали обычаи и навыки местного населения. Поселения сербов оставались неукрепленными. В селах их встречаются как славянские полуземлянки, так и наземные дома. Наряду со славянской срубной техникой строительства использовали они теперь и каркасно-столбовую.[1699] У сербов и дуклян быстрее, чем у хорватов и хорутан, шел распад больших семей. Но сохранялось сотрудничество малых семей в разных видах, и сознание общинно-родового единства. В Черногории, например, при господстве уже малой семьи, такие семьи и в новое время объединялись в «роды», а те — в «братства»-патронимии. Повсеместно известна задруга как форма сотрудничества родственных малых семей.[1700] В VIII в. устои патриархального рода должны были еще оставаться прочными. В городах сербы пока селились редко. Вокруг Сингидуна (Белграда), античных укреплений в Дукле, других старинных городов вырастали гнезда славянских поселений. Но сами города славянскими пока не становились. Славянское население в большинстве из них в VIII в. если и появлялось, то незначительное.[1701] Росло оно медленно. Но все-таки росло. Происходило это даже в Далмации, несмотря на всю подозрительность далматинцев к славянам.[1702] Во главе сербов стоял единственный князь, который непосредственно правил Загорьем или Рашкой, основной территорией страны. Ему подчинялись жупаны отдельных племен. Наиболее независимы оставались жупаны Приморья, отделенные от князя горным хребтом. Постоянной резиденции князь не имел, проводя время в походах и объездах подвластных земель. Собственный независимый князь правил в Дукле. Власть князей, опиравшихся на дружину, постепенно возрастала. К концу VIII в. князь уже мог в одиночку распоряжаться военной добычей.[1703] Это, естественно, вызывало недовольство не только у жупанов и общинников, но и в самой дружине. Опираясь на верную часть дружины и неписаный закон, князья до поры могли подавлять сопротивление в зародыше. Противодействие выливалось в массовые бегства из-под их власти. Так, известно выселение неретвлян в далматинскую Рагузу около 743 г. Вместе с ними бежали от княжеских притеснений и «черные влахи», жившие на землях Сербии.[1704] Княжеская власть передавалась от отца к сыну и лишь формально утверждалась жупанами.[1705] Усиление власти князей в то же время шло параллельно общему обогащению и усилению знати. Основу богатства составляла военная добыча, пополнявшаяся в частых конфликтах с далматинцами и другими соседями. Но вели сербы, конечно, и внешнюю торговлю. Обогащение знати отражается в инвентаре сербских могильников. У сербов, как и у других южных славян, высоко ценились рабы-пленники.[1706] Сербы, как и хорваты, приняли крещение при Ираклии. Но, в отличие от Хорватии, подчиненная Риму епархия в Сербии так и не возникла. Хорватским епархиям, строго говоря, было не до поддержания веры в сербах. Это, конечно, привело к быстрой утрате массами сербов христианства. Но при всем том Сербию обошли и иконоборчество, и отступническая крамола. Причин для подлинного недовольства верой или сомнений в ней здесь не возникало. Поэтому при почти полном отсутствии уже в VIII в. церковной организации, христианство сохранялось в памяти сербов. На севере этому содействовала близость Сингидуна. Умерших сербы Подунавья уже тогда хоронили по христианскому обряду, хотя и с прощальными дарами-ценностями. При этом могли использоваться старые римские кладбища. Впрочем, на распространение трупоположения не меньше влияла и близость Аварского каганата. Именно в Подунавье аварское влияние еще ощущалось весь VII в.[1707] Сербские князья продолжали считать себя христианами и даже поддерживали какие-то сношения с Римом.[1708] Впрочем, некоторые сербские племена — неретвляне, дукляне, — не крестились и в VII в. Противовесом христианству оставались замешанные на оборотнических поверьях воинские братства, слившиеся уже с княжеской дружиной. Память об этих братствах дожила в сербском эпосе до нового времени. С точки зрения дружинников, идеальным являлся князь-«волк», обладающий языческими сверхъестественными дарами «вещести». Как увидим далее, именно дружина выступает против князя-христианина в сербском историческом предании — хотя как будто и не по религиозному поводу. Удаленность Сербии от тогдашних центров письменной культуры не позволяет нам воссоздать происходившие там события в деталях. Мы располагаем лишь отдельными отрывочными сведениями из позднейших сербских и далматинских преданий. В первой половине VIII в. — то есть примерно тогда же, когда «авары» из окрестностей Диррахия бились на море с сицилийцами, — к северу оттуда, в Дукле, правил князь Ратомир, сын Владина. Если верить преданиям из Дуклянской летописи, то кризисные годы Византии отозвались и здесь, в далматинском Приморье. Ратомир «с детства проявлял неотесанность и высокомерие», «ненавидел имя христианское». Став князем, он выказал свой дурной нрав, истребив, изгнав и поработив далматинских христиан, разрушив их «города и селения», причем «множество».[1709] В этой картине нет ничего невероятного. Однако Ратомиру приписаны здесь деяния предшествующих покорителей и разорителей Далмации. Потому трудно сказать, было ли правление Ратомира на самом деле чем-то исключительным. Или он стал невольной жертвой исторических построений хрониста. Отнеся замирение с далматинскими городами из IX в. ко временам деда Ратомира, тот теперь нуждался в объяснении общеизвестных фактов. Почему в IX в. города лежали в руинах, а князья приморских славян оставались воинствующими язычниками? Ответственность легла на последнего известного из цепочки древних дуклянских князей — Ратомира. Его четыре преемника, как «неправедные», уже вообще по именам не называются. Тем не менее не приходится сомневаться в одном — отступившие на острова и скалы далматинцы продолжали подвергаться набегам и в VIII в. То, что сказано в Летописи попа Дуклянина о Ратомире, можно было бы поведать о многих славянских князьях и жупанах. Примерно с середины VIII в. начинается родословная князей Загорья, приводимая на основе сербских преданий Константином Багрянородным. Первый в этом родовом ряду — князь Вышеслав. О нем неизвестно ничего, кроме имени и того, что он происходил от «архонта Серба», приведшего сербов на Балканы. Власть над Рашкой передавалась по наследству в одном и том же роду, из поколения в поколение.[1710] То, что именно Вышеслав первым стоит в родословной, о чем-то говорит. Можно догадываться, что именно он впервые обеспечил реальную княжескую власть над разрозненными жупами. Он же — что важнее для родослова — закрепил принцип передачи власти от отца к сыну. Только от него родословную цепь князей можно прослеживать по прямой. С попытками Вышеслава подчинить приморские жупы логично связать первое массовое бегство неретвлян и влахов в Рагузу в 743 г.[1711] Вышеславу наследовал его сын Радослав, правивший примерно в последней трети VIII в.[1712] Радослав оказался довольно популярным героем средневекового фольклора. Память о нем жила и в сербских землях, и в Дубровнике. Сведения дубровницких хронистов о Радославе довольно запутанны. Но они вполне отчетливо перекликаются с более ранним преданием из Летописи попа Дуклянина.[1713] Радослав, взойдя на престол, показал себя достойным, «украшенным всем» правителем.[1714] Так он запомнился сербам. Но в ряде преданий далматинцев он запечатлелся как тиран. Связано это с тем, что Радослав продолжал политику отца, направленную на укрепление княжеской власти и объединение сербских земель. Ему удалось покорить жупы по реке Босне, на крайнем западе. Недовольная боснийская знать со своими сторонниками тогда бежала в Далмацию, в том числе в Рагузу.[1715] Установление границы между княжеской Рашкой и Хорватией привело к новой войне. До сих пор порубежные жупы сербов и хорватов поддерживали между собой мир. Стремление Радослава к единству сербских племен встревожило соседей. Летопись попа Дуклянина представляет нам небывалое для того времени единое «Королевство славян», включавшее и сербов, и хорватов. Потому Дуклянин рисует начало войны так: «бан Белой Хорватии со своими присными восстал против короля».[1716] Из этой легендарной картины трудно понять, кто начинал войну в первоначальном предании. Радослав ли потребовал от князя (а не бана) хорватов дани? Тот ли выступил против него, спеша нанести первый удар? Ясно лишь, что хорватский князь не стал мириться с усилением сербского соседа. Тот желал скорее мира с хорватами — правда, на условиях покорности. Надо учесть, что хорваты не так давно отреклись от христианства, а Радослав считал себя христианином. Это могло добавлять и тем, и другим взаимной враждебности. Когда война началась, Радослав сам выступил против врага. Половину войска он доверил своему сыну Бериславу. Тот был «с младых лет непокорен отцу» и в дружине имел сторонников. Тем не менее, а может, и именно поэтому Радослав решился разделить с ним командование. Радослав и Берислав, окружив с двух сторон, наголову разбили хорватского князя. В руки сербов попала богатая добыча и множество пленников. Радослав, стремясь к миру, отпустил всех захваченных хорватов. Берислав же, по древнему обычаю, разделил полон между воинами. Это решило участь Радослава. И так недовольное милостью к врагу войско перешло в стан Берислава. На вече воины провозгласили княжича князем. Можно видеть, что далеко не только религиозные причины возбуждали первые усобицы в среде славян. Радослав с немногими верными людьми бежал от мятежного сына. Берислав преследовал его с конной дружиной. Древний закон обязывал убить свергнутого князя, и верный ему Берислав готов был стать отцеубийцей. По преданию, Радослав бежал в Приморье, а Берислав гнался за ним. На Адриатике в XII в. показывали места, связанные с этим бегством. Сначала Радослав якобы скрылся на северных землях Дукли, в местности Ласта. Узнав о приближении Берислава, изгнанник бежал к морскому берегу. Здесь ему и воинам удалось вплавь добраться с лошадьми до скалистого гребня, на котором они и укрылись. Гребень получил позднее название Радославова камня. Похожие по описанию скалы есть у дуклянской Ласты, но остров с таким названием расположен гораздо севернее, на другом конце Приморья за Трогиром. Если Радослав бежал от хорватской границы, то путь вывел бы его скорее сюда. Так что «подлинный», в первоначальном предании, маршрут бегства князя нам неизвестен. Дуклянину, конечно, хотелось бы связать «короля славян» со своими родными местами. 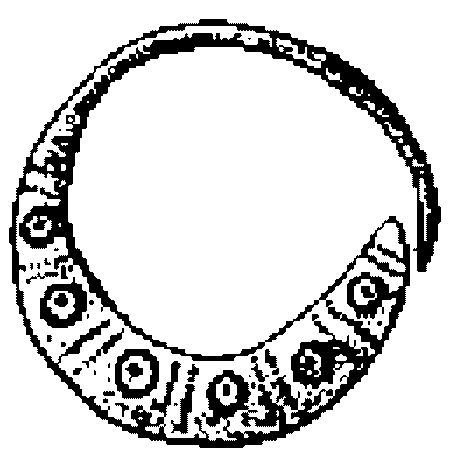 Височное кольцо. Среднее Подунавье Мимо скалы вскоре проплыл корабль из Апулии. Моряки подобрали Радослава и его приближенных и отвезли в Сипонт. Отсюда он, как повествует Летопись попа Дуклянина, отправился в Рим, ко двору папы. Здесь, любезно принятый, Радослав женился позднее на знатной римлянке, от которой имел сына Петра (Петрислава). Могилу князя дуклянский хронист поместил в римской церкви Святого Иоанна Латеранского, служившей с Х в. папской кафедрой.[1717] Княжение Берислава, кажется, оказалось недолгим и неудачным. По славянскому праву, захвативший власть вождь оставался незаконным, пока Радослав был жив. У Константина в списке сербских князей Берислав не назван. Радославу здесь наследует другой сын — Просигой. От этого правителя, принявшего власть где-то на рубеже VIII/IX вв., и происходили позднейшие князья Сербии.[1718] Княжества юго-запада, первыми познакомившиеся с христианством, неплохо воспринимавшие античную культуру, пока еще оставались «передовыми» в славянском мире. Впрочем, это опережение на пути к цивилизации было весьма условным и таило в себе немало опасностей. С некоторыми из них пришлось столкнуться уже в следующем столетии. Соседство усиливающихся развитых государств ставило под угрозу защищенную в «темные века» независимость. Несколько поспешный, «политический», а потому не всегда искренний интерес знати к христианству оборачивался отступничествами. А они, в свою очередь, еще более осложняли международное положение, мешая стать признанными равноправными частями христианского мира. Но, как бы то ни было, пока Сербия, Дукля, Хорватия и Хорутания достигли весьма многого. В VIII столетии они выступали как вполне сложившиеся, независимые предгосударства — заметное явление на карте «варварской» Европы. И пока еще в известном смысле исключение на карте Европы Славянской. Глава третья. Славяне западные и восточные. Конец VII — вторая треть VIII вОбщие чертыИстория западных и особенно восточных славян в VIII в. освещена письменными источниками гораздо беднее, чем история южных. Между тем, речь идет о большей части славянского мира, простершегося уже тогда от Лабы до верховий Волги. На всей этой шири в VIII столетии шли процессы, не уступавшие по важности происходившему на юге, подготовлявшие рождение славянских держав средневековья. На рубеже VII/VIII вв. разделение славян на три языковые группы — восточных, западных и южных, — стало свершившимся фактом. Тем не менее границы групп еще не вполне устоялись. Западные и восточные славяне несколько сблизились после выселения южных сородичей за Дунай. Из южных же славян хорутане сохраняли еще большую близость к западным. Северные племена и западнославянского, и восточнославянского регионов удерживали свои особенности в языке, заметно отличавшие их от южных соседей. Северные и особенно северо-западные славянские диалекты были ближе к восточным, чем другие западные. С другой стороны, северо-восточные диалекты — будущие новгородский и псковский — многими чертами напоминали западные.[1719] Все эти особенности имеют исторические объяснения. Кривичи и позже словене ильменские, предки новгородцев, являлись выходцами из западного региона. Этим объясняется и перекличка с восточнославянскими языками языка кашубов, потомков поморян. С другой стороны, лужицкие сербы — потомки восточных славян, и их язык сохраняет следы восточного происхождения. В VII в. славяне еще делились минимум на три больших племенных общности с разными самоназваниями. «Словенами», славянами именовали себя по преимуществу потомки пражско-корчакских и смешавшихся с ними племен. Около 700 г. Равеннский Аноним не знает уже ни северо-западных венедов, ни юго-восточных антов. Их названия в древних источниках ничего ему не говорят, он искажает их до неузнаваемости (Ititi, Chimabes). Знает он только словен, славян.[1720] Это, конечно, не значит, что названия венедов и антов исчезли в один момент. Германские соседи еще долго называли ободричей и некоторые другие славянские племена вендами, виндами. Какое-то время сохраняли прежнее самоназвание предки ильменских словен, и позднее его удержали смешавшиеся с ливами венды Прибалтики. В эстонском языке название Vana сохранилось применительно к России. Но что касается антов, то их имя действительно исчезло окончательно после расселения на их землях словен-дулебов на рубеже VII/VIII вв. Это время — действительно рубеж в истории материальной культуры северных славян. Различия между племенами стремительно нарастают, и VIII в. — пора становления отдельных племенных культурных областей, распада больших культурных общностей минувшей эпохи. Прежде всего, исчезает с археологической карты пражско-корчакская культура, связывавшая воедино западный и восточный славянские ареалы. На землях Чехии, Моравии и Словакии возникает несколько культурных областей, принадлежащих отдельным племенам. Особый культурный тип складывается в Южной Польше в результате смешения пражских, суковско-дзедзицких и отчасти балтских племен. И без того пестрая культурная карта Северной Польши и нынешней Восточной Германии еще более усложняется. В дополнение к фельдбергской велетской, торновской лужичанской, рюсенской сербской культурам появляются новые — в Поморье, на Руяне. Суковская культура в землях ободричей постепенно сменяется более развитой менкендорфской. Все это — следствие племенного деления, начального складывания средневековых народностей. 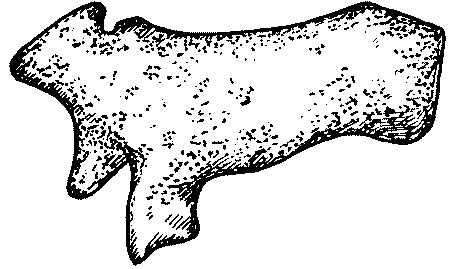 Глиняная статуэтка. Луки-Райковецкая культура Чуть менее пеструю картину представляли собой восточнославянские земли. Здесь в результате слияния дулебов и антов на рубеже VIII/IX вв. возникла новая культура — Луки-Райковецкой. Охватила она всю будущую юго-западную и южную Русь. Левобережье Днепра и земли к востоку до Дона и Верхней Оки стали зоной распространения новой волынцевской культуры. Ее создателями явились племена северян, вятичей, донских словен. Север, резко отличавшийся по укладу жизни, занимали кривичи культуры длинных курганов и ильменские словене культуры новгородских сопок. Таким образом, весь восточнославянских ареал делился всего на четыре крупных культурных региона. В их рамках продолжали проявляться частные особенности отдельных племен. Несмотря на разницу в быту, хозяйственном и общественном строе, духовной культуре, во всем северном славянском регионе присутствовал ряд общих черт. Прежде всего, это зримый рост числа укрепленных градов — и на востоке, и на западе. Многие столицы будущих славянских государств (моравское Микульчице, русский Киев, польское Гнезно и др.) строятся и растут именно в течение ста лет с рубежа VII–VIII вв. Причины тому ясны. Крупные племенные конфедерации, сплоченные только родством, распадались. На смену им шли более прочные, сравнительно небольшие племенные союзы-«княжения». Грады становились и убежищами на случай участившихся межплеменных войн, и средоточиями власти князей. То, что их массовое строительство от Дуная до Балтики и от Лабы до Дона отражает укрепление княжеской власти, не вызывает никаких сомнений. Князья севера, конечно, были пока слабее своих южных сородичей. Но и они, опираясь на дружины и свой жреческий авторитет, усиливали свою власть над соплеменниками. Конечно, даже самые сильные племенные союзы, — как велетский или ободричский, — оставались пока только союзами. В этих «княжениях» имелось несколько племенных князей, из числа которых выделялся самый старший или знатный (либо и то, и другое).[1721] Но в рамках отдельных племен, а кое-где и на уровне целых племенных союзов княжеская власть уже закрепляется за одним, сильнейшим родом и передается по наследству — не обязательно от отца к сыну. Укрепление княжеской власти, как и на юге, являлось частным следствием общего усиления знати. Один из показателей этого — смягчение грани между рабами из числа соплеменников, холопами, и рабами-пленниками. И те и другие теперь в равной степени воспринимаются как рабы. Для специального же обозначения же рабов-чужеземцев, в отличие от холопов, появляется новый термин — челядь. Ранее он обозначал просто младших членов семьи, домочадцев.[1722] Рабы, как и самые младшие, неженатые члены семьи, находились в полной власти ее главы. Но теперь их статус уже отличался. Это отразилось в распространении особых обозначений для детей и сирот — указывающих на близость к рабскому положению и в то же время отличающих от этого положения. Такие слова (*orbenъkъ, *orbe *orbetъko) известны именно у северных славян.[1723] 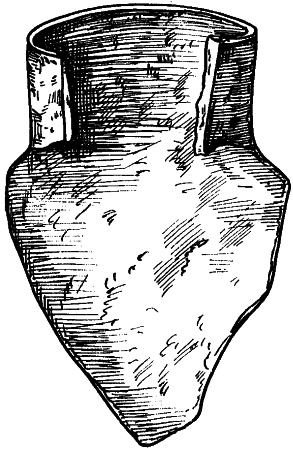 Наральник. Луки-Райковецкая культура Другой неполноправной группой в северном славянском обществе этого времени стали смерды[1724]. Отличие их от обычных данников было в следующем. Смердами становились представители покоренного «чужого» племени, жившие непосредственно на территории, подвластной «своему» и заселенной им. Такие зависимые группы населения в словенском и антском обществе существовали и раньше, но только теперь получили особое определение. С зарождением новых общественных отношений — как и на юге — начали разлагаться большая семья и основанная на ней община-патронимия. Однако в разных областях этот процесс шел с разной скоростью. Так, на юге восточнославянских земель в VIII в. совершился переход к малым семьям, объединенным в соседскую общину, мир.[1725] В то же время на севере, у кривичей и словен ильменских, этот процесс был далек от завершения.[1726] На западе он шел также неравномерно. У словаков, например, большая семья, объединявшая родичей до третьего колена, известна еще и в новое время.[1727] Итак, развитие северных славянских племен в VIII в. имело целый ряд сходных черт. Но не меньше было и различий. Расселившиеся на огромных просторах славяне оказывались в разных природных и политических условиях, и развитие отдельных их групп становится все более независимым. Новшества в религииРелигия северных славянских племен вскоре после отделения их от южных сородичей претерпела целый ряд существенных изменений. Изменения эти нашли отражение в языке, в обрядности, а отчасти и в преданиях славянских народов. Наиболее существенным из них следует признать своеобразный «патриархальный переворот» в пантеоне. Поскольку он захватил и предков словенцев, можно датировать его первой (не второй) половиной VIII в., временем прежде начала обращения хорутан. В VI–VII вв. древнеславянская религия сохраняла еще ряд матриархальных в своей основе черт. Пережитки их особенно мощны у южных славян, чья культура перешла к христианским основам почти что из этого первозданного состояния. Но следы первоначального сохраняются у всех славянских народов. В ту эпоху с почитанием верховных мужских божеств — Перуна и Велеса — соседствовал не менее выразительный культ богини-матери, Земли, Додолы. Она могла почитаться как супруга обоих богов-соперников, и потому отношение к ней не зависело от «перунического» или «велесического» построения пантеона. Жрицы Земли, ведьмы, составляли не слишком почтенный в патриархальной общине, но все же влиятельный разряд языческого «духовенства». Они играли важнейшую роль во многих общинных обрядах. Кульминацией культа плодородия в те века все еще служило ежегодное человеческое жертвоприношение Земле, память о коем сохранили все славянские культуры. Приносимый в жертву молодой воин рассматривался как заместитель связанного с Землей особыми узами владыки-князя. Ясно, что к концу VII в., в военизированном дружинном обществе, при укрепившейся власти князей, матриархальный культ становился вопиющим анахронизмом. В первой половине VIII в. на всем пространстве северных славянских земель, включая на юге и Хорутанию, происходит его крушение. Проявлением этого «переворота» явился распад самого единого образа богини-матери. Почитание «Матери Сырой Земли» сохранилось лишь как элемент народного, сельского культа. Древнее имя жены громовержца «Додола» удержалось у южных славян и далеко на востоке, где его позднее заимствовала мордва.[1728] Осталось оно именем верховной богини и у польских полян (Дзидзилля). Но отдельные ипостаси «Великой Матери» повсеместно отделяются друг от друга и даже противопоставляются друг другу. «Официальное», почитаемое всеми божество теперь отличается от гневных, губительных ипостасей древней хозяйки природы. Суровая богиня, покровительствующая женскому труду и обеспечивающая влагой плодородие почвы, чтилась отныне под именем Мокоши. О происхождении этого образа речь уже шла. У разных славянских племен Мокошь чтили в разной степени. Но известна она всем северным славянским народам и некоторым южным славянам.[1729] У западных и части восточных славян появилась особая богиня смерти Марена, с которой теперь и связывались сезонные обряды жертвоприношения. Марена воспринималась именно как владычица Зимы и Смерти, а праздник, завершаемый жертвоприношением — как победа над ней. Она сливалась с более древней Марой (Морой), тоже божеством смерти.[1730] Жертвоприношение «Марены» являлось победой над губительной ипостасью женского божества, над приносимыми им невзгодами. Одновременно оно повторяло миф о громовержце, испепелившем свою неверную жену Мору. Соответственно, мужская сезонная жертва у многих племен заменяется женской. По припоминаниям в чешских обрядовых песнях, некогда при «проводах» зимы в жертву приносили «девушек, прекрасных паненок». Но уже вскоре за них стало «умирать» чучело Марены, предаваемое сожжению, «поджариванию».[1731] Жертвоприношение Марены, или Моры, Мары, совершалось около весеннего равноденствия или летнего солнцестояния.[1732] 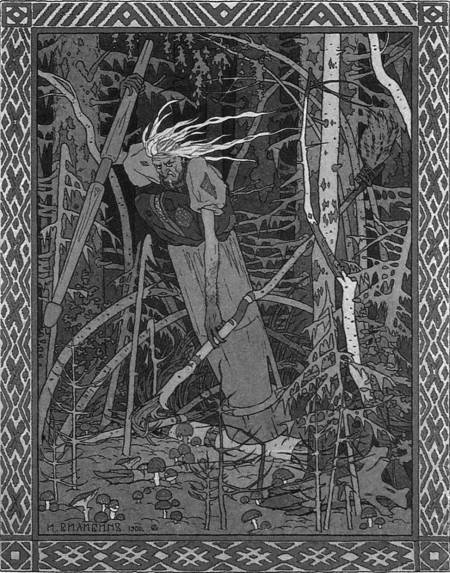 Баба Яга. Художник И.Я. Билибин Еще одной обособленной ипостасью древней богини явилась Яга (Баба Яга).[1733] Имя ее означает «кошмар», «ужас». Она — преимущественно сказочный персонаж, чаще враг, чем помощница героя. Яга воспринималась как лесная колдунья, людоедка, предводительница и наставница ведьм. Представлялась она в ужасных, отвратительных обличьях. О религиозном почитании Яги ничего достоверного неизвестно. Оно осталось прерогативой узкого круга ведьм. Распад древнего образа богини-матери сопровождался упадком влияния ее почитательниц, ведьм. На местах ведьмы сохранили известный авторитет. Они, как женщины-жрицы, по-прежнему играли важную роль в некоторых обрядах, связанных с плодородием. Но их «ведение», и без того обществом осуждаемое, теперь стало подвергаться прямым гонениям. Позднее у восточных славян разоблачение и преследование ведьм являлось прерогативой волхвов.[1734] Языческая «охота на ведьм» отразилась в ритуале сожжения ведьмы (Мары), известном у восточных славян. Явления в духовной жизни первобытных «язычников» обычно выглядят с многовекового расстояния как некий растянутый, «естественный» процесс. Но любой естественный процесс — на самом деле совокупность конкретных фактов. Особенность данного случая заключается в том, что эти факты могут быть отчасти реконструированы. Чехия — один из важных центров «переворота», судя по тому, что именно здесь прочнее всего сохранились обряды в честь Марены и память об их первоначальном содержании. И именно здесь средневековые предания сохранили возможную память о самом ходе событий. Их отражает сказание о «войне полов» — юношей и девушек Чехии — на заре истории династии Пржемысловичей. Подробнее речь об этом пойдет далее. Здесь отметим, что прямое столкновение женщины и мужчины из-за княжеской власти вполне могло вылиться в общий «патриархальный переворот». Более того, такой «переворот» в одном княжестве, где обычаи были более всего «матриархальны», вполне мог вызвать цепную реакцию по соседним славянским землям. Хорутания прилегает к Чехии с юга, другие западнославянские земли — с севера и с востока. Чехия как первый очаг «переворота» выглядит убедительно. Следствием того же «переворота», как и общего укрепления патриархата, могло явиться и более широкое распространение обычая самоубийства жены после смерти мужа. В 747 г. о нем у западных славян пишет известный просветитель Германии Бонифаций. Он утверждает, что у «винедов» «жена после смерти своего мужа отказывается жить. И достойной похвалы считается у них жена, когда она собственной рукой предает себя смерти и сгорает на одном костре со своим мужем». Любопытно, что этот обычай Бонифаций приводит в пример распутству короля-христианина. «И винеды, гнуснейший и наихудший род людей, — подчеркивает проповедник, — со столь великим усердием блюдут взаимную супружескую любовь».[1735] Ясно, что «гнуснейший и наихудший» — просто риторика, чтобы подчеркнуть противопоставление. Бонифаций скорее хвалит здесь язычников. В его рассказе обращает на себя внимание то, что как и Маврикий почти за два века до того, Бонифаций не говорит ни о каком насилии. «Достойная похвалы», — очевидно, не каждая. Но «похвала», — то есть прямое поощрение со стороны общины подобных действий, — при общинном строе уже почти что принуждение. Остатки таких жертв найдены на словацком «аваро-славянском» кладбище VII–VIII в. в Прше. На самом деле это могильник славян, воспринявших обряд трупоположения — аварских всаднических погребений здесь нет, как нет и могил с оружием. В одном погребении вместе положены женщина и мужчина, связанные между собой кожаным поясом. В другом — в могилу погребенного сидя мужчины положили вместе с подношением в сосуде голову женщины. Однако это лишь два случая, в других могилах ничего похожего нет. Обычай погребать принесенных в заупокойную жертву женщин в одну могилу с мужем славяне едва восприняли — у авар. Те, по кочевническому ритуалу, погребали вместе со знатными людьми их жен и рабов. На аваро-славянском (без кавычек) кладбище VII–IX вв. Нове Замку имеется несколько двойных и тройных захоронений. В одном, самом большом погребении, лежали семеро покойников. Вместе с тем сам обычай принесения жены в жертву над прахом мужа, как видно из сообщения Бонифация, распространился широко и среди самых разных славян. Следы его обнаружены среди редких находок остатков трупосожжений в долине Хафеля.[1736] К VIII в. относятся и некоторые другие новшества в славянской религии и мифологии. Не менее важным, чем «патриархальный переворот», явилось распространение среди славян «дуалистических» мифов о сотворении мира. Восприняты они были через болгар или хазар. Отголосок этих мифов мы находим у восточных славян уже в XI в. Русские волхвы рассказывали следующий миф о появлении человека: «Бог мылся в бане и, вспотев, отерся тряпьем, и скинул его с небес на землю. И поспорили сатана с Богом, кому из нее сотворить человека, и сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Потому-то, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу».[1737] Волхвы как будто отождествляют с известным им от христиан «дьяволом», «антихристом», «сатаной» — властителя загробной «бездны» и дикой природы, Велеса. Это его капище некогда располагалось на месте Ярославля, откуда помянутые волхвы и вышли. Следует отметить, что известен и другой сходный восточнославянский языческий миф — люди рождаются оттого, что бог Род «мечет на землю груды» с «воздухов».[1738] Данный миф о судьбе мертвых содержит явные отзвуки полемики волхвов с распространяющейся по периферии славянского мира, особенно у южных славян, практикой трупоположений. Кремация освобождала тело от власти сил подземного мира. Соответственно, наряду с представлениями о едином загробном мире во власти Велеса-Трояна появилась идея небесного пребывания или небесного суда. Погребение в землю праха предстает тогда как некая «компенсация» темному божеству. Здесь можно увидеть след знакомства с более развитыми религиями — или внутреннего развития самой славянской. В любом случае, подобные концепты не разошлись широко. Характерно, что носителями их выступают северные волхвы, хранители наиболее сложного в славянском языческом мире велетского наследия. Создание мира и человека предстает в таких мифах как результат вражды-сотрудничества небесного (то есть «белого» Перуна или Рода) и подземного («черного» Велеса) божества. Последний в виде «черного гоголя» плавает по первозданному океану, куда к нему спускается небесный бог. По приказу «белого» «черный» достает со дна моря скрытую в его недрах землю. Как в других славянских мифах, жизнь на земле зарождается от высечения (здесь братьями-соперниками) огня-молнии. Часто повторяется легенда, согласно которой «дьявол» «изрыл» гармонично созданную небесным собратом землю.[1739] Ее языческая древность удостоверяется эпитетом подземного бога — cьrtъ, чёрт, «роющий», откуда местные названия типа «Черторыя», отмеченные и у западных, и у восточных славян.[1740] Следует отметить, что «дуализм» уже у тюрок мало соответствовал своему первоисточнику — древнеиранским представлениям о борьбе доброго и злого богов. Боги-создатели у славян воплощали скорее хаос и порядок, опасность и благополучие, смерть и жизнь — но не добро и зло в прямом, обычном понимании. Другое дело, что на земном уровне противостояние богов повторялось в подвигах героев, борцов со змеями-разрушителями. Слово «чёрт» распространилось и у тех племен, которые поклонялись преимущественно Велесу. Лишь во времена христианства чёрт был отождествлен с дьяволом. Совсем не исключено, что волхвы XI в. на самом деле говорили «чёрт» там, где летописец или его информатор перелагали «дьявол», «сатана», «антихрист». Языческое понятие «чёрт», в отличие от ученых именований врага рода человеческого, в Средние века старались не употреблять. Некоторое развитие претерпела низшая мифология славян. По мере становления славянской культуры, для которой вообще характерен интерес к окружающей природе, появлялись новые образы природных духов. Такие новые духи обладали более узкой, чем их предки, «специализацией», сферой деятельности. Так, у западных и восточных славян распространились поверья о леших, лесовиках — особых духах лесов.[1741] От VIII в. сохранилось уже немало, по сравнению с предшествующим периодом, новых славянских капищ. Расположены они на Волыни (Бабка, Хотомель), Смоленщине (Кушлянщина), в полабских землях (Бранденбург — Бранибор), Польше (Гнезно, Добжешуво), Закарпатье (Рухотин).[1742] Часто (Хотомель, Бранибор, Гнезно) капища строились в центре градов или по соседству с ними. В других случаях — как особые укрепления, знак возрастающей самостоятельной мощи служителей языческих богов. Такая ситуация могла возникать и тогда, когда вождь племени оставался прежде всего «владыкой», верховным жрецом. Укрепленные капища служили и убежищами для жителей сельской округи. Здесь беглецы могли рассчитывать на защиту своих богов. В Хотомеле, воздвигнутом на месте капища VII в., новое святилище располагалось в центре града. Оно представляло из себя площадку со стоячим идолом и ямами-жертвенниками. В центре Гнезна обнаружены следы ритуальных костров на каменной площадке. На них сжигались растительные и животные жертвы. Наконец, браниборское святилище, посвященное богу загробного мира Триглаву, местной ипостаси Велеса, располагалось на холме рядом с градом. Городище Бабка — капище второго типа, само являвшееся небольшим градом. Оно служило соседнему неукрепленному селу. Округлую площадку святилища на песчаной возвышенности защищали неглубокий, прерывистый ров и перед ним вал. И во рву, и на валу жгли ритуальные костры. Само святилище занимало площадь более 700 м2. По периметру находились жертвенные ямы. Центром капища служил столбовой идол диаметром около полуметра, вкопанный на 0,7 м в землю. Перед ним сжигали жертвы — по крайней мере, какую-то часть. Среди жертв были животные, растительные дары в горшках. Но отмечена и человеческая жертва — прах в урне, зарытый прямо на площади священного града, в его южной части. Не исключено, что это была строительная жертва, принесенная при закладке капища — явление, отмеченное и фольклористами, и археологами. Святилище в Рухотине устроено на крутом склоне холма. Склон перерезали валом в виде дуги, за которым поставили идола на каменной площадке и вырыли небольшую жертвенную яму. В ней сжигали приношения в горшках. Кушлянщина — одно из древнейших «болотных городищ» древней земли кривичей. Такие святилища обычно устраивали на островках и мысах среди болот, защищенных самой природой. Гораздо реже их насыпали искусственно. Болотные грады были идеальным, почти недоступным для врага укрытием, — но в первую очередь служили местом поклонения богам. Кушлянщина представляет собой круглую площадку, защищенную двумя линиями валов. Одно из самых выразительных капищ VIII в. — Добжешуво в Свентокшицких горах, к северо-западу от Сандомирского Повисленья. Это большое (около 3200 м2) городище, защищенное четырьмя прерывистыми линиями валов. Три из них, овал за овалом, опоясывали град, четвертая отделяла его от гор. Валы воздвигались на каменной основе и в высоту достигали 2 м. На капище сохранилось большое число священных камней, которым и воздавалось поклонение. Главным был камень с выбитыми кругами в центре града. Но по всей площади и даже на валах стояли большие камни округлой формы или стелы без изображений. Жертвенниками служили тоже разбросанные по граду каменные «ящики». На валах, перед камнями-«идолами», жгли ритуальные костры. Главный алтарь на каменном фундаменте находился на западе укрепления. Рядом с ним обнаружена керамика — след жертвоприношений и ритуальных трапез. Град служил сразу нескольким окрестным селам, целому племени, и логично сделать вывод, что у каждого рода здесь имелся свой покровитель и свой жертвенник. Археологам удалось установить даже примерную дату начала ритуалов в святилище — 795 г. Укрепление языческой религии, связанное с укреплением власти князей-владык, затрудняло славянам восприятие христианства. Попытки проповеди в среде западных славян в те годы редко бывали успешны. Восточные же еще оставались почти незнакомы с христианством. Пусть слова Бонифация о «гнуснейшем и наихудшем роде» — риторическая фигура, призванная покрепче пристыдить распутного адресата (даже худшие язычники ведут себя достойнее!). Но она отражает общее отношение епископа к славянам, которые оставались в основном глухи к его проповедям. Еще около 720 г. Бонифаций писал в своих «Загадках, посланных сестре» о «грубом народе славян», который «всегда любил» невежество, — как и «край германский».[1743] Лишь отдельные группы северных славян — чехи, днепровские поляне, — как увидим далее, начали знакомиться с новой верой в VIII столетии. И в самом конце VIII или даже уже в начале IX в. впервые примет крещение восточнославянский князь. Однако до подлинного обращения славянского севера остаются еще два века. Полабье и ПоморьеНа рубеже VII/VIII вв. западнославянский мир уже охватывал всю свою нынешнюю территорию — земли Польши, Чехии, Словакии, а также современную Восточную Германию. Точное число сложившихся здесь племенных союзов и самостоятельных племен для того времени определить трудно. Названия многих вовсе неизвестны. Ряд областей — скажем, вся Словакия, — остаются в этом смысле «белыми пятнами». Речь, однако, совершенно определенно идет не об одном десятке независимых славянских «княжений». Крайний северо-запад славянского мира, низовья Лабы и лежащее к западу побережье занимал племенной союз полабских славян во главе с ободричами. В него входили и другие славянские племена венедского корня — смоляне, варны, вагры. Местные германцы, оставив в наследство варнам и ваграм свои названия, уже полностью ославянились. На западе, по Лабе, ободричи граничили с саксами. Небольшое племя славян — древане — обосновалось уже в VIII в. в лесистых землях по левому берегу Лабы, потеснив германцев. Восточная граница ободричей проходила по землям варнов, от побережья южнее Руяны. Неясно, входили ли когда-нибудь в ободричский союз руяне. Они были потомками здешних германцев ругиев и венедских беженцев, спасавшихся от натиска велетов. Войны между ободричами и велетами продолжались на протяжении VIII в. с прежней ожесточенностью. Велеты, как правило, наступали.[1744] Их военизированное общество, жившее за счет сбора дани и боевой добычи, не прекращало искать врага и новых земель. Главным оплотом ободричей стал основанный ими на землях варнов стольный Велиград. В 680 г. велетам удалось захватить и разрушить этот вражеский центр. Вскоре, однако, ободричи выбили врагов из Варнии и восстановили свою столицу. Велетские гончары остались в восстановленном Велиграде уже как пленники.[1745] Знакомство с велетским гончарством закончилось восприятием самими ободричами гончарного круга. Велиград уже с конца VII в. превратился в важнейший центр распространения новой, менкендорфской гончарной керамики. В самом граде она составляла 82 % керамики при 14 % лепной суковской. Продукция велиградских и прочих ободричских гончаров на западе достигала Вагрии и ее важнейшего центра, Старграда. Но здесь она пока не преобладала. Расцвет гончарства сыграл свою роль в обогащении Велиграда. Более чем сто лет остававшийся неприступным для врагов, он постепенно превратился в важнейший центр ремесла и торговли для всех окрестных земель.[1746] Агрессия велетов, натолкнувшись на упорное сопротивление на западе, искала себе иной выход. В VIII в. велеты вторглись на Руяну и на какое-то время подчинили жителей своей власти. Смешения с местным населением почти не происходило. Власть велетов представляли немногочисленные дружины.[1747] К югу от велетских лежали земли отчасти родственных им лужичан. Самая северная часть племен здешней торновской культуры — стодоряне — окончательно вошла в состав велетского союза. Произошло это еще в первой половине VIII в. С другой стороны, на остальной торновской территории сложился независимый племенной союз лужичан. На протяжении VIII в. пришельцы с севера, принесшие торновскую культуру, все больше смешиваются с местным населением. На первых порах разница между культурой градов и сел оставалась весьма заметна. Но теперь селяне отказываются от своих полуземлянок в пользу наземных домов. Используют они в основном не обычную для себя срубную, а принесенную торновцами столбовую конструкцию. Лепная керамика с конца VII в. все больше подражает торновской гончарной. Появляются и быстро распространяются различные по форме орнаментированные лепные сосуды «псевдоменкендорфского» типа. Гончары-«торновцы» начинают поставлять свою продукцию в села. В конечном счете во второй половине VIII в. их жители повсеместно сами восприняли гончарный круг. Лепная керамика исчезла.[1748] Подобное смешение происходило и на севере, у самих велетов. Здесь лепная керамика сельской округи тоже полностью уступила место фельдбергской.[1749] У торновцев, так же как у велетов и ободричей, ремесленники уже начали активно работать на заказ. Уже в VIII в. наряду с княжеско-дружинными градами появились первые ремесленные поселки с крупными мастерскими. Такие поселения обеспечивали гончарной посудой, орудиями труда или иными товарами обширную округу. Они становятся естественными центрами меновой торговли.[1750] К востоку от велетских земель, в Польском Поморье, складывался независимый племенной союз. Здешние племена в первой половине VIII в. еще оставались под мощным велетским влиянием. Это влияние, насколько мы знаем велетов, едва ли ограничивалось только культурой. Есть все основания говорить о том, что велеты господствовали над жителями Поморья. Культура Поморья, подвергаясь влиянию велетов, развивалась в то же время достаточно независимо. На смену керамике голанчского типа вскоре приходит кенджинская. Для нее типичны сосуды с выпуклыми боками, напоминающие вазы и украшенные орнаментом. Кенджинская культура развивалась еще под воздействием велетской фельдбергской. Под влиянием завоевателей поморяне к середине VIII в. полностью отказались от лепной посуды. Появилось местное гончарное ремесло. Новые типы посуды конца VIII в. — бардыский и волинский — уже меньше связаны с велетскими. Посуда прежних типов, правда, бытует вместе с новой.[1751] По материалам керамики очевидно постепенное ослабление культурного влияния велетов. Местное население обретало культурную самостоятельность. Сопровождалось это и укреплением самостоятельности политической. Связанные ожесточенными войнами на западе, велеты не могли этому помешать. В VIII в. в Поморье появляется собственные грады, центры независимых племен. Первоначально это небольшие «круглые города» или мысовые укрепления. Старейшим же из градов являлся Голанч (откуда названий голанчской культуры) — крепость площадью 3800 м2, защищенная валом, вплотную к которому располагались дома. Возник он еще в VII в. В середине VIII в. был возведен первый вал в Кенджино. Такого же «круглого» типа позднейшие Барды и Радач.[1752] Славяне в течение VIII в. шире заселяют балтийское Приморье, двигаясь к Висле и выходя к морским берегам. За время расселения поморяне серьезно усовершенствовали свое хозяйство. Они стали выращивать рожь. Резко выросло значение свиноводства. Если в VII в. до 50 % стада составлял крупный рогатый скот, то с VIII в. уже 60,8 % — свиньи. Для строительства домов и укреплений использовали, в первую очередь, дуб и ясень. Развивалось ремесло железоделов, сырьем которым служила болотная руда. В районе Колобжега славяне еще к концу VII в. освоили солеварение, а чуть позже — морское рыболовство.[1753] Расселение славян вдоль Балтийского моря, освоение морских просторов вовлекали их в разворачивающуюся тут межплеменную борьбу. С конца VII в. воды Балтики стали не только ареной прибрежной торговли, но и театром военных действий. Финские, северогерманские и балтские племена совершали друг на друга грабительские набеги, опустошая богатеющее Приморье. Особенной активностью со временем стали отличаться северные германцы — даны, юты, свеи и другие, — которые вскоре войдут в историю под общим именем «норманны», люди севера. Отбрасывая врага от своих берегов, они сами совершали далекие походы за добычей, подчас обкладывая побежденных данью-откупом. На Севере начиналась эпоха викингов. Балтийским славянам, пока только осваивавшим мореходство, следовало позаботиться о своей свободе и безопасности. Первые столкновения между северными славянскими племенами и ютами могли происходить еще в прежние века. Датские предания приписывают победы над «вендами» полулегендарным конунгам Фроди и Хельги, жившим в V–VI вв.[1754] Юты могли уже тогда подниматься по рекам, впадающим в Балтику, и разорять разобщенные славянские села. Но действительно реальный характер ютская угроза обрела тогда, когда славяне вышли к морю на землях Вагрии и стали соседями обитателей Ютландского полуострова. Что касается собственно данов, то они тогда занимали архипелаг Сьяланд и Сканей в нынешней Южной Швеции, и непосредственно славянам стали угрожать не сразу. Первый имеющий реальные очертания конфликт со славянами приписан в датских средневековых хрониках конунгу Хрёрику Метательное Кольцо. Правил он ютами и частью данов на рубеже VII/VIII вв.[1755] По сведениям написанной в XII в. «Хроники Лейре», Хрёрик «покорил Курланд, Вендланд и свеев; они платили ему дань».[1756] Покорение свеев здесь — явное преувеличение. Покорил их на самом деле родич и тесть Хрёрика, позднее сгубивший и его королевство, конунг данов Ивар Приобретатель. Хрёрик, впрочем, мог участвовать в этом. Писавший позднее Саксон Грамматик донес до нас целое эддическое сказание о войне Хрёрика с куршами и вендами. Он, правда, пытается убедить, что речь идет о восстании покоренных прежними королями данников. Но это, как можно судить по «Хронике Лейре», где-то домысел, а где-то лукавство. Впрочем, обычное для многих хронистов. По словам Саксона, курши в союзе со свеями напали на Данию. Хрёрик хитростью победил приплывших по морю врагов, уничтожив их флотилию. Славяне-венды, отказавшиеся платить дань Хрёрику, заключили союз с его врагами. Не зная об их гибели, изнемогая от неизвестности и ожидая легкой победы, они решились ударить по вражескому конунгу первыми. Когда датский и славянский флоты встретились, стало ясно, что предстоит жестокая битва. Тогда один славянский воин, славившийся как колдун, обратился к врагам со словами: «Выдержать поединок — предотвратить общее избиение, угроза для многих выкупается ценой немногих. И если у кого из вас достанет мужества сразиться со мной, я не увильну от условий схватки. Но прежде всего я требую от вас принятия следующих, мною придуманных условий. Если я одержу победу, то мы будем свободны от податей; если я проиграю, то будем платить вам дань. Ибо сегодня я или освобожу свой край от ига рабства своей победой, или порабощу его своим поражением. Примите меня как поручителя и заложника при любом исходе». Вызвался один молодой дан. Он погиб в первой же схватке со славянином. Славяне почтили своего победителя «процессией» и «плясками» — зарисовка явно с натуры, хотя неизвестно какой эпохи. Возгордившийся славянский герой решил попытать счастье еще раз. Он вновь пошел к датскому становищу и поставил сызнова те же условия. Но в этот раз на битву вышел прославленный датский воин Убби. Он сошелся со славянином — и после жестокого поединка оба героя пали, сразив друг друга. Тогда-то якобы «мятежники» признали свое поражение и согласились платить Хрёрику дань.[1757] Историческая основа этого сказания, искаженного к тому же средневековым хронистом, восстанавливается с трудом. Едва ли можно сказать больше того, о чем мы уже осведомлены из «Хроники Лейре». Хрёрик сражался с балтийскими славянами, победил и взял с них «дань»-откуп. Славяне, конечно, могли являться и нападающей стороной. Позднее они не раз нападали на данов и ютов — как и те на них. Но поводом к войне, как можно заключить из Саксона, явилось именно требование Хрёриком дани. Столь же туманно, с какими именно славянами имел дело Хрёрик. В начале IX в. даны называли «Хрёриком», «Рериком» славянский Велиград.[1758] Напрашивается смелая мысль, что Хрёрик сыграл определенную роль в восстановлении города — как раз в его времена — после велетского разгрома. В этом случае его главными противниками являлись велеты, а ободричи воспользовались вторжением данов для оттеснения своих врагов. Ясно, что без использования конунгом распрей между славянскими племенами дело не обошлось. Непрестанная война между велетами и ободричами создавала все условия для чужеродного вмешательства. Как бы то ни было, ни о каком подлинном завоевании или даннической зависимости речь не шла. Вряд ли Хрёрик обложил данью воинственных велетов. Самое большее, он отбросил их на восток от Велиграда — и от подступов к Ютландии. Что касается ободричей, то они могли какое-то время выплачивать данам откуп — если дело не ограничилось единичной выплатой. Выплата же эта являлась то ли «данью», то ли платой за военную помощь. Итак, события могли выглядеть и совершенно иначе, чем в датском героическом сказании. Вверх по Лабе от ободричей, к западу от лужичан, между Лабой и Заале, жили белые сербы. У них еще с VII в. существовало единое княжение во главе с общим вождем, делившееся на малые племенные земли. В VIII в. сербы сохраняли и независимость, и племенное единство. Не вступая в крупные столкновения с соседними славянами, расселялись они на запад — насколько позволяли союзные отношения с тюрингами. Сближение с германцами ускорило исчезновение у сербов обряда сожжения умерших. В VIII в. у них, единственных из западных славян, уже господствует ингумация. Это было и одним из отражений окончательного смешения сербов с покоренными ими племенами.[1759] Для сербов и их южных соседей в Чехии было естественно искать дружбы и с франками Австразии. Особенно с конца VII в., когда Австразия начала усиливаться под властью майордомов из рода Арнульфингов. Влияние Арнульфингов до Карла Мартелла еще не распространялось на Тюрингию. Но верховья Майна в районе Вюрцбурга находились под прямой властью Австразии. Помимо того, что и здесь, во Франконии, расселялись славяне, эти земли вплотную примыкали к племенным волостям и сербов, и лучан. Потому не видим основания сомневаться в том, что в конце VII в. славянские послы бывали при дворе майордома Пипина II Геристальского — и наоборот. Об этом сообщают поздние Мецские анналы.[1760] Еще одна особая племенная группа славян проживала еще в конце VII в. к юго-востоку от Поморья, в Мазурском Поозерье. Здесь в результате серии внешних завоеваний сложилась своеобразная культура, в числе строителей которой были и туземные галинды, и лангобарды с гепидами, и славяне. Одну часть правящего слоя составляли потомки пришедших с юга вместе со славянами авар. Другую — знать земледельческих племен. «Мазонами», по прусским преданиям, совместно предводительствовали князь Антонес (Ант?) и вождь пришедших из «Паннонии» кочевников-«роксоланов» с тюркским именем Чинбег. «Мазоны», как повествуют те же предания, сохраненные хроникой Симона Грунау, брали дань со своих северных соседей, пруссов. Пруссы вынуждены были отдавать воинственным угнетателям свое главное сокровище — янтарь, а также копченую рыбу. Но главной тяготой была обязанность отдавать мазонам детей мужского пола от каждой семьи. Это и обеспечивало Мазуры рабочей силой, и ослабляло сопротивление пруссов. Наконец, пруссы восстали. Предание связывает восстание с основателями Пруссии братьями Видевутом и Брутеном, но это лишь результат объединения вокруг их имени разновременных преданий. Сначала Антонесу и Чинбегу удалось вместе разбить Видевута. Но затем, будто бы заручившись покровительством бога грозы Перкунса, которому поклонялись пруссы, Видевут разгромил противника. Оба вражеских вождя погибли. Пруссы разорили Мазуры, истребив или поработив тамошних жителей. На этом история Мазурской культурной группы завершилась. Славянский, аварский или германский элемент в Галиндии более не прослеживается. С другой стороны, началось усиление Пруссии — одного из крупнейших племенных княжеств Балтии.[1761] Набеги пруссов и других балтских племен привели к оттеснению за Вислу славянских общин, начавших было расселяться в Мазовии. В VIII в. мазовецкие земли оставались необитаемыми.[1762] Начало Чехии ПржемысловичейВ землях современной Чехии после распада «державы» Само существовало несколько племенных княжений. Для VIII в. можно с уверенностью говорить о лучанах на западе страны, о дулебах на юге, о мораванах на юго-востоке. Все это были племенные союзы, объединявшие по нескольку племен. Центральные и северные области занимали племена, управлявшиеся династией «Кроков» или «Краков». В это время уже выделились отдельные княжения у собственно хорватов, чехов, зличан. Хорваты и зличане были чрезвычайно близки между собой по культуре и постепенно объединились в племенной союз. К востоку от Чехии и Моравии, в современной Словакии, по-прежнему господствует «аваро-славянская» культура. Земли к востоку от Моравы оставались под властью Аварского каганата вплоть до его падения. Славяне в это время уже плотно заселяют всю территорию Чехии и значительную часть Словакии. Росту населения не препятствовала высокая детская смертность, о которой мы можем судить по могильникам. Из 856 погребений в Девинской Нова Вес близ Братиславы детских — 277. В моравском Старом Бржецлаве — 9 из 33.[1763] Древним славянам было сложно справляться с болезнями и с дикой природой даже в давно обжитых районах. Тем не менее они росли в числе и покоряли все новые и новые неосвоенные земли. Села чешских и словацких земель в VII–VIII вв. сохраняют облик пражско-корчакской эпохи. Их обитатели жили в домах-полуземлянках с печами-каменками в углу, площадью 9–16 м2. Урожай хранили в ямных хранилищах. Ямные постройки служили и хлевами для скота. В селах трудились на нужды своих сородичей местные ремесленники — кузнецы и литейщики.[1764] Судя по дулебским и словацким курганам, в которых хоронили на протяжении нескольких лет членов одной семьи, большесемейные устои еще сохранялись. Большие курганные и грунтовые могильники — общинные кладбища.[1765] 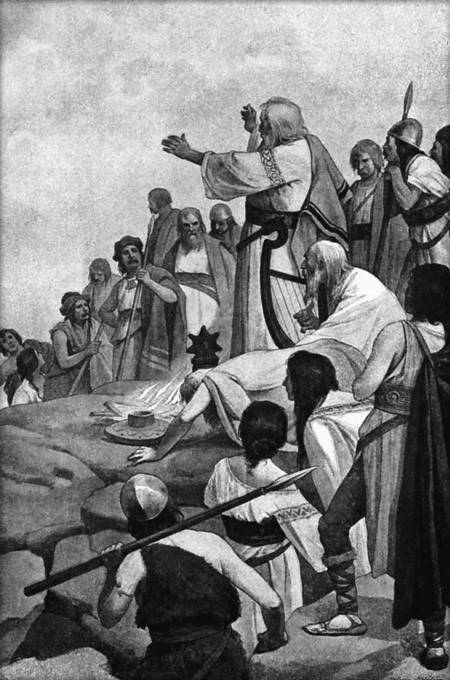 Приход чехов на гору Ржип. Из книги «Иллюстрированная история чешского народа» Фр. Палацкого. XIX в. По всей территории Чехии и Моравии VIII в. — пора градостроительства. Возникают новые грады — как Стара Коуржим в земле зличан в середине VIII в. или моравское Поганско у Нейдку в конце VIII в. Расширяются и укрепляются заново старые — как Микульчице в Моравии. В градах оседали князья со своими дружинами. С этим, в частности, связаны находки в них богатых украшений.[1766] Иногда неукрепленные поселения предшествующей эпохи превращались в грады. Этот общеславянский процесс был вызван укреплением власти князей, племенным делением и межплеменными войнами за земли. Пестрота политической карты древней Чехии приводила к частым столкновениям. Они описаны в ряде чешских преданий. Неудивительно, что не только княжеские грады, но и обычные села подчас обретали укрепления. Это простейшие стены — деревянные, обмазанные глиной.[1767] Один из градов чешских земель того времени — Клучов в Средней Чехии. Его воздвигли в середине VIII в., защитив тройной линией укреплений пологую площадь в 1,6 га. Первый рубеж обороны града составлял палисад, образуемый двумя рядами кольев. Первый, обращенный к полю ряд слегка наклонили — в лицо конной атаке. За палисадом выкопали ров. По ту сторону рва поднялась последняя линия укреплений — вал на каменной основе, с деревянной стеною поверху.[1768] Три линии валов защищали Градко, моравскую крепость VIII в., воздвигнутую на пологом склоне омываемого водой утеса.[1769] Еще одна крепость-убежище в Моравии — Старе Место, будущий центр Великоморавского княжества. Старе Место возникло в середине VIII в. Первоначальный град был защищен палисадом и служил укрытием для обширной сельской округи.[1770] В Словакии, как уже говорилось, продолжали властвовать авары. Аварские воины-всадники селились вместе со славянами, погребались с ними на одних кладбищах. Под власть авар находилась и будущая столица края, Нитра, где помешался один из таких смешанных могильников. В конце VII в. заложено одно из самых изученных аваро-славянских кладбищ Словакии — Девинска Нова Вес под Братиславой. Здесь только в самой древней, южной части, отмечены славянские сожжения. Все остальные захоронения произведены по аварскому образцу. Но среди этих трупоположений только десятая часть аварских (85 против 771). Таково соотношение авар и славян даже в важнейших центрах аварского присутствия к северу от Карпат и Дуная. Судя по восприятию славянами обычая трупоположения, знать, а затем и массы населения старались подражать аварам. В Бернолакове, тоже близ Братиславы, обнаружено даже сожжение с конем. Большая часть погребений Девинской (526) безынвентарна или содержит крайне мало инвентаря. Вместе с тем погребения с оружием, ножами, украшенными поясными наборами, подношениями в деревянных ведерках не так уж малочисленны. Их больше, чем собственно аварских. Такие могилы могли принадлежать только богатым и родовитым славянам. Но все же самые богатые могилы — аварские, с конской сбруей, саблями и боевыми топорами, дорогими фигурными украшениями. Иногда они сопровождаются человеческими жертвами.[1771] На рубеже VIII/IX вв. в Девинской и Бернолакове прекращаются захоронения. Чуть ранее это происходит в Желовце, чуть позднее — в Нове Замку. Исчезает в начале IX в. и возникшее лишь за несколько десятилетий до того кладбище в Житве. Оно отличалось, кстати, высоким процентом кочевнических захоронений. Аварский каганат пал, и власть над Словакией переходила к местной знати. Авары либо бежали, либо смешались со славянами. На рубеже VIII/IX вв. воздвигается один из первых памятников силы славянских князей в Словакии — курган в Блатнице на севере страны. Здесь найдены меч, сбруя, дорогие украшения, выполненные местными мастерами. Это исключительно богатое захоронение признается «княжеским». Славянским дружинникам принадлежат уже и курганы того же времени в Краснянах. Здесь найдено 43 мужских погребения, в основном по обряду ингумации, в том числе с оружием и сбруей. Коллективных «семейных» могил среди краснянских курганов почти нет.[1772] В VIII в. совершенствуются орудия земледельческого труда. По-прежнему для обработки земли используются мотыги и рала с железными наральниками. Но к концу VIII в. появляется уже и плуг.[1773] Плуг — усовершенствованное орудие с основанием-полозом. Металлический нож, насаживавшийся левее и впереди лемеха, предназначался для подрезания почвы сбоку. Полоз же облегчал труд пахаря, который теперь не должен был сам заботиться о равновесии сохи или рала.[1774] Грады и дворы князей, на заказ которых работали мастера, становятся центрами развития ремесла. На протяжении VII–VIII в. чешские и словацкие земли оказались на перекрестке путей обменной торговли. Сюда поступали изделия ремесленников и с франкского запада, и с Византии. Византийские товары поступали по торговому пути, шедшему вдоль Карпат и далее через Словакию. В словацком Прикарпатье обнаружен клад с византийскими изделиями конца VII в., оставленный, как думают, греческим торговцем. Вместе с ними образцами славянским умельцам служили и «аварские» поясные украшения. На самом деле эти фигурные детали поясных наборов нередко изготавливали славянские мастера Паннонии. Они пользовались престижем не только у авар, но у славян разных земель. К концу VIII в. под их влиянием в Моравии и Северной Словакии сложился особый стиль славянских металлических украшений, получивший название блатницко-микульчицкого. Название происходит от моравского града Микульчице и кургана в Блатинце, на севере Словакии.[1775] Помимо украшений, на погребениях и в поселениях обнаруживается немало других металлических изделий — оружие, конская сбруя, детали оковки деревянных ведер, пинцеты и особенно частые железные ножи. В Моравском Яне найден целый клад железных и бронзовых изделий, закопанных в железном котле. Среди них — орудия земледельческого труда, конская сбруя.[1776] В конце VII в. еще довольно широка распространена лепная керамика пражского типа. Затем шире распространяется гончарная дунайская. В Южной Словакии ее определенно предпочитали авары и подражавшие им славяне. Однако повсеместно славянские мастера осваивают ручной гончарный круг. Немалая часть посуды теперь хотя бы подправлена на нем и украшена волнистым орнаментом. Особенно это касалось посуды, используемой в погребальном ритуале. В селениях же преобладает грубая лепная или едва подправленная посуда пражского типа. Но кое-где в Словакии, под мощным культурным влиянием с юга, уже начала преобладать гончарная.[1777] В культурном отношении Чехия делилась на две большие области по погребальному обряду. У дулебов, хорватов, включая зличан, у мораван господствовал курганный обряд погребения. При этом в землях хорватских племен имелись и грунтовые могильники. Хоронили прах умерших в урнах, практически без инвентаря. На северо-западе, у чехов, лучан и их соседей, безраздельно господствовали грунтовые, тоже безынвентарные захоронения, а курганы не встречаются.[1778] В Словакии с VIII в. славяне массово перенимают от авар обычай трупоположения, часто в деревянных домовинах. Большинство трупоположений этого времени — славянские, и они преобладают над сожжениями. На кладбище Девинска Нова Вес только 27 из 883 погребений — кремации по славянскому обряду. Но только 85 погребений, как уже говорилось, — аварские, с конями. В то же время в Девинской в 114 случаях костры разводили над могилами после захоронений. Еще ярче соотношение в Бернолакове — из 87 погребений 84 трупоположения, но при этом только 4 аварских с конем, да еще одно погребение коня. Зато есть одно сожжение с конем — славянская знать перенимала обычаи завоевателей. Кое-где в VIII в. появляются чисто славянские могильники с ингумациями. Таковы Дворы, Прша. Умерших, как правило, клали в могилы головой на восток. Однако дважды, по одному разу на разных кладбищах, отмечены сидячие захоронения. Кажется, погребения с трупоположением часто рассматривались у славян как привилегия мужчин. Реже встречаются погребения женщин. В Девинской их только 47 при 121 мужском. Кое-где в Словакии прижился курганный обряд, принесенный с запада, от мораван. В Пржитлуках древнее грунтовое кладбище сменилось курганным могильником. Урновые захоронения совершались в курганы или рядом с ними. Первое захоронение совершалось в основании кургана, реже в выкопанной под ним яме. Даже при безурновых погребениях сожжения совершались чаще всего на стороне. В Краснянах на рубеже VIII/IX вв. в дружинном быту соединились курганный обряд и ингумация.[1779]  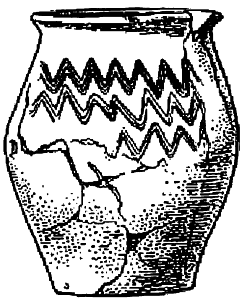 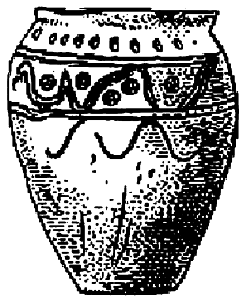 Сосуды из города Девинска Нова Вес На этом историческом фоне и происходит рождение чешской династии Пржемысловичей. Судя по списку ее правителей, сохраненному Козьмой Пражским, начало рода следует помещать не позднее VIII столетия. Согласно этому списку-родословию, до князя Борживоя, крестившегося в конце IX в., правили восемь его предков, начиная с праотца Пржемысла. Впрочем, Козьма не утверждал (в отличие от своих продолжателей), что власть передавалась от отца к сыну.[1780] Упоминаемые в предании о Пржемысле названия градов, — особенно образованное от имени его жены, Либушин, — ясно указывают на время уже не ранее VIII в. Некоторые связанные с Пржемыслом грады явно были построены позже описываемых событий, как, например, Прага-Град. В таких смещениях нет ничего удивительного. Многие значимые деяния потомков связывались в устной памяти с основанием правящего рода. То же самое относилось, тем более, к событиям предшествовавшего времени. Вся эпоха до Пржемысла в предании об основании династии слилась в единое правление «Крока». Соответственно, для сохранявшихся в народной памяти отдельных событий хорватской эпохи, связанных с конкретными княжескими именами, места уже не оставалось. В результате они искусственно притягивались к Пржемыслу и его жене Либуше, дочери Крока. Именно так произошло с известным в Чехии и уже упоминавшимся преданием о «войне полов». В его развернутой версии упоминаются княжеские имена, неизвестные родословию Пржемысловичей. Но именно поэтому средневековые чешские хронисты вынуждены были сделать Честирада и Власту современниками Пржемысла. Впрочем, предание сохраняет память о том, что действие его происходило ранее, чем действие предания о Пржемысле. Описанные в нем события более логичны как пролог к истории его восшествия на престол, чем как следствие этого события. Упоминаемый в предании как столица мужчин Вышегрод позднее являлся главным оплотом чешских князей, подчас и в противовес Праге, будто бы основанной Пржемыслом. В предании о Пржемысле сохранились следы того, что именно Вышегрод до Праги был его столицей[1781] — в древнейших вариантах предания, но необязательно в действительности. Предание о войне между чешскими юношами и девушками сохранилось у Козьмы Пражского и у Далимила.[1782] Оба относят события ко временам Пржемысла, то есть к VIII в. Примерно на то же время, как будто, указывают и называемые в предании грады (Девин, Вышегрод). Но соотнесение с Пржемыслом остается условностью и в тексте хроник. Рассказ о «войне полов» — явно вставной. У Козьмы Пржемысл в нем не упомянут вообще ни разу. Поскольку Пржемысл, взявший в жены «судью» Либуше, воспринимался чешскими хронистами как завершитель «женского» правления, то к нему были отнесены все предания об установлении нового патриархального порядка. Если события, отразившиеся в предании, происходили, то еще до основания династии. Поэтому главных героев и нет в родовом перечне Пржемысловичей. Логично заключить, что отражают они (как и само предание о Пржемысле) борьбу в обществе чехов «хорватской», «кроковской» эпохи, когда дозволялась передача власти женщинам. Действие предания происходит в сердце чешских земель, в районе Праги. Козьма повествует, что гордые девушки, и без того сами выбиравшие себе мужей, желая еще большей свободы, «воздвигли себе град, защитой которому служила природа, и дали этому граду название Девин». Оскорбленные этим чешские юноши, «собравшись еще в большем числе, выстроили неподалеку град на другой скале среди чащи, на расстоянии не более чем звук рога». Этот град назвали Храстен, «чаща», но после он получил название Вышеград. Между градами то и дело разгоралась война — причем девушки брали хитростью и обманом, а юноши храбростью. Однажды стороны собрались на трехдневный мирный пир. В конце первого дня, когда воительниц отяготило выпитое вино, один из юношей подал сигнал рогом. После этого «каждый тотчас похитил по девушке». Наутро между сторонами заключили мир. Из Девина вынесли все припасы и предали его огню. Далимил существенно расширил повествование Козьмы. Источником хронисту и поэту XIV в. послужили народные сказания, отчасти дожившие до нового времени. Согласно версии Далимила, девушки домогались не просто свободы, но княжеской власти для своего пола: «чтобы девка землею владела, а мужи о полях радели». В граде Девине они провозгласили княгиней одну из своей среды — Власту. Власта якобы призвала всех женщин подчинить «бородатых козлов», не допуская их на ложе и ни в чем им не повинуясь. Многие девушки бежали из отчих домов и собрались в Девин к своей княгине. Власта разделила свою девичью рать на три части. Мудрым «град поручила, в совете сидеть учила», красивых наставляла в коварстве, а остальным велела выезжать в поле и бить мужчин, «как псов». Дошло до того, что дочери поднимали руку на отцов. Мужчины выступили в поход на Девин. Чтобы объяснить отсутствие в нем Пржемысла, Далимил вводит несколько наставлений мудрого князя, предупреждающего от женского коварства и отказывающегося идти в поход. Рати мужчин и дев сошлись на Божище за будущим Вышегродом. Поэт вкладывает в уста языческой княгини выспреннюю речь, в которой она поминает амазонок и Александра Македонского. «Бей каждая брата и отца своего!» — призывала Власта своих воительниц. В начавшемся сражении погибло три сотни мужей, и их войско потерпело поражение. Вместе с Властой отличились сражавшиеся рядом с ней девушки, которых Далимил исчисляет поименно — «Млада, Хода и Светава, Врачка, Радка и Частава». Спустя полгода после поражения мужчины, не смея более нападать на Власту, и выстроили Вышегрод. Возвели его будто бы за одну ночь, опасаясь нападения. Власта же велела женам убивать собственных мужей на ложе — но не все в конечном счете повиновались ей. Затем Далимил описывает, какими именно хитростями обитательницы Девина изводили мужчин. Например, однажды они выманили их из вышегродского «хлада» лучшими красавицами — и перебили много «добрых юношей». Среди прочего говорится и о гибели Честирада — несомненно, в первоначальном предании именно он, а не Пржемысл, выступал как князь Вышегрода. Желая заманить Честирада, девинки избрали из своей среды красавицу Сарку и оставили ее связанной в лесу, а рядом с ней — рога и сосуд с медом. Честирад, проезжавший там, увидел девушку и кружащих над нею воронов — предвестие собственной смерти. Сарка назвалась дочерью пана из Оскорина, которую в Девин забрали насильно, а теперь бросили, ибо она якобы не хотела следовать «их злобе». Честирад освободил пленницу. Она попросила его остаться и проводить ее к отцу. Честирад согласился, пока же со своими дружинниками слез с коня и принялся пить со спасенной оставленный девинками мед. Напившись, мужчины стали трубить в рога, — невольно давая знак сообщницам Сарки. Те, прискакав на своих конях, перебили всех мужей, не успевших даже взяться за мечи, а Честирада посадили на кол перед самыми стенами Вышегрода. Место его гибели получило название от имени Сарки. После гибели Честирада Власта была признана княгиней почти по всей земле. Она велела всем новорожденным мальчикам отныне выкалывать правый глаз и отрубать палец на правой руке, «чтоб мечи не могли держать, а за щитом не могли видеть». Вышеград продолжал, однако, стоять. Теперь Далимил вновь вводит Пржемысла, чтобы дать мужчинам последний мудрый совет. Именно он (чего у Козьмы не было) советует им выманить жительниц Девина предложением мира. Однако история у Далимила, после всех описанных им кровавых распрей, отличается и окончанием. Умысел мужчин состоял том, чтобы побить врагов поодиночке. Заманив и пленив сильнейших воительниц Девина, они затем вызвали Власту и ее оставшуюся дружину на битву. Власта, исполненная неразумного гнева, двинулась на Вышегрод. Но, ворвавшись в ряды врагов, она погибла. После этого началось истребление ее войска — две сотни пало на поле, затем мужи ворвались в Девин и продолжили избиение там. Так с мятежом дев было покончено, и град их разрушен. Далимил заканчивает повествование возвращением законного правителя Пржемысла на престол — хотя у Козьмы, как уже говорилось, Пржемысл в этой связи и не упомянут. Ясно, что имена Власты и Честирада связывались народной памятью именно с этими событиями. Ясно и то, что предание бытовало в разных вариантах, и то, что пространная версия Далимила, полная ратных дел, — более поздняя, скорее эпическое сказание, чем собственно «историческое» предание. Впрочем, грань между эпосом и преданием в средневековье довольно узка и вполне проницаема. Повествование о необычных событиях древности явно захватывало воображение средневековых писателей — и у каждого не обходилось, конечно, без сравнений с амазонками. Это еще больше затемняет основу — ведь яркий образ из классического мифа неизбежно заслонял собой подлинное первобытное сказание. Ясно, что само рождение предания вызвано условиями «патриархального переворота», особенно остро пережитого чехами и хорватами. В обществе последних допускалась передача власти дочерям, что ясно из всех преданий о Кроке или Краке. Реально ли восстановить исторические события, лежащие в основе предания о градах Девин и Вышегрод? Можно догадаться, что речь здесь изначально шла о столкновении обычного для славян права наследования по мужской линии с хорватским обычаем. Не исключено, что именно в войне Девина и Вышегрода произошло обособление чехов в независимый от хорватов племенной союз. Чешский Девин в таком случае — оплот хорватов и законной наследницы их «Крока», первородной дочери Власты. Честирад же оказывается сыном или ближайшим мужским родичем умершего «Крока», претендующим на власть согласно патриархальному закону. Ужасы «войны полов», описанные Далимилом, едва ли имели место в действительности. По крайней мере в том массовом и концентрированном виде, в котором их сохранил эпос. Но видеть в них только аллюзию на античных амазонок тоже не стоит. Сопротивление женских половозрастных групп и жриц-ведьм торжествующему патриархату могло принимать разные формы. Частные эпизоды этой растянутой на два-три языческих века борьбы слились со временем в одно предание, создав страшную картину «женской власти» над Чехией. Кстати, со стороны все более ущемляемых ведьм было бы естественно поддержать Власту. Жизнь и нравы в Девине определенно напоминает в преданиях ведьмовское сестричество. Название «Девин», кстати, носил в IX в. один из градов Поморавья — не такого же ли происхождения? Окончательное крушение хорватского «матриархального» наследия, обрыв и смена хорватской династии «Кроков» отразились уже в самом предании о Пржемысле. В отличие от эпического сказания о Девине и Вышегроде этот текст имел более «каноническую» форму, став началом официальной истории королевской династии. Предание, передаваемое Козьмой,[1783] в основном повторяется позднейшими хронистами.  Хрудош оскорбляет Либуше. Из книги «Иллюстрированная история чешского народа» Фр. Палацкого. XIX в. Согласно рассказу Козьмы Пражского, после чешского «судьи» Крока осталось только три дочери — Кази, Тэтка и Либуше. Все три отличались немалой мудростью. Старшая сестра, Кази, прославилась как врачевательница и пророчица. С ней связывается пословица о безвозвратно потерянном: «Этого не сможет вернуть даже сама Кази». Курган Кази в начале XII в. показывали у реки Мжи (Вероунки), притока Влтавы. Тэтка, прожившая незамужней, стала жрицей. Именно она, утверждает Козьма, «научила глупый и невежественный народ поклоняться горным, лесным и водяным нимфам, наставляла его во всех суевериях и нечестивых обычаях». С ее именем связывается древний град Тэтин на крутой горе у той же Мжи. Третьей сестрой была Либуше, чей град Либушин располагался в заросших лесом землях на левобережье Влтавы, ниже Праги и впадения Вероунки. Из всех троих Либуше «единственная была в своих решениях предусмотрительна, в речи — решительна, телом — целомудренна и нравом — скромна». Кроме того, она обладала и пророческим даром. После смерти отца чехи избрали ее своей судьей. Судила она тщательно и по справедливости. Но однажды двое мужчин поспорили между собой о меже. Дойдя до драки, они прибежали на двор к Либуше с просьбой о правосудии. Либуше, как описывает Козьма, «поскольку женщинам свойственна нежность и непринужденность, когда ей не надо опасаться мужа, опершись на локоть, высоко возлежала, будто женщина, родившая ребенка». Спор она рассудила, как обычно, справедливо и нелицеприятно. Проигравший, однако, разгневался. Он затряс головой, трижды ударил посохом о землю и изрек: «О, оскорбление, непереносимое для мужчин! Эта ничтожная женщина со своим лукавым умом берется разрешать мужские споры! Нам ведь хорошо известно, что женщина, стоит ли она или сидит в кресле, не располагает большим умом, а еще меньше его у нее, когда она возлежит на подушках! Поистине, пусть она в таком случае лучше имеет дело с мужчиной, а не принимает решения, касающиеся воинов. Хорошо ведь известно, что у всех женщин волос долог, а ум короток. Лучше мужчинам умереть, чем терпеть подобное. Природа выставила нас на позор народам и племенам за то, что мы не имеем правителя и судьи из мужчин и над нами тяготеют женские законы». Либуше, скрыв обиду, со смехом ответила: «Дело обстоит действительно так, как ты говоришь: я женщина и веду себя подобно женщине. Я кажусь вам не слишком умной, ибо веду суд, не прибегая к железной палице. Поскольку вы живете, не ведая страха, то вы, естественно, питаете ко мне пренебреженье. Ибо где страх, там и уваженье. А теперь надо, чтобы вы получили правителя более жестокого, чем женщина. Так некогда голуби отвергли белого коршуна, которого выбрали себе в цари, как вы меня отвергаете, и предпочли выбрать своим князем более жестокого ястреба, а тот стал истреблять как виновных, так и безвинных, измышляя несодеянные ими преступления. И с тех пор и по сей день ястреб питается голубями. А теперь ступайте домой, и кого вы завтра выберете себе господином, того я возьму себе в мужья». Затем, отпустив народ, она призвала своих сестер. Ночью они вершили тайное чародейство, а утром Либуше вновь призвала людей. Либуше будто бы обратилась к собравшимся со следующим нравоучением: «Вы добровольно отказываетесь от той свободы, которую ни один добрый человек не отдает иначе, как со своей жизнью, и перед неизбежным рабством добровольно склоняете шею. Увы, будет поздно и тщетно, когда вы в этом станете раскаиваться, подобно лягушкам, которые стали сокрушаться лишь тогда, когда змея, избранная ими себе в цари, стала их уничтожать… Прежде всего, легче возвести в князья, чем возведенного низложить, ибо человек в вашей власти до тех пор, пока он не произведен в князья. А как только вы произведете кого-либо в князья, вы и все ваше имущество будет в его власти. От одного его взгляда ваши колени будут дрожать, а онемевший язык ваш прилипнет к сухому нёбу, и на зов его вы от сильного страха будете с трудом отвечать: «Так, господин! Так, господин!», когда он лишь одной своей волей, не спросив предварительно вашего мнения, одного осудит, а другого казнит; одного посадит в темницу, а другого вздернет на виселицу. И вас самих и людей ваших, кого только ему вздумается, он превратит в своих рабов, в крестьян, в податных людей, в служителей, в палачей, в глашатаев, в поваров, в пекарей или в мельников. Он заведет для себя начальников областей, сотников, управителей, виноградарей, землепашцев, жнецов, кузнецов оружия, мастеров по коже и меху; ваших сыновей и дочерей он заставит служить себе и возьмет себе по своему усмотрению все, что ему приглянется из вашего крупного и мелкого скота, из ваших жеребцов и кобыл. Он обратит в свою пользу все лучшее, что вы имеете у себя в деревнях, на полях, на пашнях, лугах и виноградниках. Однако зачем я задерживаю вас своим многословием? Зачем я вам все это говорю, словно хочу вас запугать? Но если и после сказанного вы настаиваете на своем решении и не обманываетесь в своем желании, тогда я назову вам имя князя и укажу то место, где он находится». Козьма местами вкладывает в уста Либуше цитаты из античных писателей и библейских книг, а то и заставляет ее говорить гекзаметрами. Но не стоит сомневаться, что сама по себе речь, содержавшая четкое описание прерогатив княжеской власти X–XI вв., играла важную роль уже в устном предании. Не тронутые предупреждениями Либуше, все «единодушным криком» потребовали себе князя. Либуше сказала в ответ: «Вон за теми горами находится небольшая река Билина, на берегу которой расположена деревня, известная под названием Стадице. А в ней имеется пашня в 12 шагов длиной и во столько же шагов шириной. Как ни удивительно, но пашня эта хотя расположена среди стольких полей, тем не менее она не относится ни к какому полю. На этой пашне на двух пестрых волах пашет ваш князь; один из волов как бы опоясан белой полосой, голова его тоже белая, другой весь белого цвета с головы и до спины; и задние ноги его белого цвета. Ну а теперь, если вам угодно, возьмите мои жезл, плащ и одежду, достойную князя, и отправляйтесь по повелению как народа, так и моему и приведите его себе в князья, а мне в супруги. Имя же этому человеку Пржемысл; он выдумает много законов, которые обрушатся на ваши головы и шеи, ибо по-латыни это имя означает “наперед обдумывающий” или “сверх обдумывающий”. Потомки же его будут вечно править в этой стране». Послов избрали, но они топтались на месте, не решаясь как будто выступить в путь. Наконец, Либуше сказала им: «Что же вы медлите? Идите спокойно, следуя за моим конем: он поведет вас но правильной дороге и приведет обратно, ибо уже не раз доводилось ему ступать по ней». Послы пошли следом за конем и, наконец, на подходе к Стадице увидели некоего мальчика. «Слушай-ка, добрый малый, — спросили послы, — не деревня ли это по названию Стадице, а если это она, то нет ли в ней человека по имени Пржемысл?» «Это, — ответил мальчик, — деревня, которую вы ищете. А вот человек по имени Пржемысл погоняет волов недалеко в поле и спешит завершить дело, которым занят». Подойдя к Пржемыслу, послы обратились к нему: «Госпожа наша Либуше и весь наш народ просят тебя прийти поскорей к нам и принять на себя княжение, которое предопределено тебе и твоим потомкам. Все, что мы имеем, и мы сами в твоих руках. Мы избираем тебя князем, судьей, правителем, защитником, тебя одного мы избираем своим господином». Пржемысл прекратил пахоту, воткнул палку, которую держал в руках, в землю, а волам велел: «Отправляйтесь туда, откуда пришли». Те немедленно ушли «и никогда больше не появлялись». Палка, воткнутая Пржемыслом, тут же проросла побегами «с листьями и орехами». Пораженные послы присоединились к простецкой крестьянской трапезе. Они ели «замшелый хлеб» и «остатки еды» на суме Пржемысла, наскоро накрытой полотенцем. Пока они насыщались, два из трех побегов засохли и отпали, зато третий дивно разросся. «Чему вы удивляетесь? — сказал Пржемысл. — Знайте, из нашего рода многие родятся господами, но властвовать будет всегда один. И если бы госпожа ваша не спешила столь с этим делом, выждала бы некоторое время веление рока и не прислала бы столь быстро за мной, то земля ваша имела бы столько господ, сколько природа может создать благороднорожденных». Затем предназначенный князь переоделся в достойную одежду и сел на коня. Но с собой в дорогу он взял свои лыковые лапти и велел сохранить их. В дороге один из послов осмелился спросить: «Господин, скажи нам, для чего ты приказал нам сохранить эти лапти из лыка и годные, только на то, чтобы их выбросить? Мы все еще не перестаем удивляться». Пржемысл ответил: «Я приказал и приказываю их сохранить вечно для того, чтобы наши потомки знали, откуда они ведут свой род, чтобы они всегда жили в страхе и настороженности и чтобы людей, посланных им богом, они не угнетали, не обращались с ними несправедливо по причине надменности, ибо все мы созданы равными по природе. А теперь пусть и мне в свою очередь позволено будет спросить вас, что более похвально: в бедности достичь высокого положения или опуститься до бедности? Вы мне, конечно, ответите, что лучше достичь славы, чем впасть в нищету. Однако бывает, что некоторые, происходя из благородного рода, впадают затем в постыдную нищету и становятся несчастными; когда рассказывают другим, сколь славными и могущественными были их родители, то они сами не сознают, что этим они еще более позорят и роняют самих себя, ибо они из-за своей лени потеряли то, что первые приобрели благодаря трудолюбию. Ибо судьба непрестанно вертит свое колесо и как в игре в кости то возносит одних на вершину, то других низвергает в пропасть. Поэтому бывает так, что земное достоинство, которое некогда вело к славе, будучи утеряно, ведет к бесчестию, а бедность, побежденная добродетелью, не прячется под волчьей шкурой, а возвышает победителя до звезд, в то время как раньше увлекала его в преисподнюю». Лапти основателя династии еще в XII–XIV вв. хранились в Вышегроде. Пржемысл прибыл в Либушин и справил свадьбу с судьей Либуше. Признанный князем, они совместно с женой установил княжеские «законы». И, как и предвидела Либуше, утвердил суровые наказания за их нарушение. Усмиренный строгостью Пржемысла народ повиновался князю и его справедливым установлениям. После провозглашения новых законов Либуше охватило чувство предвидения. Она обратилась к людям с предвещанием. Ей виделся славный град, выстроенный на реке Влтаве. «С северной стороны, — говорила Либуше, — сильно укреплен высоким берегом речки Брусницы, с южной стороны нависает над ним широкая и каменистая гора, из-за этой своей каменистости называемая Петржин. На том месте она изогнута наподобие морской свиньи в направлении к указанной реке. Когда вы подойдете к этому месту, вы найдете там человека, закладывающего среди леса порог дома. И так как к низкому порогу наклоняются даже большие господа, то и город, который вы построите, вы назовете Прагой. В этом городе когда-нибудь в будущем вырастут две золотые лозы; вершины их вознесутся до седьмого неба, и они воссияют на весь мир своими знамениями и чудесами. Все области чешской земли и остальные народы будут почитать их и приносить им жертвы и дары. Одну из них назовут Великая Слава, другую — Утешение войска». В последних словах языческая пророчица предсказывает, по Козьме, рождение в Х в. святых Вацлава и Войтеха, покровителей Чехии. Подданные Пржемысла отправились в указанный лес и, найдя описанное место, заложили град. Так была основана Прага, «владычица всей Чехии». Сразу после своего предсказания Либуше скончалась. Позднее умер и Пржемысл — «достигнув вершины своих дней и установив права и законы». Ему наследовал сын — Незамысл. Далимил[1784] лишь незначительно дополняет, а местами и сокращает рассказ Козьмы. Так, поэт утверждает, что призвание Пржемысла произошло не сразу после злосчастного суда. Вскоре недовольство волей Либуше высказал весь народ. Именно тогда она обращается с поучением о княжеской власти, причем оба поучения, приводимых Козьмой, теперь объединены. Нет у Далимила упоминания о совете и ворожбе трех сестер. Трапеза Пржемысла и послов происходит не на суме, а на пахарском железном рале. Когда послы дивятся этому, Пржемысл упрекает их за презрение к Либуше и говорит: «Будет вам от моего рода железная метла». Князь здесь вообще гораздо суровее, чем у Козьмы, добавляя свои грозные предсказания к речениям Либуше. Побегов у Далимила не три, а пять, но остается опять же один. Все эти различия могут объясняться и вариантами в предании, и домыслами хрониста XIV в., пытавшегося сделать древний рассказ более занимательным и стройным. Как выглядело первоначальное предание о Пржемысле в языческие времена Чехии? Прежде всего, князь представал в нем как персонаж божественный, призванный колдовством сестер из иного мира. Он загодя знает о приходе послов. «Пахарь» — лишь облик, принятый им, и его волы загадочно исчезают из мира людей по одному его слову. Более того, похоже, что сами Стадичи (Стадице) воспринимаются преданием как некий порог между мирами богов и людей. Встреченный послами мальчик прекрасно знает Пржемысла и не удивлен тем, что его ищет торжественное посольство. Либуше вроде бы не знала Пржемысла прежде, но ее конь — священное животное, у славян часто «узнающее» нового князя — один знает дорогу до Стадичей. Все это побуждает видеть в Пржемысле мифологическом очередное проявление родоначальника княжеской власти у славян, «божьего коваля» Сварога, который выступал и в качестве пахаря. Две сестры Либуше, связанные с миром сверхъестественного, могут являться ипостасями женского божества, которое теперь передает власть мужскому. Но был и Пржемысл исторический, носивший вполне реальное и довольно распространенное княжеское имя, родоначальник Пржемысловичей. Какова же историческая основа предания? Речь в нем о ситуации, сложившейся после пресечения хорватской династии «Кроков» в Чехии. Власть единственной и избранной было наследницы — княгини-«судьи» Либуше — оказалась быстро отвергнута. Неудивительно в условиях идущего в Чехии «патриархального переворота», после потрясений легендарной «войны полов». По обычаю, обратились к более широкому кругу претендентов из числа «потомков Сварога». При таком обращении в князья действительно мог быть избран любой общинник, принадлежавший к ритуальному союзу кузнецов. Рассказы о ворожбе, о коне-проводнике тогда отражают гадания, сопровождавшие избрание князя. Их проводят Либуше с сестрами в качестве носительниц священной власти, верховных жриц. Брак Пржемысла с Либуше, давший начало новой династии, примиряет хорватское и чешское, но также передаваемую по наследству жреческую власть «владык» и светскую власть князя-военачальника. Избранный в князья как мужчина-воин в пору общего укрепления княжеской власти, Пржемысл оставил по себе память как усмиритель вечевой свободы. Впрочем, приписываемые ему и Либуше «законы» — не более чем обычное право чешских племен. Самое большее, при Пржемысле они могли быть сведены воедино, а княжеский суд превратиться в обязательную высшую инстанцию.  Либуше показывает Пржемыслу сокровищницу. Из книги «Иллюстрированная история чешского народа» Фр. Палацкого. XIX в. Итак, историческая основа просматривается. Однако неправильно было бы говорить, что «мифологическое» в предании наслоилось на «историческое». Для славянина-язычника подобного противопоставления просто не существовало. То, что кажется нам мифической фантастикой, как уже говорилось однажды, могло содержаться в «первоначальном» предании. И ни о каких «искажениях» речь не идет. Географические названия, упоминаемые в предании — Либушин, Тэтин, Прага, Вышегрод, Стадичи, — в основном очерчивают границы «владений» Пржемысла. Тэтин, Либушин, Вышегрод могли уже возникнуть в течение VIII в., Тэтин даже чуть ранее. На месте Праги существовали поселения. Название «Прага», кстати, действительно связана с «порогами», но с речными на Влтаве. В VIII в. в Шарке («Сарка» Далимила) строится град. Используя выгоды скалистой местности, древние пражане защитили свою крепость еще и валом. В результате разделенные естественным и искусственным укреплением славянские дома образовали град и два предградья. Шарка являлась торговым и ремесленным центром. Местная знать украшала себя «аварскими» поясными наборами. Украшения из них (в том числе одно — с изображением античной богини Ники) найдены археологами. Шарка являлась центром округи до построения Прага-Града. Ничто не препятствует считать, что именно Шарку и построили Либуше с Пржемыслом. Чуть позднее, уже на рубеже VIII/IX вв., на месте современной Праги появилось еще одно славянское укрепление — Богнице. С севера и с востока его защищал глиняный вал на каменной и деревянной основе, с запада — палисад. Это было обычное убежище для жителей округи, использовавших грубую керамику и орудия труда. Никаких следов княжеского пребывания здесь нет. Богнице строилось как запасное убежище, ввиду многочисленности расселившихся вокруг княжеской Праги (Шарки) чехов.[1785] Особняком стоят Стадичи. Вопрос даже не в том, было ли там в VIII в. неукрепленное поселение. Ясно, что это древнее родовое название, которое необязательно привязывать к средневековой деревне. Но жил род Стадичей именно в описанном районе — далеко на север от центральной Чехии, вверх по Лабе. Это были земли племени или племенного союза лемузов, чье неславянское название может восходить еще к VI–VIII вв. Избрание князя из лемузского рода может объясняться стремлением к объединению центральных и северных чешских племен. Сколь можно судить, лемузы, подобно чехам, испытывали давление со стороны западных соседей лучан. После смерти Пржемысла сменилось несколько князей из его потомков. Источник знаний о них — доставшийся Козьме княжеский перечень, и о деяниях их ничего неизвестно. Имена ближайших преемников Пржемысла, правивших еще в VIII в. — Незамысл, Мната, Воен. Воен, по Далимилу, имел двух сыновей — Унислава и Владислава. Из них Унислав будто бы получил Чехию, а Владислав землю лучан. Но это домысел, «объясняющий» происхождение лучанского княжества. По Козьме, князь Властислав (Владислав у Далимила) позднее воевал с чешским князем Некланом, вторым преемником Унислава. На самом деле состоявшее из пяти племен лучанское княжение являлось совершенно независимым от Чехии VIII в. Нет никаких оснований, кроме догадки Далимила, предполагать родство здешних князей с Пржемысловичами. К концу VIII в. в окрестностях пражского гнездовья сел начинает складываться целая сеть укрепленных градов. Большинство из них служило уже не резиденциями самостоятельных племенных князьков, а временными ставками Пржемысловичей. К княжеским щедротам и под сень надежных стен подселялись ремесленники и торговцы. Они постепенно занимали неукрепленные предградья у подножия градских укреплений. Одним из таких являлось городище Будечи, основанное на рубеже VIII–IX вв. примерно в 20 км к западу от Праги. В центре большого холма был возведен град площадью около 6 га. На месте Будечей еще с бронзового века располагалось укрепление с каменным валом. Этот вал чехи использовали для строительства семиметровой стены, подкрепив ее изнутри деревом. Вокруг града образовалось предградье, вместе с ним занимающее 22 га.[1786] Пржемысловичам удалось обеспечить единство чешских племен. Но рядом появлялись и другие сильные княжения. О племенном союзе лучан, сложившемся по Огрже, уже упоминалось. Другим сильным объединением на землях Северной Чехии стал хорватский племенной союз. К концу VIII в. хорватские племена северо-восточной Чехии объединились под верховной властью зличан. В земле зличан в ту пору строится богатая племенная столица — Либице над Цидлиной. Здесь разместился племенной князь с дружиной. Как и чешские, хорватские дружинники ценили дорогие «аварские» украшения. Лидице возвели недалеко от чешской границы, при впадении Цидлины в Влтаву. Достаточно четкое указание на то, против кого град изначально строился. Стены ранее неукрепленного поселения в Либице охватили примерно 10 га прибрежной террасы. Возводились они на основе деревянной клети, которую заполнили камнями и скрепляющей глиной. Кроме стены град защищали два рва с обеих ее сторон. В стене имелись единственные деревянные ворота. Они вели из града в предградье, которое образовалось сразу же при его строительстве.[1787] Разросшееся поселение просто разделили на град и предградье, создав местопребывание для дружины и убежище для жителей округи на случай войны. Об истории Поморавья в VIII в. практически не сохранилось памяти в чешских преданиях. В результате мы имеем парадокс — в IX в. Чехия являлась периферией Великой Моравии. Но о предыстории этой периферии мы осведомлены лучше, чем о предыстории сильнейшего государства западных славян IX столетия, сыгравшего исключительную роль в истории славянской культуры и цивилизации. Неизвестны княжеские имена, едва определяются этапы объединения моравских племен. Пробел этот лишь отчасти заполняется данными археологии. Вскоре после распада «державы» Само Поморавье вновь оказалось на переднем крае борьбы с возрождающимся Аварским каганатом. В первой половине VIII в. авары еще пытались покорить племена, населявшие долину Моравы. Не исключено, что временами кочевникам удавалось прорваться за Дунай и обложить славян данью. Но к середине VIII в. авар окончательно выставили за реку. Памятники аварской культуры в Поморавье исчезли.[1788] После этого на правобережье Моравы образовался сильный племенной союз мораван с центром в городище Микульчицы. Подлинное название града в то время неизвестно. Но появилась эта будущая резиденция великоморавских князей еще в VII в. Теперь сидевшие здесь правители закрепили за собой власть в племенном объединении. Сплочение мораван вокруг микульчицких князей стало логичным итогом их борьбы против аварских набегов. В Микульчице, защищенном деревянным частоколом, пребывал между походов и гощений князь с конной дружиной. Микульчицкий князь был не только дружинным вождем, но и жрецом-«владыкой». Во граде располагался жертвенник, на который приносились «замещающие» жертвы — глиняные миниатюрные изображения людей, животных, а также конских седел. На небольшой, менее 3 га, площади града располагалось довольно много отдельных срубных домов с полами, обмазанными глиной или посыпанными песком. Эти дома служили жилищами княжеской семье, дружинникам, мастерам-ремесленникам. В Микульчице обрабатывали драгоценные в глазах славянской знати металлы — золото и бронзу. Помимо ювелирных изделий, в мастерских найдены и литейные тигельки. Цельных золотых изделий не обнаружено, но подлинное золото использовали для нанесения позолоты. Трудились в Микульчице и гончары, чья продукция отличалась высоким качеством.[1789] VIII в. — вообще время развития ремесла в моравских землях. Моравские мастера, сообщавшиеся по Дунаю и через Дунай с ювелирным искусством других стран, овладели техникой не только позолоты, но и зерни. Изготовленные ими украшения ценились в землях других славянских племен. С середины VIII в. тисненые украшения с зернью, изготовленные в Моравии, отмечены в Среднем Поднепровье. К концу же VIII в., как уже говорилось, окончательно складывается собственный художественный стиль, отмеченный находками и в Микульчице.[1790] Уже в последние годы VIII в. укрепления Микульчице перестроили. Крушение Аварского каганата обогатило местных князей, но вместе с тем заставляло думать о новых опасностях. Старый частокол сохранили, но за ним воздвигли вал на прочном деревянном остове. С внешней стороны вала возвели еще и каменную стену. Единственные ворота устроили на северо-западе града. В результате этой перестройки град увеличился более чем вдвое. Теперь он занимал уже 6 га.[1791] Перестройка Микульчице — свидетельство того, что начало Великой Моравии следующего века уже было положено. И погребальный обряд, и следы жертвоприношений, и письменные свидетельства не оставляют сомнения в том, что весь VIII в. в Чехии и Моравии продолжает господствовать древнее язычество. Но к концу века появляются первые признаки нового. С запада в Чехию проникает новый погребальный ритуал. Местами славяне перестают по древнему обычаю сжигать умерших, а начинают класть их в грунтовые или курганные могилы. Это первый признак знакомства с христианством — но пока больше с христианской обрядностью.[1792] Причинами тому стали и возросшее влияние франков, и начавшаяся с верховий Огрже проповедь миссионеров Вюрцбургской епархии. Славяне и Франкское королевствоВ 30-х гг. VIII в. славяне — сербы и выходцы из лучанского региона — продолжали достаточно свободно расселяться на запад. Славянские поселения возникали в Тюрингии и в верховьях Майна. Франкские власти не могли и не особенно пытались мешать этому. Памятью взаимного общения и смешения славян и германцев в порубежье остались сравнительно поздние заимствования из германских в языках всех северных славян. Они весьма разнообразны по своему составу. Среди них — названия отдельных разновидностей посуды (деревянного питьевого сосуда, большого блюда), редких для славян животных (горностая и совсем экзотического льва), латуни и др.[1793] Одну группу таких славян-переселенцев встретил на самых юго-западных окраинах Тюрингии в 736 г. монах-миссионер Стурми. Славяне «большим множеством» следовали по торговому тракту, ведущему из Тюрингии в Майнц. С ними был толмач из их собственного племени, помогавший при необходимости объясняться с местными. У переправы через реку Фульда славяне решили искупаться. Здесь и наткнулся на них Стурми, как раз свернувший на тракт. Осел, на котором ехал монах, задрожал, «испугавшись их голых тел». «И сам муж Божий содрогнулся от их отвратительных запахов». Язычники, увидев его страх, стали насмехаться. Кое-кто даже «захотел причинить ему вред», но передумал. По словам автора Жития Стурми, славяне «были Божественной силой удержаны и укрощены». Толмач даже любезно осведомился у Стурми, куда тот направляется, и миссионер разошелся со славянами миром.[1794] Итак, славяне уже достаточно далеко заходили в глубь франкских земель, с миром проходя насквозь только-только подчинившуюся франкам Тюрингию. При этом они оставались язычниками и мало считались с франкскими законами. Все это не могло не заботить франкских майордомов и христианских епископов Австразии. Майордом Карл Мартелл, подчинивший в 720 г. Тюрингское королевство, продолжал активную политику на севере и востоке. Он добился формального признания своей власти от швабов, в 734 г. разгромил и покорил фризов, в 738 — взял дань с саксов. Карл, остановивший в 732 г. арабское нашествие на Европу битвой при Пуатье, видел себя защитником и распространителем христианской веры. В Германии он обрел деятельного соратника в этом деле — миссийного епископа Бонифация, родом англосакса. С 732 г. Бонифаций был утвержден папой в качестве архиепископа всей Германии и полномочного легата Рима в землях обращаемых германских племен. Бонифаций, «апостол германцев», немало труда уделил наставлению своей паствы в христианской вере, упорно проповедовал язычникам, перестраивал церковное управление во всем королевстве. В 741 г. Бонифаций выделил восточные франкские церкви в новые епархии — Эйхштеттскую во главе с Виллибальдом и Вюрцбургскую во главе с Буркхардтом. Но при этом он вывел из их подчинения церкви на границе с фризами, саксами и славянами. Надеясь проповедовать этим народам, Бонифаций оставил эти земли в собственном ведении — «и до преславного дня своей кончины неустанно прокладывал пастве узкий путь к Царству Небесному».[1795] Погиб он в 753 г., проповедуя фризам. Резкие характеристики, которые давал Бонифаций славянам, мало отличаются от его отзывов о закосневших в язычестве германцах. Упорный и смелый миссионер осуждал то «невежество», которое стояло на пути его служения. Пока Бонифаций без особого успеха пытался обратить славян в христианство, его покровители Арнульфинги налаживали со славянскими княжествами политические связи. Войны Карла Мартелла с саксами открывали ему дорогу к низовьям Лабы. Он решил наладить связи с местными славянами. Потому Карл заключил какой-то договор со стодорянами. Их вождь Драговит, позднее ставший верховным князем велетов, вступил с Карлом в союз и получил от него признание как самостоятельный правитель. Союз мог помочь в последней, победоносной войне Карла с саксами в 738 г. — или, наоборот, быть заключен уже после победы, с новым соседом.[1796] После смерти Карла Мартелла, однако, с приходом к власти его сыновей Пипина и Карломана, саксы вновь отложились. Карломан было подчинил их в 743–744 гг. Но в 747 г. он отрекся от власти в пользу Пипина. Тогда саксы снова отказались платить франкам дань. Они приняли к себе Грифона, сводного брата нового майордома, который уже попортил законным наследникам Мартелла немало крови своими мятежами. В 748 г. Пипин Короткий выступил в поход на саксов. Ища союзников, Пипин обратился к независимым пока западным фризам, жившим на границах Саксонии и Тюрингии, а также к соседним славянам — сербам. Сербские князья согласились и «единодушно» выставили в помощь франкам свои дружины. Собралось сильное многотысячное войско. Оно вторглось в пределы саксов с огнем и мечом. «Многие из них уже были убиты и отправлены в плен, области их сожжены огнем». Напуганные мощью вражеского натиска, саксы поспешили заключить мир на условиях франков, обязались платить впредь Пипину дань и даже принять у себя проповедников христианства.[1797] Отношения франков с сербами и стодорянами в эти годы не несли в себе еще и следа подчинения. По крайней мере, пока речь шла о землях к востоку от Заале и Лабы. Но иначе обстояло дело в Тюрингии и Франконии, которые франки имели все основания считать теперь своими. Как и на юге, в Баварии, недавно еще вольно расселявшиеся здесь славяне вскоре познали железную хватку строящегося феодального государства. Для этого оказалось вполне достаточно консолидации франков при Карле Мартелле. При его детях, в 741–747 гг., славяне Франконии уже были обложены ежегодной податью в пользу короны — такой же, как и сами жившие здесь восточные франки. Десятую часть этой подати Пипин и Карломан совместной грамотой отдали в пользу Вюрцбургской епархии.[1798] Архиепископ Бонифаций, в ведении которого оставались приграничные земли, колебался по поводу того, должно ли Церкви пользоваться податями с язычников. В 751 г. он обратился за разъяснениями к папе римскому Захарии. Тот в письме от 4 ноября 751 г. отвечал своему легату: «Поскольку о славянах, населяющих землю христиан, подобает ли брать с них подать, спросил ты, брат, — здесь совета не нужно, ибо суть дела очевидна. Ведь если будут жить без подати, то когда-нибудь начнут считать эту землю своей собственной. Если же станут платить подать, то будут знать, что у этой земли есть господин».[1799] Папской позиции, пусть спорной этически, нельзя было отказать в рациональности. Теперь, после ясно высказанной воли главы Западной церкви, отпадали последние препятствия для подчинения славян Франконии и Тюрингии франкским чиновникам, а затем и феодалам. Славяне могли сохранять верность своей языческой вере — но это не спасало их от вовлечения в систему франкского государства. Их небольшие княжения, начавшие обустраиваться на новых землях, устоять против его машины не могли и исчезли в считанные годы. Но превращение прозрачных межплеменных границ в государственные создавало угрозу и для славянских князей с правого берега Заале. После того, как их родичи за рекой оказались в зависимости от «союзников», те стали приглядываться и к восточным землям. Свободные исходы, регулярно сбрасывавшие груз перенаселенности в Белой Сербии, требовалось поставить под контроль властей. До сих пор франки не пытались покорить правобережных сербов. Но «союз» с ними к концу уже королевского правления Пипина Короткого дал трещину. Нечетко установленная, хотя и зримая граница по Заале не удовлетворяла франков. Передвижения славян воспринимались теперь или как бесчинные вторжения, или как бегство податных крестьян. Облагая славян налогами, франкские чиновники стали надеяться, что река уже не полагает предел их власти. В 766 г. франкские войска переправились через Заале в северной Тюрингии, у впадения правого притока реки Ветау. Здесь находился сербский град, именуемый в латинских анналах Вейтахабург или Вейдахабург (позднее Веттабург). Франки разгромили славян и захватили их укрепление.[1800] Повод к войне неизвестен. Но битва в Вейтахабурге послужила началом нового этапа в отношениях франков с соседними славянами. Окрепшее Франкское государство начинало свой натиск на Восток. Дулебы и антыОб истории восточных славян в VIII в. известия в современных событиям письменных памятниках вовсе отсутствуют. Основной материал для исследователя вновь, как и за столетия до того, поставляет археология. Сведения, добытые в ходе раскопок, можно лишь сопоставлять с поздними преданиями и обрывками косвенных указаний в других источниках. Потому многие вопросы далеки от окончательного решения. Рубеж VIII/IX вв., как уже упоминалось, — время племенных передвижений на юге Восточноевропейской равнины. В дулебских землях на основе прежней пражско-корчакской складывается новая культура Луки-Райковецкой. Она почти сразу распространилась на юг, в былые пределы антов, поглотив культуру пеньковскую. После ухода на юго-запад болгарской орды Аспаруха анты по Нижнему Днепру, Южному Бугу и Днестру остались перед лицом грозного врага — Хазарского каганата. Хазары и покорившиеся им алано-болгарские племена совершали набеги на антские земли, угоняли антов в плен. На Северском Донце, в зоне кочевнической салтовской культуры VIII–IX вв., среди ее захоронений, обнаружены погребения антов. Насильно переселенные на чужбину, они сохранили там черты своей культуры — керамику, обряд кремации и захоронения праха в урнах.[1801] В условиях хазарских набегов у антов не было сил, а главное причин, твердо противостать вторжению многочисленных переселенцев с дулебского севера. Причины этого вторжения обычны и ясны — малоземелье в лесистых краях, перенаселение, в также приток сородичей с неспокойного запада. Более того, даже в антских землях места на всех не хватило, и часть дулебов устремилась вслед за ушедшей частью антов дальше, за Прут, в подчиненную болгарам Молдову. Погибла или бежала какая-то часть антской знати, оставив по себе невскрытые клады в районе заброшенного в VIII в. Пастырского городища.[1802] При этом большая часть антов осталась на своих местах, свободно перемешавшись с пришельцами. Нужды совместной борьбы с кочевниками заставляли межплеменные распри отступить на второй план. Анты и дулебы слились на юге воедино, создав особый вариант культуры Луки-Райковецкой.[1803] Здешние племена приняли общее для дулебов самоназвание «словене», но не имя самих дулебов. Племенные союзы юга сохранили независимость. Родственные племена, создавшие культуру Луки-Райковецкой, заселили в итоге огромную территорию на юго-западе Восточноевропейской равнины. Северная граница первоначально проходила по берегам Припяти, захватывая на востоке часть Среднего Поднепровья до Десны. Дальше граница сворачивала на юг и шла по берегам Днепра до порогов. Южные пределы захватывали верховья Южного Буга и большую часть Прутско-Днестровского междуречья. Отдельные поселения доходили до подступов к морю и Дуная. Западная граница поднималась по Пруту, местами выступая до Сирета, захватывала Закарпатье в верховьях Тисы, а дальше шла уже по Западному Бугу до округи Бреста.[1804] На этом пространстве расселилось несколько десятков славянских племен, объединенных в союзы-«княжения». Не все их названия нам известны. Некоторые известные — скажем, древляне или бужане, — в ту пору включали еще меньше племен, чем можно было бы судить по летописи. Бужане — прямые наследники дулебов — занимали земли в верховьях Западного Буга и Турьи, окрестностях древнего Зимно. На севере они уже с VIII в. продвигались вниз по Бугу, вплоть до окрестностей Бреста за Припятью.[1805] К востоку от них, по Стыри, жили лучане, которых знает в качестве отдельного независимого племени еще Баварский географ IX в. На рубеже VIII/IX вв. на мысу при впадении Гучвы в Буг возникло поселение Волынь.[1806] Вокруг этой новой княжеской резиденции началось сплочение бужан, а затем и лучан в единый племенной союз волынян. В итоге он включил и племена, жившие восточнее лучан, по Горыни и Случи. На севере, отделенные поясом полесских топей, жили дреговичи и связанные с ними союзом берзичи. Еще в IX в. Баварский географ знает лишь берзичей — и скорее они верховодили в этом объединении. Славянские земли в Припятском Полесье ограничивались в то время лишь небольшой территорией на южном берегу близ будущего Турова. Дальше на север, в балтские земли, славяне здесь пока не продвигались.[1807] К востоку от Волыни лежали лесные Дерева — будущая область древлян по Тетереву и Ужу. В VIII в. она тоже еще делилась между независимыми друг от друга княжениями. Одно из них, собственно древлянское, занимало земли в междуречье Ирши и Ужа, при их сближении. С северо-запада, по Жереву, соседями древлян являлись жеревичи. Еще какие-то деревские племена обитали у самой границы лесостепи, в верховьях Тетерева. Эти племена, непосредственные соседи живших восточнее полян, вошли в древлянский союз еще в VIII в. Полянами звались умножившиеся после переселений «роды», обитавшие в Среднем Поднепровье, уже по обе стороны реки. Наиболее плотно заселены были поречье между Днепром и Ирпенью, а на севере — низовья Десны до впадения Снова. Переселения, создавшие культуру Луки-Райковецкой, отчасти захватили и Левобережье с его антским населением, теперь влившимся в число полян. Судя по летописным преданиям, до основания Киева поляне, хотя и сознавали свою близость, но жили «особо», «родами», «владея каждый родом своим».[1808] Ниже полян по Днепру начинались земли древних антских племен. Скопление поселений за впадением Орели, в днепровских порогах, принадлежало племени или племенам угличей. Позднее в угличский племенной союз вошли и непосредственные южные соседи полян, жившие на север от впадения Тясмина, вплоть до Роси. Присоединились к нему — или к родственным тиверцам, населявшим Прутско-Днестровское междуречье, — и антские племена в верховьях Южного Буга.[1809] Тиверские старопахотные земли по Днестру являлись одной из наиболее плотно заселенных областей культуры Луки-Райковецкой. Другой, еще более населенной, являлась лежавшая к северу территория хорватов Верхнего Поднестровья и Прикарпатья. Дальние родичи хорватов, — не исключено, что входившие в их союз, — издавна населяли и Закарпатье. Образ жизни племен культуры Луки-Райковецкой внешне претерпел мало изменений по сравнению с предшествующими веками. Разве что при росте численности населения возрастали и размеры сел. Поселения размещали на берегах рек, поближе к воде. Потомки дулебов и антов по-прежнему жили в основном в полуземлянках глубиной до полуметра, площадью 12–36 м2. В углу располагались печи — на юге каменки, на севере иногда также глинобитные. Наряду с полуземлянками на севере, у живших в лесной полосе дулебов, строились временами и наземные избы-срубы с площадью от 10,5 до 15,8 м2. В них также в углу располагались печи.[1810] При внешней преемственности с прежней эпохой в обществе происходили довольно глубокие изменения. Смешение племен, с одной стороны, и прочная оседлость на старой пашне — с другой, подтачивали устои большой семьи и древнего общинного уклада. С VIII в. на юге восточнославянских земель идет распад большой семьи и патронимической общины.[1811] На смену «роду» идет «мир», община чисто соседская, хотя и спаянная еще совместным трудом. 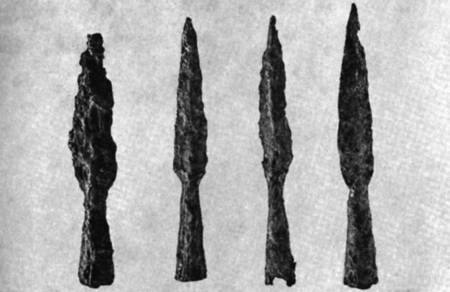 Копья из городища Хотомель Дулебские и антские земли также оказались захвачены общеславянским «поветрием» градостроительства. И здешние князья, укрепляя свою власть над подвластными племенами, возводят для себя крепости, господствующие над округой и в то же время служащие укрытием для ее обитателей. В землях дреговичей возводятся грады Хотомель и Хильчицы, на севере земель лучан, у рубежа полесских топей — град Бабка. Несколько градов построили хорватские князья среди многочисленных сел по Днестру и Сирету.[1812] Град Хотомель построили на месте древнего капища, над неукрепленным селом, которое прилегало к укреплению с юго-востока. Основатель града — Хотимир[1813] — был, как заключаем, «владыкой», верховным жрецом святилища. Обретя военную власть над дреговичами или берзичами, он выстроил стольное место для себя и своей дружины. Хотомель расположен на возвышенности над Горынью, с трех сторон его прикрывали болота. Град представлял собой окольцованный земляным валом овал площадью 120 м2. С запада и востока дугами достраивались потом новые валы. В граде, в наземных домах с глинобитными печами, проживал князь со своими конными дружинниками. Среди находок их оружие — наконечники стрел и копий. Свидетельства богатства дружины — серебряные украшения, найденные на городище. Князь оставался верховным жрецом. В центре городища по-прежнему размещалось капище.[1814] Грады хорватов несколько отличались от Хотомеля, что неудивительно. Расположенное на высоком мысе над Днестром городище Ломачинцы защищала плотная дубовая стена-частокол. Другой мысовой град — Горишни Шеривцы — защищала с поля не только деревянная стена, но и ров подковой, шириной до 10 м. Град этот гораздо больше Хотомеля — 1,2 га.[1815] Добриновское городище на Буковине являлось не только княжеским укреплением, но и важным ремесленным центром. Здесь подле жилых домов располагались 9 мастерских, в которых трудились кузнецы и ювелиры. Своими изделиями они снабжали не только жителей града, но и других соплеменников. Продукция добриновских мастерских расходилась довольно далеко по округе.[1816] Княжеская власть, судя по летописным припоминаниям, передавалась по наследству. Она была закреплена за определенным «родом», который возводил себя к герою-родоначальнику. При этом необязательно власть переходила от отца к сыну — она считалась скорее коллективным достоянием избранного «рода». «Род» и определял из своей среды князя. Князья, как в Хотомеле, все чаще объединяют в одном лице «владычную» и «воеводскую» власти. О том, как строилось управление племенем, позволяет судить летописное предание о дани мечами, уплаченной полянами хазарам. Здесь для нас ценно то, что хранители устной памяти приписывали завоевателям устройство славянского общества. В наиболее ранней, записанной в XI в., версии предания князь выступает как военный предводитель, — держащий, впрочем, в своих руках и сбор дани. Об успехах он докладывает «старцам», родоплеменным старейшинам, а те дают совершенному оценку. Однако князь уже сам созывает старейшин и может проигнорировать их мнение.[1817] Интересно, что в более поздней версии политический строй хазар рисуется иначе, в соответствии с изменившимися условиями самой Руси. В «Повести временных лет» уже хазарские воины докладывают князю и состоящему при нем совету старцев-бояр.[1818] Первая ситуация естественна для славянского общества VIII–IX вв. Именно тогда складывалось первоначальное предание на недавней исторической основе. Описанное же в «Повести временных лет» — для Киевской Руси начала XII в. Основным занятием дулебов и смешавшихся с ними антов оставалось земледелие. На давно распаханных землях юга уже переходили от перелога к двуполью. Наряду с небольшими селениями, чьи жители по-прежнему вынуждены были заниматься подсекой, возникают теперь крупные, постоянные. Их жители отказались от истощающих почву способов ее обработки. Дулебы воспринимали от антов перелог, а местами и двуполье, более совершенные орудия труда. По всему ареалу культуру Луки-Райковецкой отмечены железные орудия пахоты — наральники без плечиков. Наряду с ними появляются и плужные ножи-чересла (Хотомель).[1819] Это уже свидетельство появления плуга, или близких к нему форм сохи. В лесной полосе вместе с тем использовались еще и мотыги. Теперь их лезвие делали из железа. Убирали урожай железными серпами.[1820] Развивалось ремесло. Обработка железа уже с VII в. делала серьезный шаг вперед. Восточнославянские мастера осваивали новые способы получения стали, сварки стали и железа, закалки изделий. В древних антских землях были целые поселки железоделов. 30 железоплавильных печей обнаружены на ремесленном поселении Григоровка в Верхнем Поднестровье. Это расширяющиеся книзу (с 20 до 40 см) ямы на склоне возвышенности. В стенах печей глиной закрепляли сопла. Устья печей, почти квадратные арки, размещались в нижней части ям. Перед ними — рабочие площадки. Внутри печи также обмазывали глиной. Найдены две разновидности печей — одни использовались для обжига-обогащения руды, другие собственно для выплавки железа. Отличаются они конструкцией пода. Печи использовались многократно. Другой ремесленный поселок, VII–VIII вв., с 25 печами, обнаружен в Гайвороне на Южном Буге. Свыше 500 сопел найдено на поселении Бранешты I в Прутско-Днестровском двуречье. Из железа изготовляли ножи, топоры, оружие, орудия земледельческого труда, конскую упряжь, пряжки.[1821] Из цветных металлов делали исключительно украшения — перстни, браслеты, подвески, височные кольца. Ювелирное дело этого времени обогатилось освоением техники зерни и скани. Образцами для славянских мастеров послужили изделия, проникавшие начиная с VIII в. с арабского Востока. В то же время с середины VIII в. распространялись вплоть до Днепра и украшенные зернью изделия славянских мастеров со Среднего Дуная. Они тоже служили образцами — в том числе для распространившихся позднее широко по Восточной Европе лучевых височных колец. Среди находок в Хотомеле, помимо металлических украшений, — стеклянные и пастовые бусы.[1822] Из глины делали лепную посуду, а также биконические пряслица с небольшими отверстиями. Гончарный круг племенам культуры Луки-Райковецкой, даже южным, оставался пока неизвестен. Отличия основного керамического типа Луки-Райковецкой от пражско-корчакского не очень значительны. Это лучше, чем ранее, профилированные сосуды, край которых теперь загибался не вовнутрь, а вовне, наподобие изгиба буквы S. При этом сосуды становились ниже и шире, на них появился простейший орнамент — ямочный, волнистый или линейный, а также узоры по венчику. На юге бытовал, наряду с основным, особый местный тип сосудов, восходящий к пеньковским. Это горшки с округлыми боками, местами проникающие и на север.[1823] Наиболее заметны были различия между отдельными племенами в погребальном обряде. Повсеместно господствует обряд кремации. Общей чертой является возрастание числа индивидуальных и безурновых погребений. Но некоторые племена хоронят своих умерших в грунтовых могильниках, а другие — в курганах. Постепенно курганный обряд начинает преобладать, но только на севере. На юге, у потомков антов, по-прежнему преобладают грунтовые могилы.[1824] У будущих волынян сложился особый курганный тип — курганы типа Головно, по могильнику из четырех курганов на Волыни. Курганы расположены в таких могильниках попарно — большой, а рядом малый. В могильниках по 2–10 насыпей. Большие курганы в высоту 1,5 м, а в диаметре — около 20. Малые — соответственно 0,5 и от 8 до 10 м. Сожжение производилось на месте погребения, причем в одном из больших курганов — в деревянной ограде. В больших курганах находят также камни, и во всех — обломки керамики. [1825] Сосуды — не остатки урн, их разбивали в ходе обряда тризны. Появление таких парных захоронений можно объяснять по-разному. Логичнее всего видеть здесь обряд самоубийства жены по смерти мужа. Племена Дерев хоронили умерших в основном в курганах, но иногда и в грунтовых могильниках. С VIII в. в курганах хоронили лишь одного покойника, как правило, без урны. Сожжение производили обычно на стороне, но иногда и на месте. В этом случае умершего помещали на доски или в деревянную колоду, располагая по линии восток-запад.[1826] Окраинные племена — поляне и обитатели Припятского Полесья — курганный обряд в VIII в. еще не переняли.[1827] 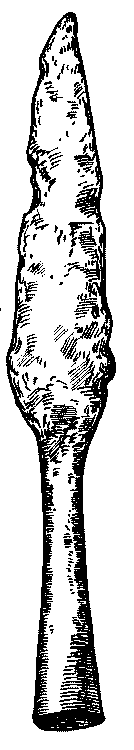 Наконечник копья. Велестинская коллекция Тем более не был он воспринят потомками антов на юге. Лишь редкие курганные могильники в Закарпатье могут быть отнесены к VII–VIII вв. Здесь умерших сжигали на месте вместе с урнами, собирали прах в кучки и насыпали курган. В каждом кургане — по одному захоронению.[1828] Прежние закарпатские обычаи несколько преобразились под дулебским влиянием. Оно шло из волынского Побужья, начиная с переселения на рубеже веков. В целом же и у хорватов преобладали грунтовые погребения. При всех различиях, племена культуры Луки-Райковецкой связывались воедино общностью языка и происхождения. Об иных, кроме погребального, обычаях дулебских племен сообщают средневековые летописи. В их известиях отразилась неприязнь, отделявшая полян от их ближайших западных соседей, древлян. Древляне имели основания считать себя наследниками древних дулебов, тогда как полян — наполовину антами. Это добавляло причин межплеменной вражде, продлившейся до начала XI в.[1829] Но в целом за субъективностью летописцев просматривается действительная разница в обычаях полян и древлян. О других дулебских и антских племенах нет сведений. Но волыняне и дреговичи едва ли сильно отличались от древлян, тогда как потомки антов были ближе к полянам. Согласно Повести временных лет, «древляне жили зверским образом, живя по-скотски, и убивали друг друга, поедая все нечистое, и брака у них не бывало, но умыкали у воды девиц». Итак, у древлян были распространены кровная месть и брак умыканием. Поскольку важным источником пропитания в лесах оставалась охота, им приходилось есть и пищу, которую поляне считали «нечистой». Все это, на взгляд врага, складывалось в «зверскую», «скотскую» жизнь. Сами поляне, по тому же источнику, вели себя совершенно иначе. Они «своих отцов обычай имели тих и кроток, и стыдились снох своих и сестер, матерей и родителей своих, и снохи свекровей и деверей сильно стыдились. И брачный обычай имели — не ходил жених за невестой, но приводили ее вечером, а наутро приносили за ней, что давали».[1830] Итак, у полян господствовали правильно, по мысли летописца, устроенная патриархальная семья (чего, кстати, вряд ли не было у древлян) с уважением, основанном на взаимном стеснении, и чинный брак. При этом нормальной считалась свадьба, при которой от жениха посылали за невестой вечером — древнейший общеславянский обряд. Заметим, что так же чинная свадьба проходила и у западных дулебских соседей. Такая разновидность ритуала распространена позднее на юге восточнославянских земель повсеместно.[1831] Итак, складывается впечатление, что положительные черты древних дулебских и антских обычаев летописец приписал своим соплеменникам-полянам. Тогда как отрицательные — их врагам-древлянам? Могли ли полянам быть вовсе неизвестны те же самые кровная месть и брак умыканием? И имелось ли в обычаях дулебских племен хоть какое-то различие на самом деле? Похоже, у немногочисленных изначально полян рано выработались нормы общинного жития, регулировавшие отношения между «родами». Кровная месть или вполне способное послужить причиной для нее похищение невест оказались если не под запретом, то под контролем общин. Это воспринималось полянами с гордостью, как отличие от все еще «живущих по-скотски» более сильных и многочисленных, да к тому же «чистокровных» дулебских соседей. В остальном же обычаи славян, создавших культуру Луки-Райковецкой, были весьма близки. Отражалась общность и в их внешнем облике. Отличия в нем у разных племен незначительны. Так, волыняне, судя по позднейшим средневековым захоронениям, обладали удлиненной головой, широким лицом, сильно выступающим носом. Это сочетание славянской широколицести с типичными чертами всех европеоидов мы видим и у южных и западных соседей волынян — древлян, уличей, тиверцев. Они, особенно потомки антов, отличались лишь несколько менее вытянутой головой. Значительно отличались — более узким лицом, чуть менее выступающим носом, средних размеров головой — только поляне. Здесь иногда видят сильнее проявлявшуюся в них кровь иранских кочевников.[1832] Не исключено, что это следствие в том числе вторжения с Левобережья в VIII в. племен волынцевской культуры. Именно это вторжение положило начало истории Киева, будущей «матери городов русских». СевераИстория северского Левобережья Днепра в VIII столетии крайне запутанна, даже с учетом богатого археологического материала. Еще в VII в. здесь продолжала существовать антская пеньковская культура в своей поздней, «сахновской» стадии. На севере анты проникали в земли эстиев колочинской культуры, свободно смешиваясь с ними. С «чисто» антской сосуществовала аристократическая «культура ингумаций». Поздние клады с ее «мартыновскими» ценностями обнаруживаются вплоть до Среднего Подесенья.[1833] Затем, однако, пеньковская и колочинская культура сменяются одной и новой — волынцевской. Время этого — один из наиболее сложных вопросов. Появление волынцевских древностей датируется в пределах от начала VII до середины VIII в.[1834] Есть основания полагать, что в VII в., точнее в последних его десятилетиях, волынцевская культура действительно уже складывалась.[1835] К концу своего существования она переходит в новые славянские культуры — роменскую и боршевскую. Роменско-боршевские древности, как ныне установлено, появились к концу VIII в.[1836] 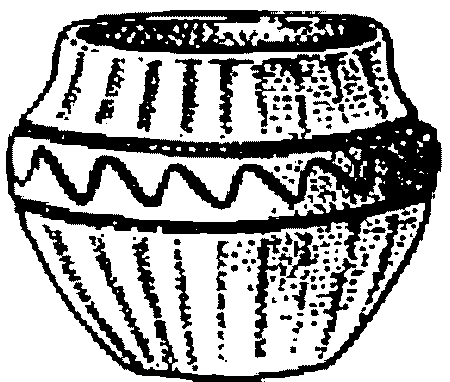 Глиняный сосуд. Волынцевская культура Не менее туманен вопрос о происхождении волынцевской культуры. Можно заключить, что ее возникновение объяснялось вторжением в земли левобережных антов и эстиев новых масс населения с востока. Усиление Хазарии в конце VII в. сдвинуло с насиженных мест многие племена. В волынцевской культуре ощущается влияние именьковской из Среднего Поволжья и особенно алано-болгарской салтовской. «Салтовцы» поддерживали с «волынцевцами» тесные связи, жили среди них. В среде волынцевцев, помимо славянского и балтского, отчетливо ощущаются иранский и тюркский элементы.[1837] Вторжения с востока и с юга не вызвали массового бегства славян и балтов. Местные жители свободно слились с пришельцами. Возникший в итоге племенной союз принял старое славянское имя — севера, северяне. Потомки антов расселялись по всей вновь образовавшейся Северской земле, в том числе и на колочинский дотоле север. Анты в итоге заселили среднее и верхнее течение Десны, верховья Псела, Посемье. Вторжения и переселения, конечно, вели к уходу части жителей, к гибели племенной столицы колочинцев — Колочинского града. Но серия столкновений не вылилась в большую войну и не нанесла большого ущерба Левобережью. Создание единой племенной общности стало следствием скорее компромисса между разноязыкими народами, чем завоевания. К концу VIII в. иранцы, тюрки и балты в Северской земле были почти полностью поглощены славянами. Возникшая тогда на основе волынцевской роменская культура являлась уже типично славянской. Дольше всего сохраняли свою обособленность «салтовцы» — алано-болгарские кочевники. Они в VIII в. жили хотя и рядом со славянами, но в собственных юртах, пользовались собственной гончарной посудой салтово-маяцких типов. Особенно много кочевников проживало в южных, прилегающих к степи селениях.[1838] Расселение на восточнославянских землях в VIII в. выходцев из Степи принесло в славянские языки минимум одно тюркское заимствование. Это исключительно восточнославянское слово *mysъ ‘мыс’.[1839] Итогом происшедшего в VIII в. смешения с балтами стал немного отличающийся от более западных славян внешний облик северян. Это выразилось прежде всего в средней ширине лица при обычной славянской широколицести. Позднее тот же признак обрели и другие расселившиеся в балтских землях славяне — радимичи, дреговичи. Но в целом облик всех их оставался типичен для раннесредневекового славянства.[1840] Поселения волынцевской культуры, как правило, неукрепленные. Среди них выделялись крупные, достигавшие 7,5 га. Более типичен размер Волынцевского селища — 4800 м2. Селились волынцевские общины в низинах, неподалеку от водных источников. В Волынцеве обнаружено 51 жилище. Они не все существовали одновременно, но ясно, что поселение состояло из четырех стихийно разраставшихся групп домов. Строили преимущественно дома столбовой конструкции, а иногда и срубы. Это полуземлянки глубиной до 1,2 м. Редко встречаются землянки до 1,6 м в глубину. Площадь домов колеблется от 12 до 30 м2. Дом покрывала двускатная крыша высотой до 1,2 м. Деревянное перекрытие обмазывали землей и глиной. Лестницу в жилье либо вырезали в земле, либо делали из дерева. В одном из углов располагалась глинобитная печь. Чаще всего печи вырезаны прямо в глиняном останце. Совсем редко встречаются печи-подбои. Иногда — неславянское наследие — печь располагалась в центре жилища. Прямо в жилищах устраивали хозяйственные ямы-хранилища. Но другие хозяйственные ямы и деревянные постройки располагались на площади поселения.[1841] Судя по этим данным, распад большой семьи у волынцевцев еще далеко не завершился. Так, четыре группы домов на селище Волынцево принадлежат именно большим семьям, объединенным в соседскую общину, «мир». Но именно «мир» должен был преобладать у изначально разноязыкой, сложившейся из многих племен северы над «родом», патронимией. Каждая из больших семей вела свое хозяйство. Более того, и внутри больших семей уже начиналось деление. Большая семья, расселенная в нескольких домах, распадалась на малые, с собственными запасами и орудиями труда. Верховодила в волынцевском обществе военная знать, потомки создателей «культуры ингумаций». Теперь они слились с пришельцами из Степи, восприняв отдельные черты их культуры и передав им свои. Со временем, когда в культуре Волынцева усилится славянское начало, «волынцевская» составляющая останется на какое-то время этой дружинной прослойке. Памятник ее богатства — продолжающий традиции Мартынова Харивский клад на Средней Десне. Закопан он в горшке волынцевского типа. Включает клад многочисленные украшения антских образцов, в том числе из серебра и даже золота.[1842] Своеобразной столицей волынцевских племен стал Битицкий град — занятое славянами и сселившимися к ним кочевниками городище скифской эпохи. Оно расположено на высоком мысе у Псела, господствуя над славянскими селами. Население Битицы и укрепленного позднее Опошнянского городища долго оставалось смешанным. Только здесь наряду с печами обнаружены и открытые очаги. В Битице рядом со славянскими домами располагались большие округлые юрты алано-болгар. Битица — древнейшее и долгое время единственное славянское укрепленное поселение в Северской земле. Это был центр власти местной и сливающейся с ней пришлой знати над окрестными земледельцами.[1843] Волынцевцы благодаря общению с кочевниками превзошли других северных славян в военном деле. Это ощущается в воинском облачении. Северские дружинники VIII в. одевались в кольчуги, пользовались окованными железом щитами. Но оружейный набор и у них ограничен стрелами и копьями.[1844] Основным занятием волынцевцев, как и других славян, являлось земледелие. Судя по появлению больших поселений, речь уже не шла только о подсеке и перелоге. Десятилетиями обрабатывались одни и те же, давно распаханные участки. Севера в VIII в., как и юго-восточные соседи, переходит к двуполью. Кругооборот озимых и яровых подтверждается и анализом находок пшеницы. Северяне выращивали просо, пшеницу, рожь, полбу, а помимо злаков — горох и коноплю. Из орудий земледельческого труда для вспашки поля использовалось рало с широколопастным или узколопастным железным наральником, для уборки — серпы и косы. Наряду с земледелием, развивалось и скотоводство, в основном разведение крупного рогатого скота. Но попадались и редкие для славянского мира животные, приведенные из Степи — скажем, верблюд. Охота и рыболовство играли вспомогательную, хотя и существенную роль — на долю домашних животных приходится около 80 % найденных на поселениях костей. Наконец, для добычи меда и воска разводили пчел.[1845] Подобно своим западным заднепровским соседям, совершенствовали свои навыки волынцевские ремесленники. В Битице обнаружены орудия обработки железа, в Волынцеве — сыродутный горн. Волынцевские мастера применяли развитые технологии цементации железа, вваривали в него стальные полосы. В работе они использовали кричное железо. Из железа изготавливали орудия земледельческого труда, оружие и доспехи, топоры, ножи, шилья, пряжки, бритвы, пинцеты.[1846] На волынцевских памятниках найдены и следы труда ювелиров, мастеров по цветному металлу — тигли, льячки, инструменты. Изделия волынцевских ювелиров наследует богатым традициям антской мартыновской школы. Это фибулы и бляшки, которым придается сходство с человеческой фигурой, височные кольца из проволоки, браслеты, перстни, бубенчики, серьги, браслеты, цепи, гривны. Знать по-прежнему ценила богатые поясные наборы. Ювелиры работали как с бронзой, так и с драгоценными металлами — золотом и серебром. Завозили стеклянные бусы.[1847] Следами швейного и прядильного домашних промыслов являются костяные проколки и шилья, глиняные пряслица.[1848] Волынцевцы подхватили эстафету исчезнувшей вместе с Пастырским пастырской керамики, освоив гончарный круг. Однако волынцевская гончарная посуда не укоренилась в славянской культуре. Гончарами оставались потомки пришедших из Степи алано-болгарских мастеров. Когда они слились со славянами, гончарство оказалось на время забыто. До 90 % волынцевской керамики — лепная. Гончарные волынцевские сосуды делались по образцу салтовских, хотя испытали и иные влияния.[1849] Центр производства гончарной керамики находился в районе современной Полтавы, в Тарановом Яре и поблизости. Отсюда эта ценная, «престижная» ремесленная продукция расходилась по всему волынцевскому ареалу. Главный керамический тип — горшки с выпуклыми плечиками, над которыми вертикально встает высокий венчик. Низ имеет форму усеченного конуса. Поверхность, как и у салтовских гончаров — черная или темно-коричневая. Сосуды покрыты лощеным или прочерченным орнаментом в виде вертикальных линий и перекрестий. На гончарном круге изготовляли также круглодонные миски.[1850] Имеются и лепные подражания гончарным горшкам и мискам. Они достаточно высоки по качеству, изготавливались из отмученной глины с примесью песка или шамота. По форме они точно следуют оригиналу.[1851] Такие сосуды изготавливали славянские и балтские мастера в подражание мастерам-пришельцам. Логично сделать вывод, что те бережно хранили тайны своего ремесла. Подражатели же могли трудиться как на заказ, вольно или невольно сбивая цену на редкий товар, так и ради семейного престижа. Обладание гончарной посудой являлось с антских времен таким же признаком достатка, как и «мартыновские» ценности. Третий тип керамики — непосредственный предок славянской керамики роменской эпохи. Это довольно грубые в сравнении с высококачественными подражаниями лепные горшки и сковородки с шероховатой поверхностью, из глины с примесью крупного шамота. Эта посуда испытала влияние форм волынцевской, но по технике продолжает прежние антские и балтские традиции. Постепенно этот простейший, массовый тип становится и господствующим. [1852] Помимо названных основных типов посуды волынцевские мастера делали также кружки.[1853] Тесное общение со степными народами, включившимися уже в черноморскую и волжскую торговлю, вело к развитию торговли и в северских землях. Основными партнерами при этом оставались «салтовцы». Из их земель или через их посредство распространялись довольно далеко на север двуручные амфоры из красно-оранжевой глины, кувшины, раковины каури, различные украшения.[1854] О духовной культуре северян VIII в. мы можем судить, как и у других восточных славян, по археологическим находкам и летописным описаниям «обычаев». На поселениях найдены отдельные обереги — костяные амулеты. С религиозными представлениями связаны и фигурные украшения «мартыновских» образцов.[1855] Волынцевские капища неизвестны, что вполне объяснимо долгим отсутствием общего культа у постепенно сливающихся друг с другом племен. Тем не менее у волынцевцев на протяжении VIII в. распространился общий погребальный обряд. Он сочетал местные, балтские и славянские, и привнесенные элементы. Тела умерших после торжественной тризны сжигали. По словам Нестора, «если кто умирал, творили тризну над ним, а потом творили кладку великую, и возлагали на кладку мертвеца, и сжигали». Очищенные от золы и угля пережженные кости ссыпали в урны — в «сосуд малый». Покойных сжигали в одежде, с убором, и уцелевшие украшения затем также клали в урну. Среди находок в могильниках — бронзовые браслеты, стеклянные и пастовые бусы. Местом для захоронения служила слегка углубленная площадка, специально для этого расчищавшаяся. Один сосуд от погребальной трапезы часто оставляли рядом с урной, в подарок ушедшему. По завершении обряда углубление с урной прикрывалось дерном. На памяти Нестора вятичи и их сородичи погребали прах уже чуть иначе — но основные элементы ритуала остались неизменными.[1856]  Танец славян. Радзивиловская летопись Остальные обычаи северы, вятичей и радимичей киевский летописец охарактеризовал так: «жили в лесу, как всякий зверь, поедая все нечистое, и срамословие у них пред отцами и пред снохами, и браков не бывало у них, но игрища между селами. Сходились на игрища, на пляски и на все бесовские песни, и тут умыкали жен себе, кто с кем договорился; имели же и по две и по три жены».[1857] Жизнь в лесах и добыча в них пропитания здесь также поражает уроженца киевских Полей. «Срамословие» упоминается явно в противовес полянскому «стыду». Может, у жителей левобережья и впрямь нравы были свободнее? Скорее уж, такое впечатление производила на чужака обычная повседневность сохранявшейся у них большой семьи. В ней, разумеется, не обходилось без конфликтов, которых поляне со своей малой семьей чаще избегали. Интереснее всего подробное описание летних «игрищ», сопровождавшихся плясками и обрядовыми песнями в честь языческих богов. Завершались они «похищением» невест по предварительному сговору. Превращение умыкания в игровую форму чинной свадьбы, как и распространение многоженство, можно вполне приписать кочевническому влиянию. У кочевых тюркских народов и игровые «похищения» широко известны, и многоженство в древности было достаточно распространено, в самых разных общественных слоях. Писавший в начале XIII в. и лично сталкивавшийся с языческими обычаями вятичей летописец Переславля Суздальского расширяет повествование киевского предшественника. Он несколько уточняет, как именно происходил сговор во время игрищ: «по пляске понимали, какая жена или девица до молодых похоть имеет, и по взору очей, и по обнажению мышц, и по показу перстней на руках, и от надевания перстней в дар на персты чужие, а там, потом, и целование с лобзанием». Едва ли увод чужих жен на игрищах поощрялся, но в принципе он был возможен — как допускало славянское право развод. С другой стороны, именно по этой причине умыкание могло кончиться для невесты и немедленным «посмеянием до смерти» — если жених оказывался разочарован. Ради привлечения мужского внимания женщины Левобережья «червили лицо и белилами терли».[1858] Из Повести временных лет явствует, что отношение полян к левобережной севере, с которой они соседствовали издревле, мало отличалось от отношения к древлянам. Если древляне являлись опасными и кичливыми сородичами по дулебской линии, то севера — по антской. Расселение полян на северо-восток за Днепр, в низовья Десны, вплотную сталкивало их с восточными соседями. Но, тем не менее, именно пришельцы с Левобережья, — о чем в средние века предпочитали умалчивать, — сыграли ключевую роль в основании столицы Полей, Киева. Основание КиеваЗа Днепр волынцевские племена вторглись уже в начале своей истории.[1859] Это не было массовое переселение — большинство жителей киевской округи сохранило свою культуру. Волынцевцы постепенно растворились в их среде. Однако с этого времени полянское Поднепровье стало перекрестком между западными и восточными культурами. Здесь шедшие справа и слева от Днепра культурные явления встречались и переплетались. Вторжение волынцевцев и основание ими своих поселений не могло не иметь связи с политической жизнью полян. Пришельцы являлись завоевателями, боровшимися за обладание антским наследством. Их возглавляла имеющая на это наследство определенные права дружинная знать. К наследству погибшего антского союза с очевидностью относились и Поля, захваченные недавно «культурой ингумаций». Тем не менее пришлые отряды воинов и поселенцев, чтобы закрепиться на новых местах, вынуждены были идти на компромисс с местным населением. Полю же, в свою очередь, требовалась защита и от Степи, и от западных Дерев. Результатом договоренностей стало создание единого полянского племенного союза-«княжения» — и основание его стольного града, Киева. Основание постоянного укрепления на Старокиевской горе датируется именно VIII столетием.[1860] Предание об основании Киева сохранилось в двух основных летописных версиях. Основа его по сравнению со сказанием, которое записал в XI в. Начальный летописец, не изменилась. Но Нестор в начале XII в. внес некоторые дополнения. Отдельные обрывки предания продолжали бытовать и временами записываться в Киевском Поднепровье до нового времени. Начальный летописец начинает свое повествование со слов: «Как древле был царь Рим и во имя его город Рим; и еще Антиох, и была Антиохия Великая; и еще Селевк, и была Селевкия; и еще Александр и была во имя его Александрия; ибо в немногих местах так прозваны были грады во имена царей тех и князей тех: так же и в нашей стране зван был град великий Киев во имя Кия, его же называют будто бы перевозчиком; иные же, что ловы творил около города своего».[1861] Вторая версия вовсе не противоречит княжескому достоинству. Летописец имеет в виду распространенный у славян сюжет о князе или боярине, находящем место для города во время охоты. Чуть ниже летопись вкратце излагает предание об основании Киева. При этом летописец, явно условно, датирует события 854 г., исходя из своих представлений о призвании Рюрика и «начале Русской земли». Итак, история основания Киева в Начальной летописи следующая: «Жили каждый с родом своим, на своих местах и сторонах, владея каждый родом своим. И были три брата: одному имя Кий (Кый), второму же имя Щек, третьему же имя Хорив, а сестра их Лыбедь. И сел Кий на горе, где ныне увоз Боричев, и был с родом своим. А брат его Щек на другой горе, от него же прозвалась Щековица. А третий Хорив, от него же прозвалась Хоривица. И сотворили градок во имя брата своего старшего и нарекли имя Киев (Кыев). И был около них лес и бор великий, и ловили зверя. И были мужи мудрые и смышленые, нареклись поляне, и до сего дня по ним же кияне — поляне; были же поганые, жертвуя озерам и источникам, и рощам, как прочие поганые».[1862] Итак, здесь впервые появляются братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь — основатели Киева. С каждым из них связывается одно из местных названий киевской округи. С Лыбедью, о чем летопись хранит молчание — река Лыбедь. Игнорирование предания о Лыбеди летописцем найдет еще свое объяснение. Пока обратимся к тому, что он проговорил, а не замолчал. Старший Кий «был с родом своим», тогда как братья основали отдельные выселки — частое явление при земледельческой колонизации. Как центр своего рода братья основывают поблизости от двора Кия, на Старокиевской горе, куда в X в. вел с реки Боричев увоз, небольшой «градок». Он и получил название Киев. Разрозненные дотоле роды объединились вокруг него и получили от них общее имя «поляне», но также и «кияне» — киевляне, «люди Кия». Вновь упоминается и княжеская охота в «лесу и бору великом» около града, важная составная часть древнеславянского гощенья. При всей своей «мудрости» братья оставались язычниками. Летописец подчеркивает это в поучение современникам, которые, разделяя суеверия предков, нередко уступали им в доблести. Нестор сразу же поправляет своего предшественника: «Поляне жили особо по горам сим, ведь и до сих братьев были поляне…»[1863] Итак, название «поляне», как выясняется, появилось еще до Кия. Лишь название «кияне» появилось со времен Кия, как подчеркивает летописец далее, меняя смысл фразы своего источника — «от них поляне — кияне и до сего дня».[1864] Наиболее существенное дополнение в Повести следующее: «Иные же, не ведущие, говорят, что Кий перевозчиком был. У Киева ведь был перевоз тогда с той стороны Днепра. Оттого говорили: «на перевоз на Киев». Но ведь если бы Кий перевозчик был, то не ходил бы ко Царюгороду. Но сей Кий княжил в роде своем, и приходил он к царю неведомому, но о том только ведаем, как сказывают, что великую честь приял от царя, которого не ведаем и при котором приходил царе. Когда же шел он назад, пришел к Дунаю, и возлюбил место, и срубил городок малый, и хотел сесть с родом своим, и не дали ему там близ живущие. Оттого и доныне называют дунайцы городище Киевец».[1865] Итак, летописец представляет версию о перевозчике подробнее — с тем, чтобы с большим основанием ее опровергнуть. Сведения о балканских деяниях Кия заимствованы из устного предания, чем и объясняется отсутствие информации о личности «царя». На предание («сказывают») летописец и прямо ссылается. Интересно при этом, что слог повествования прямо указывает на характер устного источника. Перед нами местами ритмическая речь, напоминающая метр «Слова о полку Игореве» и других ритмизованных фрагментов летописи[1866]. Если она перебивается, то комментариями самого летописца. Но при этом ритм источника передался и собственной его речи, что можно видеть в начале рассказа («Аще бо бы перевозникъ Кии/ то не бы ходилъ ко Царюгороду»). Итак, перед нами, скорее всего, единственный след давно утерянной полянской эпической песни о Кие.[1867] К сути же этого рассказа мы еще вернемся. Как и все предания о происхождении славянских государств, сказание о Кие и его роде имеет два пласта — мифологический и исторический. Вернее, двумя пластами они представляются нам, тогда как для древнего славянина-язычника пребывали в неразрывном единстве. И трудно сказать, что именно следует считать основой, а что — «напластованием». К последней четверти XI в., во всяком случае, предание уже бытовало в приведенном виде. Тем не менее, что все-таки в предании о Кие мифологического? Прежде всего, само имя главного героя. Оно восходит к индоевропейскому еще обозначению божественного кузнеца, победителя Змея.[1868] Предания о «божьем ковале» или двух братьях-«ковалях», победивших Змея, создателях Змиевых или Трояновых валов, еще в новое время неоднократно записывались в Среднем Поднепровье.[1869] Это — вариант общеславянского мифа о божественном кузнеце Свароге, победителе Змея Трояна, родоначальнике власти славянских князей. Итак, полянский Кий — очередная ипостась этого божества-первопредка. Причем сохранившая одно из его первоначальных мифологических имен. Полянский и северский миф о Ковале совпадает в основном с волынским, привязанным к имени тамошнего легендарного князя Радара. Согласно преданиям Поднепровья, Коваль — победитель чудовищного Змея. Змей нападал на земли, в которых поселился Коваль, разорял их, пожирал людей. Коваль выстроил себе огромную каменную кузницу за тремя железными дверями и в ней выковал первый, исполинский плуг с железным лемехом. Когда Змей снова прилетел за добычей, кузнец увлек его в погоню за собой, заманил к кузне и посулил — если тот языком пролижет насквозь все железные двери, позволить съесть себя. Змей поддался на уловку и, пролизав насквозь три заслона, проник в кузню языком. Коваль этого и ждал. Он схватил змеиный язык клещами и бил Змея по голове многопудовым молотом, пока сбежавшиеся люди впрягали схваченное чудовище в соху. Наконец, Змей был обуздан и сдался. Коваль велел ему пропахать межу до моря — между землями славянского народа и вражеским, «змеиным» краем. Змей вынужден был покориться, а Коваль сам пошел за плугом. Так славянская земля оказалась отделена от вражеской глубокой рекой, а по ее берегам воздвиглись высокие валы, след богатырской пахоты Божьего Коваля. Это Змиевы валы по берегам Днепра, на границе со степью. У устья Днепра Змей лопнул, напившись морской воды. В древности Змиевы валы звались Трояновыми. Значит, Змей, враг Сварога, — трехголовый бог преисподней Троян, известный восточным и южным славянам. Мифологические предания о Ковале бытовали еще в XIX в., в том числе и в самих окрестностях Киева. Должны были рассказывать о битве Кия со Змеем-Трояном и в Средние века. Тем не менее в летописях этот чисто мифологический «пласт» предания о Кие отражения не нашел. Неудивительно — в пору ожесточенной борьбы с пережитками язычества он казался неуместным. Да летописцы, в отличие от «двоеверов», и не верили ни в Сварога, ни в Трояна, ни в других древних богов. Кий для них имел смысл лишь как исторический основатель Киева, а не как мифический герой. Тем более что тогда вряд ли забылось изначальное тождество основоположника княжеской власти, кузнеца-«создателя молний» Кия-Сварога с верховным богом Перуном. А Трояна — с его противником, богом-змеем Велесом. Ни тому, ни другому места в реальной истории после крещения Руси не осталось. Христианский летописец переосмысливал доставшуюся традицию с точки зрения разумной достоверности. Приводило это к двойственному результату. С одной стороны, из языческого предания вычленялась «историческая» основа. С другой — это производилось просто за счет отсева «мифологического». Путь к рациональному научному знанию прокладывался за века до постижения его метода. По тем же мотивам «недостоверности» с научной христианской точки зрения осталось за пределами летописного текста предание о Лыбеди. В летописях она выглядит лишней. Для любого киевлянина вполне естественно, что с ее именем связано название реки Лыбедь. Но летописцы этого почему-то не отметили и вообще никак не прояснили роль Лыбеди в повествовании. Между тем Лыбедь дольше других персонажей сохранялась в народной памяти. В записанном в XIX в. предании она — киевская княжна, живущая на Девич-горе. Лыбедь будто бы протекла от ее слез, пролитых, когда отвергавшая женихов красавица была вынуждена доживать свои дни в одиночестве.[1870] Если позднее предание сохранило черты более древнего, то монастырский летописец мог по самым разным причинам не дать ему места в истории. К присущему «варварским» преданиям и неудивительному элементу «балладности» добавлялись совершенная бесполезность сюжета для «большой» истории и вопиющая даже для средневековья недостоверность. Лучшим выходом летописец счел умолчание, даже не упомянув о проживании Лыбеди на Девич-горе. Вообще-то, лаконичное указание «а сестра их Лыбедь» можно рассматривать и как отсылку к неприглянувшемуся летописцу, но известному его современникам сюжету.  Кий, Щек и Хорив в Радзивиловской летописи Именно с Лыбеди уместно начать анализ «исторической» составляющей в предании. Этот персонаж, казалось бы, не имеет ничего общего с реальной историей. Сюжет, связанный с нею, совершенно мифичен. Летописец не нашел ничего, что могло бы связать Лыбедь с историческим «фактом». Современная наука — тоже. Совпадение имени с названием происшедшей якобы от него реки наводит на простейшую мысль. Не имя реки происходит от личного имени, а наоборот. Соответственно, то же следует сказать о Щеке и Хориве. Но происхождение названия реки «Лыбедь» неясно. В последние десятилетия выдвинута и обоснована убедительная версия. Название реки происходит от личного женского имени «Улыба».[1871] Итак — совершенно неожиданно — наименее исторический персонаж предания обретает исторический прототип. Еще больше оснований искать такой прототип — или прототипы — для самого Кия. Как бы то ни было, древнерусское название «Киев/Кыевъ-град» действительно означает «город Кыя/Кия». Пришедшее из древних мифов имя «Кий» могло стать титулом возводящих себя к мифологическому герою полянских вождей. Такие родовые титулы — Мусок, Крак — славянам известны. Они полностью заменяли личные имена. Полянский племенной союз сложился на основе двух племенных групп — пришлой с запада, словен-дулебов, и местной, антов. Наследие тех и других сохранялось еще в раннее средневековье Руси.[1872] Основание же укрепленного «града» Киева связано с вторжением «волынцевских» племен Левобережья. В результате племенных групп стало три — дулебы, анты, включая пришлую северу, и пришедшие вместе с ней кочевники. Присутствие «салтовцев» в Киеве VIII в. сомнений не вызывает.[1873] Власть в таком племенном объединении могла быть триальной. Каждому из соправительствующих «родов» соответствовал особый племенной компонент союза. Являлись ли исторические прообразы Кия, Щека и Хорива «братьями» в буквальном смысле, изначально? В любом случае они стали таковыми, основав общий град и создав единый полянский племенной союз. Позднее, как свидетельствуют летописи, этим союзом совместно правили их «роды». Тройственное соправительство сохранялось до IX в. включительно.[1874] Оно и составляло суть заключенного при вторжении северы договора. Кий в этом раскладе — вождь вторжения, северский ант. Именно в этом смысле он оказывается «перевозчиком» «с той стороны Днепра».[1875] «Киев перевоз» — не унижение достоинства полянского князя, как полагал летописец XII в., а память о переправе его и его людей. Спустя века, в XVII столетии, в киевской округе еще вспоминали, что Кий пришел «из диких полей».[1876] Именно от антов распространялся миф о Кие-Свароге и связанные с ним представления о княжеской власти. Волынцевская аристократия, в жилах которой текла и антская кровь, восстановила их в новом «княжении» на Левобережье. Ее предводители, подобно хорватским князьям в Чехии и Польше, приняли в качестве титула одно из имен бога-родоначальника. Верховные князья Киева считались земными проявлениями или потомками божества. Что касается братьев Кия, то они соотносятся с дулебской и кочевой составляющими союза. На Щекавице с VIII в. существовал двор или поселение — как и на других Киевских горах, Киселевке и Детинке.[1877] Из них Киселевка (Замковая), на коей прежде размещался антский град, стоит ближе к Старокиевской и могла бы быть Хоривицей. Вопрос о происхождении названия «Хоривица» неоднозначен. Оно явно неславянское. В нем трудно не увидеть отражение имени ветхозаветной горы Хорив. Тогда это след присутствия в Киеве хазар.[1878] Около 730 г. часть хазарской знати приняла иудаизм, положив начало обращению соплеменников. При этом ранее хазары склонялись к христианству — так что были знакомы с библейской образностью и до иудейских наставников.[1879] Итак, название происходит прямо от библейской горы, а «Хорив» — производное от него, славянское прозвище севшего на горе хазарского предводителя. Пришедший с Кием «брат» Хорив возглавлял кочевников. Ославянившийся «род Хорива» правил в Киеве вместе с двумя другими «родами». Его чужеродное происхождение — как и корень названия — забылись. Ни о каком постоянном присутствии хазар-иудеев в Киеве говорить в тот век не приходится.[1880] Менее вероятно видеть в Хоривице Лысую гору, Юрковицу, на которой размещалось древнейшее киевское капище («Лысая» гора — значит «священная»).[1881] Разве что славяне-язычники устроили капище на Хоривице намеренно, из очистительных соображений. Любопытно, что и Лысая, тем не менее, оказывается связана с хазарским «иудейским» началом в Древнем Киеве. В Х в. на ней размещалась приречная крепость Самватас,[1882] чье название происходит от легендарной реки Самбатион. За этой рекой на краю света будто бы обитали «потерянные» десять колен Израиля.[1883] Таковыми жившие к востоку от Днепра новообращенные хазары мнили самих себя. Название «Самватас», однако, как и сам град на Лысой горе, контролировавший пристань-зимовку на речке Почайне, появляется много позднее Киева. Стремление хазар к «Самбатиону» имело как религиозные, так и осязаемые экономические причины. С одной стороны, вдохновляемые обращавшими их дагестанскими иудеями кочевники стремились навстречу своей потерянной «родне» — западноевропейским и балканским евреям. С другой стороны, уже в IX в. через Поднепровье прошел торговый путь, связавший поволжское и кавказское еврейство с западными сородичами. Он сыграл немалую роль в экономическом развитии Хазарии и соседних земель. Поиски в этом направлении могли вестись уже с VIII столетия. Как раз в середине VIII в. наладились связи полянской земли с аварским Средним Подунавьем или славянской Моравией. Что касается Лысой Горы, то ассоциации с киевским Капищем, на месте которого был воздвигнут в Х в. Самватас, оказываются гораздо убедительнее поисков здесь Хоривицы. На священной для язычников, «Лысой» горе в позднем средневековье помещали — наверное, не без оснований, — место шабаша ведьм. Не являлось ли не оставившее заметных следов, погибшее к началу Х в. Капище местом поклонения Матери-Земле? Тогда святилище ведьм на Лысой горе вступает в своеобразную перекличку с двором Лыбеди на Девич-горе. Лыбедь-Улыба, как мы помним, упорно отказывалась от замужества. Так и должна себя вести ведьма, жрица женского божества. Не есть ли это еще один след сопротивления ведьм наступающему на них патриархальному порядку? После Кия и Хорива Щеку «остаются» только поляне-дулебы. Имя его с наибольшей вероятностью происходит от примыкающей к Старокиевской горы — Щекавицы. Название этой горы славянское и вполне прозрачное. Но появилось оно именно тогда, когда возник главный град на Старокиевской. На Щекавице стоял двор вождя местных дулебов, заключившего союз с пришельцами. Если же мы хотим видеть «братьев» пришедшими вместе «из диких полей» «той стороны», то возможен иной вариант. Один из вожаков вторжения, славянин, вступил в свойство с местной знатью и взялся представлять ее интересы перед своими соплеменниками. Так или иначе, Щек соотносится с дулебским началом в союзе. Имя его, кстати, тоже может оказаться вполне реальным прозвищем исторического лица. Как Щекавица располагалась обок древнейшего Киева, так и ее правитель стоял обок верховного князя Полей, Кия. Начальный летописец рисует картину объединения ранее разрозненных «родов» вокруг построенного племенного центра в единую общность — полянский союз. Из его слов следует, что киевлян именовали «полянами» еще во второй половине XI в. Происхождение самого имени «поляне» он связывает с Кием и «братьями». Позднее это опровергает Нестор, подтверждая, впрочем, сам факт объединения. Действительно, название «поляне» должно быть старше Киева. Но повествованию Начальной летописи нельзя отказать во внутренней логике — происхождение общего имени связывается со сложением единства вокруг общего центра — Киева. Здесь мы видим отдаленные следы древнего предания об объединении вокруг нового града пришельцев и аборигенов под общим отныне самоназванием. Повесть временных лет содержит, как мы помним, важное дополнение к первому сказанию, причем почерпнутое напрямую из народного песенного эпоса. Речь — о походе Кия на Балканы при неведомом, разумеется, сказителям «царе». Ясно, что здесь следует искать «исторические», а не «мифологические» основания. Ведь действие разворачивается во вполне реальном, а не условном, историческом пространстве. Но пространство ли это событий VIII столетия? «Киевец» на Дунае — крепость Киос, основанная еще в римское время. В VI в. появление представителей антской и словенской знати на императорской службе было нередким явлением.[1884] Таких кратковременных и ни в чем не преуспевших «союзников» у Византии вообще было немало. Но мы едва ли вправе прямо отождествлять легендарного основателя Киева с известными из источников VI в. фигурами. Да и вообще искать ему прямые соответствия. Тем более если возникновение средневекового города относится к VIII в. Имя Кия лишь внесли в эпическую песнь, отражающую гораздо более ранние события. Так в Новгородской земле в былинный эпос о далеких южных походах позднее попало имя местного легендарного родоначальника Волха. На этом этапе былина отражает уже не событие, а некое явление из прошлого — будь то набег на богатых южных соседей или служба им. Историческую основу содержит и предание о Божьем Ковале. Его распространение не ограничивается Киевщиной. Сказания о победе кузнеца (иногда — швеца или кожемяки) над Змеем и богатырской пахоте широко разошлись и по Среднему Поднепровью, по северскому Левобережью. Здесь с победой богатыря связывают местные, иногда небольшие, водоемы и валы.[1885] Эти предания, рассеянные по «волынцевской» территории на северо-востоке современной Украины, отражают распространение власти полянских «киев» на восток. Объясняют они и причину такого их усиления — совместную борьбу против кочевников, с каковыми неизбежно ассоциировался у славян мифический Змей-разоритель, налетающий из Степи. Именно для борьбы с кочевниками использовались древние валы, начало которым положено еще в скифскую эпоху. Первоначально волынцевские племена вынужденно признавали зависимость от воздвигшегося в Степи Хазарского каганата. Хазары селились в Левобережье, да и алано-болгарские «салтовцы» подчинились кагану. Без союза с каганатом невозможно было бы расселение волынцевских племен на восток, к Северскому Донцу и Дону. А осевшие на Дону волынцевцы, как увидим далее, уже точно являлись союзниками и данниками каганата. Однако по мере усиления славянского начала зависимость от чуждой Степи становилась все более тягостной. Тем более, что Хазарию уже в VIII в. потрясло несколько кризисов. Арабы добивались от беспокоивших их набегами хазар принятия ислама — и однажды даже смогли его навязать. Но сами хазарские каганы и особенно их военные соправители-беки склонялись к иудаизму. Столь неожиданный, на первый взгляд, выбор позволял утвердить свою независимость и от Халифата, и от Византии. Принятие иудаизма, свершившееся в два приема на протяжении VIII в., способствовало расцвету городской жизни и торговли в центрах каганата. Но оно же привело к безнадежному отрыву правящей верхушки от разноплеменной кочевой массы. Неудивительно, что славяне пользовались военными поражениями и внутренними неурядицами в каганате. Центром борьбы стал Киев, отделенный от Хазарии Днепром и наиболее от нее независимый. Если хазары, знакомые с иудаизмом («род Хорива»), и поселились в Киеве изначально, то позднее они растворились в местной среде, забыв едва воспринятую чужую веру. Теперь влияние Киева противостояло влиянию Хазарии, и Левобережье тяготело за Днепр. Кочевников, предпочитавших власть кагана, вытесняют из Северской земли. Для борьбы с ними укрепляют и расширяют древние валы. Тем не менее временно отброшенные хазары затем с новыми силами обрушились на славян. Претензии на дань с Поднепровья никуда не делись. В борьбе против хазар киевские «кии» пытались создать большой союз славянских племен, не ограниченный только волынцевским ареалом. Насколько оно удалось, судить невозможно. Но в летописи сохранилась память о некоем «золотом веке», когда славянские племена еще не воевали друг с другом. «И жили в мире, — сказано в Повести временных лет, — поляне, и древляне, и север, и радимичи, и вятичи, и хорваты». Эта несколько идеализированная картина содружества славян перед лицом внешней угрозы являлась весьма актуальной для Руси рубежа XI–XII вв. Едва ли она точно отражает реальность.[1886] Но стремление к единству между потомками дулебов и антов перед лицом хазарской угрозы, конечно, существовало. Освобождение от хазар сопровождалось новыми передвижениями славянского населения. На восток от Днепра хлынул поток переселенцев-«дулебов» культуры Луки-Райковецкой. В результате численность славянского населения Левобережья резко возросла. В Нижнем Подесенье поляне стали основными жителями. Дальше на восток, северянам и их сородичам, правобережные переселенцы принесли общее имя славян, «словене», и некоторые черты своей культуры. Кочевники либо смешивались со славянами, либо выдавливались обратно в Степь. Для борьбы с ними строились местными князьями — тоже «киями», «ковалями», потомками Кия-Сварога, — многочисленные грады. Приметы степной культуры, включая волынцевское гончарство, быстро стирались. В результате к концу VIII в. на Левобережье сложилась новая культура славян-северян — роменская. Сначала она сосуществовала с волынцевской, вытесняя ее. Для этой культуры уже характерна исключительно лепная керамика, лишь отчасти восходящая к волынцевской. В Среднем Поднепровье роменская культура встречалась и сливалась с «дулебской», полагая начало культуре Южной Руси.[1887] Борьба с хазарами побуждала искать иные связи во внешнем мире. В VIII в. наладились сношения полянского Среднего Поднепровья с византийским Крымом. Оттуда проникали ценные товары. Например, не изготовлявшиеся пока самими славянами мечи, о которых говорится в упомянутом ранее предании о хазарской дани. Но далеко не одни товары приходили с Черного моря, «из Грек». Издавна по Днепру до полянской земли, а то и выше, поднимались проповедники христианства. Пусть даже проповедь пока оставалась безуспешной, и поляне, как замечал Начальный летописец, оставались «погаными». В начале XII в., по Повести временных лет, бытовало предание о том, что еще апостол Андрей, прибыв по Днепру из Херсона, установил крест на Киевских горах, а затем прошел в глубь славянских земель.[1888] В греческих житиях и деяниях апостола подобных сведений нет. Но как бы то ни было, Херсон действительно являлся важным центром культурных и экономических контактов восточных славян с Византией. Доходившие из Крыма до Киева ромейские проповедники и купцы делали такую связь регулярной. Создавался южный участок будущего великого пути «из Варяг в Греки», пока лишь «из Грек по Днепру» — пути как торгового, так и культурного. Расселение на востокПервоначальное подчинение волынцевцев Хазарскому каганату открыло им дорогу к расселению на восток. Причем едва ли это расселение всегда носило добровольный характер. Каганы нуждались в увеличении земледельческого населения и, подобно другим тюркским правителям, выселяли в свои земли подвластные племена. Переселения эти происходили на самой заре волынцевской культуры, когда смешение разноплеменных пришельцев с антами только началось. К концу первой трети VIII в. волынцевские поселения появились и в верховьях Северского Донца, и на верхнем Дону.[1889] 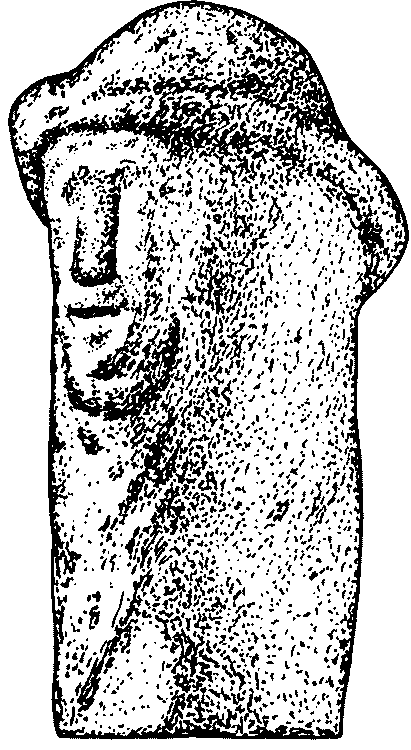 Восточнославянский идол. Белозерье Поселившиеся в Воронежском Подонье волынцевцы сохранили свою только зародившуюся племенную организацию. Центром их расселения стал собственный укрепленный град — Белогорское городище, вокруг которого обнаружены могильники. Сохранилось и своеобразное «кастовое» деление общества, отмеченное тремя разновидностями керамики. Смешанная по происхождению знать использовала престижную гончарную керамику волынцевского типа. Она пользовалась спросом и у кочевых соседей. В результате обмена волынцевские гончарные сосуды попадали в торговые центры каганата, такие как Саркел. С другой стороны, бытовали на Среднем Дону и подражания волынцевским сосудам с менее качественным лощением, и округлые горшки из грубого теста пеньковского типа.[1890] Славяне Подонья платили дань Хазарии и поставляли воинов на службу кагану. Их дружины обеспечивали тыл хазарского войска в начавшейся в 730 г. войне с Арабским Халифатом. В этой войне каган потерпел сокрушительное поражение. Арабский полководец Марван бен Мухаммад прорвался в глубь хазарских земель, преследуя отступающего кагана. Он разорил поселения славян по Дону и в окрестных землях. При этом было захвачено 20 тысяч славянских семей. Отсюда следует, что войска Марвана прошли огнем и мечом по гораздо более обширной славянской территории, чем только Подонье. Разбитый каган запросил мира. Разгром подвластных славян и разорение их земель сломили его, помимо всего прочего. После этого центр Хазарии перенесли из Дагестана в Нижнее Поволжье, а хазары во главе с каганом на какое-то время приняли ислам.[1891] 20 тысяч захваченных славянских семей Марван угнал в Закавказье и расселил на землях Грузии. Вскоре славяне, которых держали на положении посаженных на землю рабов, подняли восстание. Они убили назначенного арабами «начальника» и попытались бежать на родину. Марван с войском нагнал их и многих перебил. Оставшихся он переселил на ромейскую границу, в Сирию и Армению. Часть он поселил в Иссе на юго-востоке Малой Азии, вперемешку с другими «неверными» — персами и арабами-христианами из Набатеи. В этих местах уже жили южные славяне, и пригнанные с севера сородичи смешались с ними. Расселенные для укрепления рубежей Халифата сирийские славяне пользовались большей свободой. Часть их приняла ислам и постоянно служила халифам с оружием в руках. Из их среды назначались даже правители приграничных крепостей.[1892] В 755–757 гг. сирийские славяне оказались втянуты в междоусобицу, разгоревшуюся в Халифате. В 755 г. мятежный полководец Абу Муслим, разгромив при Нисибине войска халифа Мансура, «убил многих». В основном ими оказались сражавшиеся за новую династию Аббасидов без охоты славяне и жители Антиохии. Затем уже сами славяне выступили против Аббасидов открыто. В 757 г. одерживающий верх в гражданской войне Мансур отправил против мятежных славян своего сына Мухаммада ал-Махди. Центром сопротивления оказался Исс, а славяне — главными зачинщиками. Захватив город, Мансур переселил его разноплеменных жителей на север Сирии, в ал-Масиссу. При этом, впрочем, добиваясь искренней покорности, он возместил им потери.[1893] О дальнейшей истории славян, оставшихся после арабского нашествия на Дону, из письменных источников ничего неизвестно. Однако археология свидетельствует, что славянское население Подонья продолжало увеличиваться за счет пришельцев из различных славянских земель. Особенно тесными были связи Подонья с северой Днепровского Левобережья. Внутренние неурядицы в каганате способствовали борьбе за независимость. Ее отражение — массовое строительство укрепленных градов. Эти грады — памятники уже новой, боршевской культуры. Сложение ее на Дону завершилось еще в течение VIII в. Боршевская культура — чисто славянская, тесно связанная с северской роменской. Неславянские элементы быстро растворились в славянской среде. Расцвет боршевской культуры и полное поглощение ею волынцевского наследия относится уже к IX в.[1894] Подобно другим славянам, оказавшимся в иноплеменном окружении, донские называли себя просто «словене».[1895] В первых десятилетиях VIII в. один из славянских «родов» Северской земли выселился на северо-восток, в верховья Оки. Шли переселенцы из верхнего Подесенья, уже довольно плотно занятого их сородичами. Волынцевских гончаров и дружинников среди первых славян Поочья не было. Они представляли из себя первоначально именно небольшой «род», принесший с собой некоторые традиции — в том числе подражания волынцевской керамике. Поэтому по мере расселения славян вниз по Оке здесь сразу стала складываться особая, отличная от волынцевской культура — верхнеокская вятичская.[1896] В дальнейшем славянское население в Поочье росло — не только за счет естественного прироста, но и за счет новых переселенцев с юга. Они приходили и со становящегося «боршевским» Среднего Дона, и из Подесенья, где складывалась роменская культура. В итоге первоначальный «род» быстро, за несколько поколений, разросся в племенной союз. Главу «севшего» на Оке северского «рода» звали Вятко, откуда и происходит племенное название «вятичи». В этой части следует верить летописному преданию о происхождении вятичей, которое вошло в Повесть временных лет.[1897] Но это же предание называет Вятка выходцем из «Ляхов» и братом Радима, предка соседних радимичей на Соже. Этому уже верить не следует. Радимичи осели на Соже примерно на сто лет позже, чем вятичи на Оке.[1898] «Братский» союз соседних племен породил к XII в. легенду о братстве их родоначальников. Туземным населением в верховьях Оки являлись восточные балты — галинды, создатели мощинской культуры. Название ее происходит от Мощинского городища в бассейне реки Угры, которое погибло еще в VII в. После прихода вятичей большая часть галиндов без каких-либо заметных потрясений растворилась в их среде. От мощинской культуры вятичи унаследовали курганный обряд погребений — важное свидетельство мирного смешения племен. Лишь небольшая группа «голяди» отошла на север, к реке Протве, сохранив там свое древнее имя и язык.[1899] Подлинными потомками и наследниками древних «эстиев» здесь, как и на большей части их территории, стали славяне. В итоге вятичи уже в VIII в. заняли верхнее течение Оки от истоков до района впадения Угры. Дальше на север и восток лежали нераспаханные лесные земли и территории, занятые племенами финского происхождения. Бассейн Москвы пока заселяли племена дьяковской культуры. В Рязанском Поочье жили родственные мордве «эрзянские» племена культуры рязанско-окских могильников.[1900] Тем не менее славяне проникали уже и в эти земли. Ранние, VIII–IX вв., вятичские могильники есть на Пахре. Рязанщины уже в VIII в. достигли славянские переселенцы с Дона. Они принесли с собой не только боршевские лепные, но и волынцевские гончарные сосуды. Позднее эти первые славянские насельники слились с двигавшимися вниз по Оке вятичами.[1901] Вятичские села отличаются большими размерами — от 2,5 до 6 га. Застроены они кучно, причем жилища расположены почти вплотную друг к другу. Это вполне естественно, если село разрасталось из семейного починка. Дома — полуземлянки с глинобитными печами.[1902] По размещению жилищ можно сделать вывод, что у вятичей еще не распалась большая семья, а занимавшая одно село община являлась патронимией. Недаром вятичи еще в начале XII в. сохраняли память о своем происхождении всего от одного «рода». Распространение индивидуальных захоронений, как и у других славян, — знак начавшегося разложения большой семьи. Но у вятичей отмечены курганы и с большим числом сожжений — от двух до четырех.[1903] Во главе вятичей — сначала «рода», затем союза «родов»-племен — стоял общий верховный князь, преемник родоначальника Вятка. Однако наряду с ним действовали и вожди отдельных небольших племен. С VIII в. посреди некоторых гнездовий вятичских сел строятся укрепленные грады. Их было не слишком много, и не всегда они являлись чьими-то резиденциями. Часто грады служили просто убежищами для жителей округи, без постоянного населения. На других обнаружены жилища — такие же, как в неукрепленных селах. Бывали случаи, когда вятичи занимали древние городища.[1904] В отдельных курганах найдены украшения, в том числе привозные.[1905] Они указывают на начало выделения местной богатой знати. Большие размеры и длительное, до нескольких веков, существование поселений[1906] указывают на развитые способы земледелия. Вятичи берегли редкую в этих лесных краях распашку и потому быстро отказывались от истощавших почву подсеки и перелога. Тем более что двуполье уже давно распространялось в тех южных землях, с которых они пришли. Более развитое земледелие вятичей явилось, без всякого сомнения, одной из причин мирного смешения с ними голяди, а затем и финских племен. В общении и слиянии со славянами туземцы осваивали полезные для выживания в суровых лесных краях навыки. При этом важную роль в хозяйстве продолжали играть и охота, и иные лесные промыслы. Здесь уже веками осваивавшие Волго-Окские земли балты и финны могли становиться помощниками и наставниками славян. О развитии ремесла свидетельствует обнаружение на наиболее изученном вятичском селище Лебедка сыродутного горна.[1907] Вятичские мастера работали и с железом, и с цветными металлами. В то же время гончарный круг оставался пока вятичам неизвестен. Лишь на Среднюю Оку ненадолго проникло с Дона волынцевское гончарство. На Верхней Оке VIII в. керамика только лепная. Это горшки, миски, сковородки, которые сильно напоминают роменские.[1908] По вятичской земле проходил торговый путь, связывавший восточных славян с Поволжьем, Кавказом, Южным Прикаспием. По Волге и Оке поступали многие престижные ценности, которые оседали в руках северской и дулебской знати. Часть из них оставалась вятичам. В их курганах обнаруживаются, например, стеклянные бусы, в том числе мозаичные северокавказского происхождения.[1909] Славяне могли расплачиваться тем, чем была богата их земля — в первую очередь, пушниной. Волго-Окский путь старались контролировать хазары. Но никаких признаков их власти над вятичами в VIII в. нет. Культурное влияние Степи ограничивалось быстро стершимся волынцевским наследием. Кочевники беспокоили, разве что, вятичей своими набегами. Для защиты от врагов строились грады-убежища по Верхней Оке. Как уже говорилось, от восточных галиндов вятичи унаследовали обычай возводить курганы. При этом сами по себе ранние курганы вятичей мало отличаются от курганов других восточнославянских племен. После сожжения тела пережженные кости ссыпали кучкой или в урну. Затем над прахом насыпали курган, реже закапывали останки в уже сделанную насыпь. Отмечен случай, когда перед возведением курганов кости разбрасывали в их основаниях. В ряде захоронений найдены предметы убранства — стеклянные и сердоликовые бусины, железные пряжки, украшения из меди и бронзы.[1910] Курганы часто окольцовывали оградкой из деревянных столбиков. Уже «мощинцы» огораживали так свои курганы, а их соседи и сородичи на Верхнем Днепре — свои святилища. Таким образом, и эта деталь погребальной обрядности вятичей заимствована у туземных племен.[1911] Восприятие столь важного ритуала однозначно свидетельствует о том, что религия и духовная культура вятичей имели некие отличия от общеславянской. Впрочем, осведомлены мы об этом крайне мало. Сама культура восточных балтов, под влиянием которых вятичи оказались, отличалась от родственной славянской не столь уж глубоко. Именно этим и объяснялось легкое смешение балтов и славян — не только в землях вятичей, но и по всему Русскому Северу. Словене на ВолховеВ последних десятилетиях VII в. на заселенных кривичами и финнами землях Поволховья появились новые славянские пришельцы. Они называли себя «словене» и «венды». Последнее название отразилось в языке соседних финнов, но первое со временем стало господствовать. Пришельцы несли с собой новую культуру, сложившуюся за время их странствий из многих источников. Домостроительство и конструкцию стен своих градов они восприняли в наследство от славян Полабья и Поморья. Доля потомков или родни ободричей и поморян была здесь наиболее велика. От них словене унаследовали и свою внешность — среднюю ширину лица, довольно короткую голову, резко выступающий нос. С этого времени по Северу распространяются «дунайские» или «западнославянские» украшения, некоторые из коих ранее отмечены среди славян и авар Мазурского Поозерья.[1912] Новгородские средневековые предания хранили память об исходе «с Дуная».[1913] В землях кривичей появляются новые племенные названия, уводящие на Лабу и Одру, — смоляне, лупоглавы. Все это указывает на то, что Поволховья достигли славяне, увлеченные некогда в Мазуры аварским нашествием, прошедшие через Прибалтику и вытесненные оттуда в основной своей массе куршами. Часть этих вендов осталась в Прибалтике, сохранив свое племенное имя и память об особом происхождении, но постепенно смешалась с новыми своими соседями, ливами. Большинство же достигло будущей Новгородской земли, увлекши при этом с собой и отдельные группы балтов.[1914] Некоторые из пришлых «родов» предпочли влиться в складывающийся племенной союз кривичей. Так поступили смоляне и лупоглавы, которых затем мы находим на Смоленщине — от смолян и получившей свое имя. Другие больше дорожили независимостью и принялись обустраиваться на свободных землях. Как раз в это время понижение уровня Балтики привело к высыханию болот, сужению рек. В новых поймах можно было спокойно заниматься переложным земледелием — которого пока не знали ни кривичи, ни тем более финны.[1915] Согласно преданию XVI в., первоначально «пришли словене с Дуная и сели у озера Ладожского, и оттоле пришли и сели около озера Ильменя».[1916] Это предание в сопоставлении с археологическими находками оказывается достоверным. Именно к югу от Ладожского озера, в окрестностях Старой Ладоги, расположен древнейший словенский град Любша. По пути туда от Чудского озера или оттуда к Ильменю, у Репьи в верховьях Луги, обнаруживаем древнейшую из «новгородских сопок», давших имя словенской культуре. Памятник этот относится еще к VII в. Любша — первый град, выстроенный потомками полабских славян на новых землях. Его возвели в начале VIII или даже в конце VII в. на месте заброшенного или разрушенного финского городища.[1917] Однако часть словен сдвинулась вверх по Волхову. Уже к концу VII в. они обосновались в верховьях реки, в Ильменском Поозерье. Отдельные их группы проникали на восток от озера, в том числе к Удомельскому Поозерью, где расположено селище Юрьевская Горка. Здесь они встречались и смешивались с местными финскими племенами — вадьялами (водью), «чудью» (сету?), а также с вепсами (весью), знакомыми уже по Приладожью. Одним из старейших центров расселения словен в Поильменье стало селище на ручье Прость в новгородской округе, возникшее еще в VII в.[1918] Здесь словене-венды, пришедшие из Прибалтики, становились ильменскими словенами. Село на Прости расположено всего в 300 м от древнего святилища Перынь, с которым связано еще одно предание о заселении Новгородчины и происхождении словен. Предание о князе Волхе (Волхве) записано в середине XVII в. Новгородский книжник уже при записи объединил его с книжной легендой о князе Словене, от которого якобы словене получили свое имя. Затем вместе с легендой о Словене сказание о Волхе вошло в довольно большой свод из книжных и народных преданий под общим наименованием «Сказание о начале Русской земли» или «Сказание о зачале Новаграда».[1919] Согласно сказанию, после 14-летних странствий Словен и его сородичи обосновались на озере Мойско, которое Словен переименовал в честь своей сестры Ильмени. Место для поселения указало ему «волхвование». На Волхове он якобы основал град — «Великий Словенск». У Словена и жены его Шелони было два сына — Волхов и Волховец. По имени жены и сыновей Словена получили имя впадающие в Ильмень реки (по имени Волховца — «протока», вытекающая из Волхова и обратно в него впадающая). Волхов ранее звался у славян рекой Мутной. Почти все эти персонажи, как и брат Словена Рус с женой Поруссией и дочерью Полистью, вымышлены народной фантазией. Их небывалые имена в основном образованы от местных названий. Название «Ильмень», «Ильмерь», как и «Мойско», восходит к финским языкам. Так называли озеро разные финские «роды», с которыми встречались здесь славяне. Имя «Ильмень» воспринято, надо думать, от дружественной неровы (води, вадьялов), с которыми словене смешивались и имя которых позже получил Неревский конец Новгорода. Шелонь, Полисть — славянские, но вовсе не произведенные от личных имен названия. Наконец, ничего подходящего на роль «Великого Словенска», предшественника Новгорода, мы на верхнем Волхове вплоть до IX в. не обнаружим.  Река Волхов. Современный вид Но с именем Волха, Волхва, дело обстоит сложнее. Звавшийся так князь-оборотень — герой не только средневековых преданий, но и народных былин Русского Севера.[1920] Одна из версий происхождения названия реки «Волхов» связывает его с финским словом velho ‘чародей’, которое само восходит к славянскому «волхв». Скорее, название происходит от финского же Olhava.[1921] Но имя героя «Волх» вполне может быть обратной славянизацией именно этого финского слова, в условиях смешения словен и «води». Река же «Волхов», «Волхово», «Волхова» у славян затем легко понималась как «река Волха».[1922] Все это помимо уникального содержания указывает на древность предания о Волхе. Оно сложилось в условиях славяно-финского слияния на землях Новгородчины в первые века ильменского племенного союза, в языческую эпоху. Что же говорит о Волхве книжное сказание XVII в.? «Старший сын князя Словена Волхов, бесоугодник и чародей лютый среди людей, тогда бесовскими ухищрениями обманы творил многие, преобразуясь во образ лютого зверя коркодила, и залегал в той реке Волхове путь водный, и непокорных ему кого пожирал, кого, повергая, топил. Потому-то люди, тогда невежественные, сущим богом того окаянного нарекли, и Громом или Перуном нарекли его… Поставил же он, окаянный чародей, ночных ради обманов, собрания бесовского, градок малый на месте некоем, зовущемся Перынь, где и кумир Перунов стоял. И баснословят об этом Волхве невежды, говоря якобы «в боги сел» окаянный. Наше же христианское истинное слово, неложным многократным испытанием, вывели о сем окаянном чародее Волхве, что зло разбит и удавлен от бесов в Волхове и обманами бесовскими окаянное его тело отнесено было вверх по оной реке Волхову, и извержено на брег против волховного его городка, где ныне зовется Перынь. И со многим плачем тут был погребен невеждами окаянный, с великой тризной поганской, и могилу насыпали над ним очень высокую, каков обычай поганым. И через три дня после окаянного того тризнища просела земля и пожрала мерзкое тело коркодилово, и могила его просыпалась с ним на дно адово, так что и доныне, как рассказывают, знак ямы той не наполнится. Другой же сын Словена, младший, Волховец жил с отцом своим… и родился у Волховца сын Жилотуг, и протоку назвали по имени его Жилотуг, ибо в ней утонул еще в детстве». Во времена образованного новгородца, записавшего сказание, в его героя кое-кто еще верил как в полубога. Полемика с подобными «невеждами» для автора весьма важна. Не она ли и заставила его записать языческий миф? Но спустя две сотни лет уже сам народ, носитель предания, стоял на точке зрения писателя XVII в. В новой записи предания, сделанной уже в XIX в., имя Волха исчезает, а персонаж рисуется сущим демоном: «Был Зверь-змияка, этот Зверь-змияка жил на этом самом месте, вот где теперь скит святой стоит, Перюнской. Кажинную ночь этот Зверь-змияка ходил спать в Ильмень-озеро с волховскою коровницею. Перешел змияка жить в самый Новгород…» Далее рассказывается, как князь Владимир окрестил Русь, как «Новый город схватил змияку Перюна да и бросил в Волхов. Черт силен: поплыл не вниз по реке, а в гору — к Ильмень-озеру; подплыл к старому своему жилью — да и на берег!». Владимир велел бросить «дьявола» обратно в воду и поставить на Перыни церковь.[1923] При отождествлении Волха и Перуна, которое мы видим уже в изначальном предании, подобное смешение эпох вполне органично. Кое в чем предание XIX в. дополняет средневековое, кое в чем повторяет. Скажем, в описании того, как «черт» поплыл против течения Волхова к «старому своему жилью» и там извергся на берег. В былине, записанной в нескольких вариантах на протяжении XVIII-ХХ вв. Волх — тоже князь и тоже оборотень. Он рождается от княжны, обесчещенной летучим змеем: [1924]
Рождение Волха сопровождается грозными знамениями в природе:
Подросши, Волх обучается различным «мудростям»:
Когда Волху исполняется двенадцать лет, он начинает себе набирать дружину из воинов-погодков. К пятнадцати годам набралось семь тысяч. С ними Волх выступает в поход на далекую южную страну, «Турец-землю» или «царство Индейское», и завоевывает ее. Здесь мы видим слияние преданий о Волхе с древним воинским эпосом, принесенным предками новгородцев с «Дуная». Эта часть былины, более древняя, чем имя героя, немало говорит нам о жизни и психологии древнего славянина еще эпохи Переселения народов, V–VII вв.[1925] Именно былинный эпос сохранил Волха почти таким, каким его почитали предки новгородцев — доблестным героем и одаренным вождем. Его оборотнические способности здесь не в малой степени не осуждаются. Они показаны как естественное — и крайне полезное для «своего рода» — наследство отца-Змея. И вновь, как и со всеми славянскими героями-родоначальниками — мифологическая и историческая «составляющие». Мифологическая в основе своей ясна. Это древний, общеславянский эпос о князе-волкодлаке, сыне Змея. Словене почитали его как воплощение или ипостась Перуна. В конечном счете неудивительно — сын Змея, побеждавший в древнем мифе отца, свободно сливался со змееборцем-громовержцем. В мифах о богах змеи представали их старшим поколением, особенно для словен, которые чтили Велеса. Самому Перуну они, как мы видим, поклонялись в образе «коркодила», или, как сохранила менее ученая народная молва, «змияки». Гибель Волха от руки волховских водяных напоминает о борьбе с водяными демонами героев финских сказаний. Смерть же в волховской протоке малолетнего племянника Волха, Жилотуга, как будто объясняет нам причину вражды между эпическим героем и «бесами». «Волховская коровница», супруга героя, — сверхъестественное существо, имеющее власть над водами и в то же время отнимающее молоко у коров. Она напоминает могущественных бродниц из южнославянского эпоса. Смерть Волха, как она описана в предании, толковалась «невеждами» как доказательство его божественности. Тело «пожрала» Земля, на этом месте бездонный провал — значит Волх «в боги сел». Однако опять же, подобно другим героям славянских преданий, Волх предстает на реальном, совершенно конкретном географическом пространстве, как божество и исторический предок одновременно. За ним можно увидеть фигуру племенного вождя, приведшего словен к Ильменю и ставшего родоначальником словенских князей. Княжеская власть опирается на культ Перуна, как у всех славян, — но и на уходящие в прошлое оборотнические представления. Волх — вождь воинского оборотнического братства, становящийся князем и уничтожающий «непокорных». В племенном эпосе такие «непокорные», конечно, сами виновны в своей гибели. Сочетание сильной княжеской власти и оборотнических традиций заставляет вспомнить о велетах, «вильцах» («волках») — врагах и одновременно наставниках, от которых бежали предки словен. Предание о Волхе оказалось актуально и для словен, и для финских насельников Поильменья — не потому ли, что он слил разноязыкие племена в новое единство? Именно финская форма славянского титула-прозвища «Волхв» стала со временем основной — поскольку позволяла самим славянам легко истолковать название «Волхов». Истинное же имя первопредка, как и во многих других случаях, оказалось под запретом. Не его ли доносит до нас современное название городища Любша — от личного славянского имени? [1926] Любша, древнейший славянский град у Волхова, являлась и древнейшей княжеской резиденцией. Ничего более подходящего на роль «Великого Словенска» по реке не найти. А место мифического Словена как герой-родоначальник, первый князь, по праву должен занимать именно Волх. Волх, судя по Сказанию, действовал по всему «пути водному», по всему Волхову. «Любшин омут» при впадении реки Любши — не место ли гибели героя, откуда он плыл вверх по реке? Но главный пункт, связанный с Волхом, — конечно, Перынь. Около 980 г. Добрыня, посланник князя Владимира, ставил здесь идол Перуна по киевскому образцу — замещая более древнее поклонение Перуну-Волху.[1927] Как выглядело капище до Добрыни — неведомо. Остатки древнего «Волховного городка» погибли под Добрыниным капищем, которое, в свою очередь, дожило лишь до крещения Новгорода в 989 г. Яму-провал, в которой таинственно исчезло тело Волха, впрочем, так и не засыпали, и еще суеверы XVII в. уделяли ей внимание. Можно догадаться, что в древней Перыни поклонялись не только Волху-Перуну, но и собственно Перыни («Перуновой» жене — Матери-Земле, «пожравшей» земное тело Волха), и Велесу (Змею-отцу?). «Змеиный» культ «Волховного городка» являлся главным на протяжении почти всей языческой истории славянской Новгородчины. Слияние предания о Волхе с героическим эпосом «дунайского» происхождения произошло поздно. В предании XVII в. нет еще и следа этого. Но на северных окраинах Новгородчины, на «былинном Севере», это могло произойти как раз в те времена или раньше. Само сохранение воинского сказания, полного завоевательного пафоса, предками новгородцев симптоматично. Для полянского Кия почетно было служить богатому заморскому царю. Для ильменского Волха — победить царя и захватить его царство. Здесь едва ли речь о коренной разнице в «менталитете». Просто словене, прорвавшиеся на свои земли через почти десяток враждебных племен, не раз познавшие иго, несли гордую память о войнах свободных предков — и теперь готовы были повторять их. Воинственный дух всего цикла о Волхе — ясное тому свидетельство. Именно этот дух помог словенам выжить в грядущую викингскую эпоху Севера — и дал им в ней не последнюю роль. В течение VIII в. словене расселились уже на довольно обширной территории, где-то оттеснив финнов и кривичей, где-то смешиваясь с ними. Памятники их культуры отмечены по всему течению Волхова, в Ильменском Поозерье, по Ловати и Луге, на восток до Удомли.[1928] На всем этом пространстве распространяются монументальные насыпи-«могилы», служившие родовыми гробницами. Эти «новгородские сопки» и дали название археологической культуре словен. Племена культуры сопок расселялись преимущественно в поймах рек и озер. Их неукрепленные поселения располагались часто у впадения ручьев или оврагов. Это в основном небольшие веси размером от 350 м2 до гектара. Гораздо реже встречаются крупные села, от 2 до 6 га площадью. В селениях дома располагались кучно. Строили наземные, иногда углубленные срубы-избы с печами-каменками в углу. Площадь домов — от 18 до 27,5 м2. Рядом с домами располагались неотапливаемые хозяйственные строения, еще меньших размеров, кое-где и ямы.[1929] Кучная застройка, громадные коллективные усыпальницы-сопки, небольшие веси — приметы большесемейного и патронимического устройства. Здесь, на Русском Севере, его пережитки будут сохраняться еще спустя тысячелетие. Борьба с внешними врагами и покорение природы не располагали к распаду «родовых» коллективов. Среди сопок встречаются одиночные — при стоящем отдельно «родовом» дворе или веси. Гнездовье весей, как и пару веков назад на юге, как еще и спустя века на севере, составляло соседскую общину — мир. Родоплеменное устройство ревниво охранялось. Одним из его выражений являлся обычай заключать браки только между «родами» своего племени. Образцом защиты этого устоя служила известная и южным славянам эпическая песнь о мести братьев за соитие с сестрой молодцу-«чужаку». В варианте с Русского Севера братья зовутся Волховичи (дети Волха?). Они расправляются с несостоявшимся женихом, а затем убивают и саму сестру, восставшую против родового закона. Любовники безропотно принимают смерть.[1930] Вместе с тем политический строй словен уже далеко ушел от первобытности. Племенной союз возглавлялся общим князем, который возводил свой род к легендарному родоначальнику. Власть передавалась по наследству — но необязательно от отца к сыну, просто в пределах «рода».[1931] Князь наделялся сверхъестественным могуществом. По примеру своего предка — «волхва» и волкодлака Волха — он являлся главой дружинного воинского братства, с каковым связывались оборотнические поверья. Одновременно возглавлял он и мощную на словенском Севере корпорацию волхвов, соединивших принесенные с собой велетские «глубинные» тайны с чародейством туземцев-финнов. «Вещесть» еще в Х в. считалась важным для северного князя качеством. О том свидетельствуют летописные предания о Вещем Олеге. Последний, кстати, под именем Вольги почти что слился с Волхом в русских былинах. Князь Волх — идеальный герой — предстает в печорской былине.[1932] Эта былина, сохранившаяся на крайнем северо-востоке «былинного Севера», занесенная переселенцами XV в., интересна еще и тем, что в ней нет еще никакого «южного похода». Просто описывается рождение Волха и молитва-заклинание его матери, просящей для сына всех возможных достоинств. Все достоинства былинных богатырей Руси, внешние и внутренние, должны соединиться в новорожденном. Просьба эта у былинного певца выглядит уже почти по-христиански, и в то же время дает смотр древних героических добродетелей. Мать просит для сына: Тулово ему бы Святогорово… Этот перечень, в котором гигантская стать и богатырская сила встают в один ряд с конем и одеждой, а те, в свой черед, — со сметкой и вежеством, — по духу принадлежит давно ушедшей эпохе. И словно подтверждая это, Волх затем и в этой былине учится тому, что принадлежит ему по праву таинственного рождения: Учился бы в вольнём море щукой ходить, Таковы были вожди словен (и не их одних) — в песенном идеале. Внешний блеск и физическая мощь для них равнялись личному уму и благородству, и считались необходимыми для обретения сверхъестественной силы. Здесь — корень стремления знати славянских племен к обладанию различными «престижными» редкостями. Итак, в идеале вождь обладал и умом, и вежеством. Но если ему «не покорялись» — то ум и вежество, как в сказании о Волхе, обращались против непокорных. Существенно здесь то, что Волх имел полное право «пожирать» и «топить» непокорных. Это не умаляло, а подтверждало его божественное достоинство. Это словенская версия общего процесса, происходившего в славянском мире. Христианин Инго лишал родовых господ своей трапезы. Пржемысл у границ христианского мира грозил посланцам племени «железной метлой». Язычник Волх — «пожирал» и «топил» своих врагов, буквально или фигурально. Княжеская власть усиливалась повсеместно, и нет оснований полагать, что у пришедших с юга словен это происходило медленнее. Показатель происходящего — и строительство первой племенной столицы, града Любши. Возведен он был на месте финского поселения, уже защищенного земляным валом и тыном, на мысу над Волховом, по течению слева. Град занимал площадь немногим менее 2000 м2. Защищал его вал — 70 м в длину, 18 в ширину, не менее 2,2 в высоту. Строили вал в согласии с принесенной из славянской Южной Прибалтики техникой. В основе вала — «панцирная кладка» из плитняка. Насыпь дополнительно укрепили каменными стенами-подпорками, а поверху построили новую деревянную изгородь. Печи в домах Любши складывали из того же плитняка. Население града было весьма зажиточно, здесь на заказ работали высококлассные ремесленники — кузнецы и ювелиры-литейщики. Град был и важным торговым центром. В его окрестностях после его основания развернулось общение и смешение славян с туземными финнами.[1933] Позднее, к середине VIII в., у волховских порогов, на мысу при впадении ручья Мельник, возвели еще один град — Городок. Он обеспечивал тыл для словен, расселяющихся в Поильменье. Заодно град надежно прикрывал Любшу с юга — «залегал в той реке Волхове путь водный», подобно легендарному Волху. Здесь также славяне заняли более древнее финское поселение. Треугольная площадка града защищена валом и рвом.[1934] В этом укреплении мог сидеть племенной князек, подчиненный Любше. Князей окружала дружинная знать. Подобно мазурским аварам, это были воины-всадники. Из Мазур они принесли заимствованный от авар обычай погребаться с конем и оружием. Он легко совместился с местной финской традицией. Знать использовала «престижные» ценности, проникавшие с востока, из отдаленных финских земель. Это были, прежде всего, дорогие поясные наборы — наподобие ценившихся теми же аварами. О том, насколько ценились и как долго передавались «престижные» ценности, свидетельствует находка на поселении Георгий VIII–IX вв. римской фибулы IV в. Дружина являлась ядром знати словенского союза в целом. Зажиточные люди, вместе с которыми в погребениях оказывались металлические украшения, составляли менее 30 % от общего числа словен. Памятником могущества племенных вождей является возведенная для их захоронения огромная сопка «Михаил Архангел» над волховскими порогами. Любопытно, что при исключительной тщательности работы над ней она содержит крайне скромный инвентарь.[1935] Не исключено, что достоинство погребенных здесь говорило само за себя Словене отличались от своих новых соседей высокоразвитым земледелием. Кое-где, осваивая новые земли или сживаясь с финнами, они вынуждены были использовать подсеку. Но преобладал перелог — не исключено, что переходивший уже к двуполью. Для обработки земли использовали сохи. Два железных сошника VIII в., найденных в Старой Ладоге, показывают два этапа эволюции орудия. Древнейший сошник, повторяющий среднеевропейские образцы — прямоугольный, с округлым краем. Другой — длиннее, уже и тверже насаживался. Его рабочий край имеет уже форму правильного треугольника. Наряду с сохами для обработки почвы использовали мотыжки с лезвием в форме тесла. Найдены и косы-горбуши. По поселениям Южного Приильменья можно проследить развитие земледелия у словен. Изначально преобладающей культурой являлся ячмень. Наряду с ним большую роль играло просо. Выращивали и другие злаки — полбу, мягкую пшеницу, овес. Затем словене обратили внимание на попадавшуюся им в качестве сорняка дикую рожь и окультурили ее. К концу VIII в. рожь кое-где уже приближалась по значению к просу. Просо же предпочиталось при этом ячменю. Помимо злаков, выращивали горох и бобы.[1936] Немалую роль играло в хозяйстве словен и животноводство. Основным домашним животным являлась свинья (47 % костей на поселении Георгий). Затем шел крупный рогатый скот (38 % там же). Гораздо меньше в стаде было лошадей, овец, коз. В одной из сопок найден инструмент коновала. В сопках отмечены кости собак. Разводили и домашнюю птицу. Охота имела сравнительно меньшее значение для словен. На упомянутом поселении Георгий в Южном Приильменье количество костей диких млекопитающих — 4,7 % от общего числа. Охотились словене на лося, бобра, медведя, рысь, белку, зайца. Река и озеро обеспечивали словен рыбой — лещом, судаком, щукой, окунем.[1937] Освоившись в Поильменье, словене сразу оказались на перекрестке путей обменной торговли. Уже на самых ранних поселениях, как укрепленных, так и неукрепленных, обнаруживаются «престижные» ценности, поступавшие с востока, от финских племен Прикамья и Перми. Через земли, ныне занятые словенами, они еще в VII в. поставлялись на территорию современной Финляндии. Среди привозных ценностей были поясные наборы, пастовые бусы. Кроме того, в сопках находят бусы стеклянные и изредка сердоликовые.[1938] Ремесло самих словен отнюдь не уступало финскому в развитии. Приобретение финского «импорта» было связано с распространенными поверьями о силе «чудских» амулетов и с соображениями дружинного «престижа». В принципе же, сами славянские мастера производили достаточно ценностей, в том числе «престижных» и на заказ знати. Крупным центром не только обменной торговли, но и славянского ремесла стал с момента основания град Любша. Здесь найдены средства труда литейщиков — формы, тигли, льячки — и другие следы работы по металлу. Из серебра, бронзы, сплавов свинца и олова изготовляли разнообразные украшения. Некоторые типы этих украшений имели образцы в тех южных землях, из которых пришли словене. Там же, в Любше, бурно развивалось кузнечное дело. Множество изделий из металлов найдено в поселениях Приильменья и в сопках. Среди изделий из цветных металлов — перстни, детали поясных наборов и конской упряжи, височные кольца, подвески. Из железа делали ножи на костяных рукоятях и ритуальные с загнутым навершием, пряжки, наконечники стрел и копий, удила, гвозди. Из кости изготовляли гребни и некоторые украшения. Из камня делали оселки.[1939] Гончарный круг словенам оставался неизвестен. Нередко сосуды изготовляли из бересты. Смешение славян с туземными финнами наложило отпечаток на облик словенской керамики. Лепные горшки культуры сопок преимущественно низкие, широкие, с прямым или слабо отогнутым венчиком — тип, господствовавший у туземных племен веками. Славяне лишь «добавили» низ усеченным конусом. Заимствование финской посуды явилось логичным следствием завоевания-подселения, при котором словене брали в жены местных женщин. Но наряду с господствующим был распространен и другой тип керамики. Это сосуды, напоминающие суковско-дзедзицкие, с широким горлом, биконической формы, чуть отогнутым венчиком. Традицию их изготовления донесли до Поволховья славянки, пришедшие со своими мужьями в новые земли. Именно эта посуда «ладожского типа» господствует в Любше. На самом же раннем этапе и на периферии встречались еще горшки с округлым туловом, расширяющиеся кверху — отдаленно сходные опять же с суковско-дзедзицкими.[1940] О духовной культуре и обычаях словен в раннюю эпоху наши сведения довольно обрывочны. Об их религии кое-что уже было сказано. По позднейшим поверьям и местным названиям можно судить, что почитали обоих верховных богов славянского пантеона. И Перун, и Велес в разной степени и в разных смыслах выступали как покровители словен. В их мифологической «топографии» Велес связывался с приладожским севером, с племенной прародиной, где имеется местное название Велеша. Священным же центром приильменского юга являлась Перынь. На рубеже этих двух мифологических «миров», соединяя и в то же время разграничивая их, воздвигалась монументальная княжеская (?) сопка при волховских порогах.[1941] Озерное название Нево (Ладожское озеро) в переводе с саамского (и «чудского»?) означало «пучина, бездна». Название же озера «Ильмень», «Ильмерь» прямо связана с ilma «небо, воздух» и с именем небесного кузнеца Ильмаринена. Последнего славянину легко было сопоставить с Перуном-Сварогом, «создателем молний». Противопоставление «Велесова» севера «Перунову» югу могло, таким образом, восходить и к туземным поверьям.[1942] Во владениях Змея Велеса, отца и врага Волха-Перуна, мы находим и упоминавшийся «Любшин омут».[1943] Причудливый культ древних словен уравнивал божественных противников перед людским почтением. Но верховенство в некотором смысле оставалось все-таки за повелителем мертвых Велесом. В его подземном мире, в доставшемся от него змеином теле, бесследно исчезает «севший в боги» Волх. О повседневных обычаях словен говорить можно четче благодаря летописям и археологическим находкам. Описывая свадебный обряд полян («не ходил жених за невестой»), Нестор явно упрекал обычай противоположный. При такой свадьбе, не менее чинной, чем полянская, жених за невестой все-таки отправлялся сам. Происходило собственно бракосочетание быстрее. Жених и его родственники приезжал к невесте утром, здесь устраивался «малый стол». Затем молодые приезжали в дом жениха, где после положенных обрядов свершения брака начиналось общее пиршество. Посреди трапезы жениха и невесту отправляли в постель, после чего праздник продолжался. В древности его завершало, скорее всего, объявление о невинности невесты до брака. Центром распространения этого обряда были именно земли словен. На них, не называя их, намекал летописец. Первоисточник же обряда — то же самое смешение славян и финнов, от которых похожий свадебный ритуал восприняли и северные балты.[1944] Характерной и столь же необычной для южан чертой культуры словен являлось мытье в банях. Это изобретение они принесли из дунайско-карпатских или западнославянских земель на север будущей Руси и здесь усовершенствовали. В результате появился первый прообраз современной русской бани. Вот как ее описывает киевский летописец, вкладывающий рассказ в уста самого апостола Андрея: «Диво видел в земле Словенской, идя сюда. Видел бани деревянные, — разожгут их сильно, разденутся, станут наги, обольются мытелью, возьмут ветви, и начнут себя бить, и до того себя добьют, что едва вылезут живы, и обольются водою студеною, и так оживут. И так творят во все дни, не мучимые никем, сами себя мучат, и то творят мытье себе, а не мученье».[1945] Живший в XIII в. и лично принадлежавший к потомкам словен летописец Переславля уточняет, что навар «мытели» готовился из кваса, а в качестве веников использовали «прутья младые».[1946] Погребальный обряд словен VIII–IX вв. представлен коллективными курганами-сопками. Только кое-где и на первых порах мертвых хоронили по обычаю финской «води» — прах от сожжения закапывали в неглубоких ямках или оставляли на поверхности.[1947] Причины появления самих монументальных сопок не вполне ясны. Нельзя исключить того, что словене просто нашли оптимальную форму для одной большой коллективной гробницы вместо целого курганного могильника. На обрядности сопок сказалось балтское, затем финское и, наконец, позднее всего и не везде скандинавское влияние.[1948] К финскому наследию относились, прежде всего, сооружения из камней в основании сопок. В III–VII вв. часть финнов, живших к югу от Ильменя, в отличие от северных вадьялов, хоронила умерших в каменных могилах.[1949] Эти финны, близкие по культуре к «эстам», насколько можно судить, и являлись воинственной «чудью» северных преданий, родней псковских сету. Словене в Поволховье и Поильменье смешивались не только с «водью», но и с «чудью». Сопки — большие насыпи высотой от 2 до 10 м и даже более, в основном же до 5. Диаметр сопок колеблется от 12 до 40 м. Сопки, как правило, возводились цепочкой вдоль берега водоема. При этом в могильниках сопки удалены друг от друга (от 20 до 100 м). В могильниках от 2 до 12 насыпей, но много и одиночных сопок. Сопки обычно возводили в несколько приемов. Первоначально устраивали кольцевое ограждение из крупных валунов в основании. В нем по финскому обычаю разжигали ритуальный костер. Затем насыпали нижнюю часть сопки. Получившуюся насыпь покрывали дерном. В ней какое-то время совершали захоронения, потом вновь разжигали костер, сопку досыпали еще на 1,5–3 м и вновь покрывали дерном. Когда сопка оказывалась вновь заполнена, все повторялось. Склоны сопок иногда укреплялись камнями.[1950] Умерших сжигали на стороне. Пережженные кости приносили к сопке и погребали чаще всего без урны. В качестве урны могли использовать глиняный горшок или берестяной сосуд. В основании или прокладке сопки прах высыпали на прослойку из золы и угля, оставшуюся после костра. Для впускных захоронений вырывали специальные ямки. Прах могли и просто бросить в сооружаемую насыпь вместе с землей. Финское и позже скандинавское воздействие отразилось в разнообразных каменных кладках, сопровождающих отдельные погребения. Это могли быть вымостки и настилы под урны, ниши для них, кладка над захоронением, кольца и стенки. Часто перед сожжением или уже над могилой приносили в жертву животных. Этот обычай в основном восходил к местной традиции, хотя погребение с конем — самый частый случай — словене видели еще у авар. Помимо коней, в жертву приносили коров, собак, баранов, зайцев, птиц. Погребенных в сопках иногда сопровождали в последний путь украшения, оружие, орудия труда.[1951] Одна из самых монументальных и лучше всего изученных сопок — сопка «Михаил Архангел» (сопка № 145) у села Октябрьское близ Волховских порогов. В ее основании — несколько каменных кладок и груды валунов. Кладки в высоту достигали 2 м и связывались деревянным каркасом. Между них рассыпали останки нескольких умерших. Сверху возвели насыпь пяти— или шестиметровой высоты. Тем самым эта сопка сразу превзошла остальные — доказательство особого статуса погребенных. По подножию ее укрепили цоколем из валунов и плит. На уплощенной вершине диаметром в 6 м устроили новые каменные вымостки. Затем сопку подсыпали на пару метров. В этой насыпи не выявлено захоронений — надо полагать, прах просто ссыпали на вымостки вперемешку с землей. Здесь сделали три вымостки для погребений. Рядом с одним из них в урне — мясо животной жертвы. Наконец, сопке добавили еще два метра. В этой верхней и самой поздней части найдено одно захоронение с остатками металлического убора. Сопка «Михаил Архангел» в высоту поднималась более чем на 10 м и достигала 97 м в диаметре. Она господствовала надо всей округой.[1952] Все материалы, связанные с расселением словен по Волхову и Ильменю, говорят о теснейших контактах и смешении с финнами. Взаимно перенимались обычаи, бытовые детали, народы смешивались друг с другом воедино. К началу русского средневековья в жилах ильменцев, при сохранении относительной расовой «чистоты», текло уже немало финской крови.[1953] В то же время отношения с разными финскими племенами складывались по-разному. Вадьялы и вепсы смешивались со словенами свободно. В то же время именно такие мирные отношения привели к тому, что значительная часть тех и других в окраинных северных землях сохранила свою самобытность. Отношение же к сильным и воинственным «чудским» племенам, веками нападавшим на соседей, было иным. Они оказывались перед выбором — полное слияние со словенами или изгнание. «Чудь белоглазая» надолго стала обобщенным образом врага в северном русском эпосе. Какая-то часть «чуди», в конце концов, слилась с ильменцами или союзными им вадьялами. Но многие бежали — на запад, к Чудскому озеру, или на северо-восток, к вепсским Волокам, где новгородцы встретят потом враждебную им «заволочскую чудь». На отношения с приильменской чудью накладывал отпечаток и давний ее союз с кривичами. Последние же встретили приход новых славянских переселенцев без приязни. В первой половине VIII в. словенам еще предстояло вести борьбу за освоение новых земель, и не только с лесной природой. КривичиПриход словен на Волхов прервал становление кривичского племенного союза. Новые пришельцы оседали на землях, которые кривичи только привыкли считать своими. Какая-то, и довольно многочисленная, часть — смоляне, лупоглавы, — предпочла примкнуть к кривичскому объединению. Но большинство пришлых словен стало строить собственный племенной союз. Силы последнего в Поволховье и Приильменье быстро превзошли кривичей. На землях, занятых было ими, образовалось новое «княжение». В этих условиях столкновения становились неизбежны. На протяжении VIII в. словене заняли значительную часть земель, на которые имели право претендовать кривичи. Кривичские и словенские роды селились чересполосно, но всегда раздельно, едва ли мирно. Немалое же число кривичей — в том числе и присоединившиеся к ним смоляне с лупоглавами — ушли на юг и юго-запад. В результате заселения ими обширных пространств в центре Русской Равнины в VIII в. сложилась культура смоленско-полоцких длинных курганов. Речь о ней пойдет далее. Оставшиеся же в Поильменье кривичи к концу VIII в. слились со словенами. В результате этого смешения — вряд ли во всем добровольного — на словенских поселениях появилась керамика кривичского типа. Более того, словене продвигались на запад, к Псковщине.[1954] Но пока здешние кривичи противостояли притязаниям словенских вождей. Многочисленные и разбросанные по огромным пространствам, они еще переходили и в наступление. Карта Новгородско-Псковского Севера в VIII в. пестрила еще неразграниченными землями враждебных «родов», славянских и финских. Культура псковских длинных курганов продолжала существовать и в VIII в., сохраняя все основные свои черты. Сельское хозяйство и общественный строй не претерпели заметных изменений. Враждебность, разделявшая кривичей и словен не меньше, чем вековые обычаи, затрудняла отказ от подсечного земледелия. Впрочем, первые признаки перехода к пашне появляются около этого времени или немногим позже.[1955] Продолжавшие возводиться длинные курганы — свидетельства устойчивости большой семьи. В то же время изменения коснулись и политической жизни кривичей. Вторжение словен совпало с завершением строительства кривичского союза племен — и ускорило его. Кривичи жестко отделили себя от словен. Но размежевание при этом произошло и с соседними финскими племенами, в том числе с союзными сету. Рядом с центром славяно-финского расселения, неукрепленным Псковом, теперь строится собственно славянский княжеский град, позднее получивший имя Изборск. Относится его основание к рубежу VII/VIII вв.[1956] Основателем Изборска являлся кривичский князь по имени Избор. По нему град и получил свое название.[1957] Предания и «песни»-былины об Изборе сохранялись вплоть до XVIII в. Сведения об этих преданиях отрывочны. Согласно ним, Избор основал Изборск и умер от укуса змеи.[1958] В последнем можно видеть отголосок представлений о Змее Велесе (Криве, Бае), предке и покровителе кривичей, который порождает героев, а потом забирает их к себе. Вместе с тем Избор уже совершенно отчетливый исторический персонаж, не скрытый за титулом, а называемый личным именем — в отличие от Кия или Волха.  Кривичская луница Основанный посреди «Чуди» град первоначально назывался Словенском,[1959] и эта примета сохранилась в имени Словенских ключей близ Изборска. Кривичи размежевывались с соседями по принципу «языка». Изборск строился именно как славянский город — хотя отчасти и против наступающих с востока пришлых словен. С ними это название никак не связано. Древнее предание о граде Словенске как древнейшем и крупнейшем на Севере долго сохранялось в Новгородско-Псковской земле. Именно оно, в конце концов, и породило миф о «Словенске Великом» на Волхове, по отношению к которому Изборск — «Словенск Малый». Но Изборск не принадлежал ильменским словенам. Это был «в Кривичах больший город»,[1960] племенная столица. Изборск строился чуть позже Любши, отчасти по ее подобию, но во многом превосходил град-соперника. Град воздвигли на высоком мысу над впадением ручья в озеро Городищенское, к югу от Псковского. С двух сторон треугольная мысовая площадка (около 6300 м2) обрывалась отвесно. На скате же дугой соорудили глиняный вал. Вал Изборска возводили на каменных основах, напоминающих словенские из Любши.[1961] В центре града под вече, языческие празднества и гадания выделили ровную площадку диаметром около 20 м. Эта «площадь», расположенная на плитняковом выступе мыса, поднималась над остальным градом до полуметра.[1962] Раскопки в Изборске позволяют подробно представить образ жизни «псковских» кривичей VIII столетия. Обитатели града жили в срубных избах, площадь которых колеблется от 10,5 до 16 м2. Избы имели деревянный пол. В углах располагались глиняные печи. Некоторые из них на каменной основе, как у соседних балтов — латгалов, но большая часть целиком из глины. Здесь можно видеть след «дунайского» влияния, тем более что такие же печи известны в ту пору и на Ильмени. Помимо этого в некоторых домах устраивали по финскому обычаю круглые или овальные очаги, сложенные из песка или глины, окольцованные плитняком. Так в интерьере домов «Словенска» отражалась пестрота происхождения славян-кривичей.[1963] Изборск являлся важным центром и ремесла, и обменной торговли. Здесь обнаружено небольшое количество «эстской» керамики рыугесского типа, изделия финских ювелиров. Местные мастера занимались работой по железу, бронзе, глине и кости. Особенно много следов оставило ремесло железоделов. Сырьем для их труда служила болотная руда. На городище обнаружены железная кузнечная наковальня и молоток. Среди изделий из железа — оружие, серпы, рыболовные крючки, ножи, шилья, долото, пряжки. Труд литейщиков оставил после себя тигли, льячки, формы, рабочие отходы и слитки.[1964] В ту пору у псковских кривичей уже почти безраздельно господствовала керамика славянского типа — горшки с низом в виде усеченного конуса, плавным профилем и расширением вверху. Они найдены и в Изборске, и на поселениях ильменских словен, с которыми смешивались кривичи. Из глины делали также пряслица. Найденные в Изборске орудия труда говорят о занятии жителей земледелием и рыболовством.[1965] При всей разнородности первых поселенцев Изборска, строился он все-таки как славянский град, отчасти в противовес Пскову. Вторжение словен убыстрило племенное размежевание по Волхову и Великой. Финские «чудские» племена в противостоянии пришельцам сближались друг с другом и отмежевывались даже от союзных славян. Мы не можем судить о конкретных обстоятельствах возникновения Изборска. Но ясно, что он с первых десятилетий своей истории стал соперником соседних поселений — славяно-финского Пскова и почти чисто финского, «эстского» укрепления Камно. Ясно и то, что укрепления Изборска строились не столько даже против словен, сколько против «эстов» — старых соседей и старых врагов. Тем не менее основное время Изборск поддерживал мирные сношения с окрестной «чудью». Славяне продолжали жить в Пскове, селились и в Камно — а «чудь» торговала с Изборском.[1966] 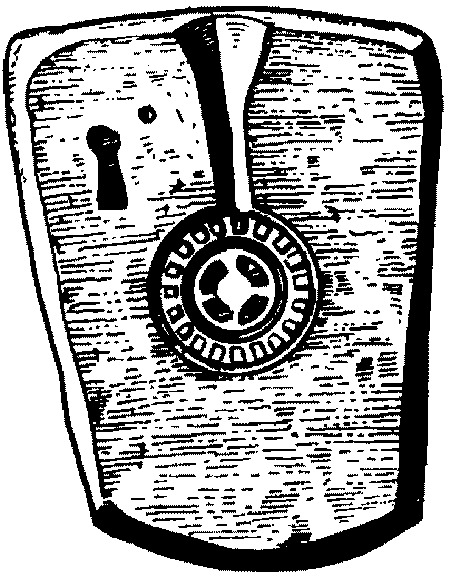 Литейная формочка из Камно В первой половине VIII в. вытесненные словенами из Поильменья кривичи расселились на юг и юго-запад. Основная масса пришла именно с Ильменя и Ловати, где зародились некоторые позднейшие особенности их культуры. За несколько десятилетий кривичи заняли значительную территорию — верхнее и среднее течение Западной Двины, верховья Днепра, на восток до верхней Волги. На всех этих землях распространилась кривичская культура длинных курганов в новом, «смоленско-полоцком» варианте.[1967] На всех вновь занятых землях обитали восточные балты, создатели тушемлинской культуры. Однако они уже с V в. смешивались с расселившимися на их землях славянами, родней тех же кривичей. Так что никаких крупных столкновений в ходе расселения кривичей не происходило. Они легко сливались с сородичами и местными балтами в один народ. Конечно, кое-где возникали и стычки, забрасывались поселения тушемлинцев. Но в целом речь идет скорее о неспешном слиянии славян и балтов, чем о завоевании. Самый острый конфликт произошел, скорее всего, при первом приходе масс славян на Западную Двину. Здесь, на притоке Двины Полоте, они основали собственное «княжение», которое стало базой для дальнейшего движения на восток.[1968] Местное балтское население в основном бежало. Благодаря этому полочане сохранили в неприкосновенности древнеславянский расовый тип — длинные головы, широкие лица, выступающие носы. Дальше на восток, в том числе в будущих смоленских землях, расселение проходило более мирно. Здесь, так же как в Северской земле, произошло смешение славян и родственных им восточных балтов. Потому смоленские и тверские кривичи в средние века напоминали северян с их более узкими лицами.[1969] В начале XII в. киевский летописец, подмечая это сходство, даже выводил северу частично «от кривичей». Обстоятельства расселения наложили отпечаток на культуру славян Полотчины и Смоленщины. Здесь отсутствует керамика финских корней. Господствует почти исключительно «славянский» тип, от которого произошла глиняная посуда Смоленщины IX в. Лишь в одном погребении Полоцкой земли найден тушемлинский горшок. Зато и в Полоцкой, и в Смоленской земле распространился женский головной убор балтского типа. Он включал венчик-вайнагу с бронзовыми бляшками и пронизками и височные кольца. От балтов были унаследованы и некоторые другие разновидности украшений — в том числе костяные изображения птиц, служившие привесками. Украшения же финского происхождения в смоленско-полоцких курганах не встречаются. Новшеством было и появление украшений «дунайских» типов — лунничных орнаментированных височных колец. В подражание им кривичские мастера изготовляли проволочные височные кольца с пластинчатыми расширениями на концах. Последние вошли в число «престижных» ценностей и широко разошлись по окрестным землям в ходе обменной торговли.[1970] Есть отличия и в похоронном обряде смоленско-полоцких длинных курганов. Здесь не разжигали очищающих костров в основаниях курганов, как делали кривичи, «эсты» и словене на севере. На Смоленщине, с другой стороны, иногда совершали кремации на месте. Новые захоронения в кургане часто устраивались на огнище ритуального костра. Его жгли прямо на кургане или на специально устроенных площадках. Гораздо шире, чем на севере, распространились урновые захоронения. При этом курганы гораздо меньше размером. На Смоленщине их длина достигает не более чем 30 м. Причина ясна — использовались они меньшее время и потому не досыпались, как псковские курганы-валы.[1971] Для расселяющихся на огромных просторах кривичей «большим городом» все еще оставался Изборск. Но власть общего, верховного князя неизбежно слабела. На Полоте образовалось собственное «княжение», которому — столь же формально — подчинялись кривичи, жившие дальше на восток. Местные князья также возводили себя к божественному предку, Криву или Баю, соединяя военную и духовную власть. Вокруг их двора или поселка, появившегося уже в VIII в., позднее вырос град Полоцк. Но действительное влияние полоцких князей ограничивалось их собственным малым племенем — полочанами, получившими имя от реки Полоты.[1972] Окрестные подвинские племена постепенно объединялись вокруг Полоцка, но уже в верховьях Днепра, на Смоленщине, жили независимые «роды». Из этих малых племен нам достовернее всего известны пришедшие с запада. Смоляне осели в районе будущего Смоленска, где дали имя и реке Смольне. С пришельцами из Силезии лупоглавами связана река Лупоголова в том же бассейне Верхнего Днепра. Средневековые данные позволяют нам расширить этот список племен Смоленщины, скажем, названиями вержавлян и мирятичей.[1973] Здесь еще не строились грады и не заметно никаких объединительных усилий. Разрозненные «роды» во главе с собственными вождями только обосновывались на новых местах, смешиваясь с балтами, кое-где живя с ними чересполосно. Впрочем, в последнем отношении это была общая реальность тогдашнего Севера. Здесь зримо всего являли себя слабости уходящего племенного уклада. Мощь нарождающихся «княжений» выплескивалась за пределы «родовых» земель, вступая в неизбежные столкновения с подобными же соседями. Отсутствие же четких границ создавало — в противоречие строящейся предгосударственной власти — обстановку, близкую к хаосу. По всем рубежам славянского мира межплеменные войны провоцировали вмешательство внешних сил. В наиболее драматичном положении, не на один век, оказались западные славяне, столкнувшиеся с Франкской державой. Но и славянам восточным угрожал мощный противник — Хазарский каганат. Земли же, обращенные к Балтике, уже сталкивались с новой силой, которая в скорости будет творить историю по всем европейским берегам. Начиналась эра морских походов скандинавов, эпоха викингов, которая в той или иной степени затронула почти весь север Славянской Европы. Глава четвертая. Славяне западные и восточные. Последняя треть VIII в.До и после Бравалля«Официальным» началом эпохи викингов считается у европейских историков 793 г. — дата нападения викингского отряда из Скандинавии на побережье Англии. Однако уже давно археологические открытия заставляют отодвигать эту дату все дальше в глубь VIII в. Западные моря, действительно, сравнительно редко видели еще «людей севера», норманнов. Но на Балтике торговля и разбой уже к началу VIII в. становились делом обычным. Причем торговые и военные операции в прибрежных водах чаще вершили на первых порах балты и финны. Но постепенно их опережают более удачливые конкуренты — скандинавские норманны со своим совершенным парусным флотом. По берегам Скандинавии вырастают военно-торговые базы — вики. Отсюда датские и свейские викинги совершают далекие походы за прибылью и добычей. Балтские и финские «эсты», «восточные», недавно еще терзавшие набегами Скандинавию, теперь вынуждены выплачивать время от времени «дань» норманнским конунгам. Еще в VII в. свеи захватили и заселили Аландские острова, которые стали их форпостом на востоке.[1974] В своем движении на восток норманны неминуемо должны были столкнуться со славянами. Когда именно свеи или даны впервые узнали о славянском заселении севера Восточноевропейской равнины — судить трудно. В принципе, они уже в VI–VII вв. могли сталкиваться с кривичами на Западной Двине или на других восточных окраинах известного тогда Восточного Края — «Эстланда». В конце же VII в. словене осели по Волхову до самых его низовий — то есть у подступов, через Ладожское озеро и Неву, к Финскому заливу. Скандинавы сами пока едва разведывали эти края. Но отсюда поступали «престижные», окруженные сверхъестественным ореолом, финские украшения, и не они одни. А значит, рано или поздно норманнские мореходы должны были появиться и на Ладоге. Итак, где-то в начале VIII в. первые из скандинавов проникли в поволховские земли, еще далекие от того, чтобы стать «Страной Городов», «Гардарики» позднейших саг. Заселяемые словенами и финнами лесные пространства представлялись норманнам последней землей, краем света. Где-то дальше на восток или на север воображение помещало мифический Йотунхейм, страну враждебных богам и людям великанов. В то же время путь туда — это путь к богатству и славе. Там эпический герой может обрести себе супругу, и брак этот будет почетен. Там вершатся превосходящие человеческое разумение и по сложности, и по воздаянию подвиги.[1975] Но на фоне легендарных повествований о первых поездках скандинавов в глубины Восточной Европы резко выделяется самый распространенный сюжет. Это группа вполне конкретных и довольно сухих сведений о происхождении датской и шведской королевских династий.  «Лодьи» викингов на пути «из варяг в греки». Реконструкция События, развернувшиеся на прибалтийском Севере в VIII в., послужили прологом к начавшейся эре викингов. Скандинавские предания, сохранившие о них память, упоминают различные славянские племена. События эти, вовлекшие в свой водоворот почти всех славян балтийского приморья, позволяют лучше понять предысторию Руси. Они выводят нас из привычно-замкнутого пространства вечного российского спора «норманизма» с «антинорманизмом» на простор истории всей Славянской Европы. И позволяют увидеть славян — неожиданно для привычных воззрений — не как статистов или жертв, а как активных участников происходящего. При неоценимой помощи археологических источников этого и последующего времени мы видим подлинную роль славянских племен в потрясениях, охвативших Север в начале викингской эпохи. Итак, примерно в первой трети VIII в. в землях будущей Северной Руси правил князь, которого саги называют «Радбард». Имя это явно не скандинавское. За ним легко распознается славянское «Ратобор» (Ратибор) или «Радобор».[1976] Предпочтительнее «Ратибор» — имя, известное на Руси и частое позднее среди новгородской знати. Оно, кроме того, имеет краткую форму «Ратбор». Владения Ратибора отождествляются с Русью, «Гардарики», иногда даже прямо с «Хольмгардом» — Новгородом.[1977] И то, и другое — позднейшие осмысления восходящего к VIII в. предания. Но осмысления в целом верные. Путь к владениям «Радбарда» из Скандинавии вел по морю до Финского залива[1978] — значит дальше в Неву к Ладожскому озеру и Поволховью. Итак, в Ратиборе логично видеть князя именно словенского, княжившего к югу от Ладожского озера, в Любше. В принципе он мог приходиться сыном и наследником основателю Любши, «Волху», приведшему словен в конце VII в. на новые земли и основавшему их княжение. В то время краткосрочным гегемоном Скандинавии оказался конунг Ивар Широкие Объятия из датского рода Ильвингов. Он приходился племянником конунгу Сканей (ныне Южная Швеция) Гудрёду. Гудрёда убила собственная его жена, дочь объединителя Швеции, конунга Упсалы Ингъяльда Коварного. До этого Гудрёд по ее наущению расправился со своим братом Харальдом, конунгом островов Сьяланд и отцом Ивара. Ивар в отместку убил Ингъяльда с его дочерью и захватил Упсалу. С этого началось строительство недолговечной викингской «державы», которое и принесло Ивару многозначительное прозвище. Ивар совершал набеги до самых границ владений Ратибора. Он собирал «дань» с прибалтийских земель.[1979] В «широкие объятия» Ивара в итоге попал и удел его сородича и зятя Хрёрика Метательное Кольцо, правителя данов и ютов из рода Скъёльдунгов. Вдова Хрёрика, Ауд, бежала от своего отца с юным сыном Харальдом. В своем бегстве она достигла владений Ратибора. Тот принял у себя изгнанницу и взял ее в жены. От этого брака родился сын Рандвер. Харальда, который после получил прозвание Боезуб, доблестного и сильного воина, Ратибор принял на воспитание. Ивар в конечном счете решил напасть на нежеланного зятя. Со своим флотом, собранным со всех плативших дань восточных земель, он выступил против Ратибора. Но в Финском заливе свеев, данов и их союзников застигла буря. Ивар утонул. По другой версии, война между славянами и свеями все же произошла, причем Боезуб сражался на стороне своего нового народа. Свеи были побеждены. После гибели Ивара Харальд с благословения приемного отца отправился на запад. Сначала на Готланде или на островах Сьяланда и в Сканей, а затем по всем землям данов и ютов его признали конунгом. Свейских племенных конунгов Харальд разбил и подчинил своей власти.[1980] Харальд, «покорив» большую часть норманнов, обратился к набегам на соседние племена. Среди прочих соседей ему вроде бы удалось взять «дань» с каких-то славян Южной Прибалтики. Речь идет почти наверняка о ближайших к Ютландии ободричах. Их вожди обязались помогать Харальду войском.[1981] С ободричами завязывались все более тесные связи. Вторым сыном Ауд, от Ратибора, был, как уже говорилось, Рандвер. Сохраненное сагами имя его, так же как у отца, не скандинавское. Учитывая происхождение, можно предположить составное славяно-германское образование. Но можно и увидеть нечто вроде целого славянского имени «Радомер», «Радомир» или «Ратимир (Ратмир)», переосмысленного и искаженного на свой лад скандинавами. Первый компонент, «Rand-», скорее тот же, что и «Ra?— » у отца — следовательно, все же «Ратмир»? Рандвер не остался на родине, а отправился по следам Харальда на Запад. Он присвоил себе часть дедовских владений в Дании. Но основное время он, как и Харальд, проводил в викингских набегах. Рандвер женился на Асе, дочери норвежского племенного конунга Харальда Рыжебородого, от которой имел сына Сигурда Кольцо. Последний позже осел в свейской Упсале.[1982] Определять точные границы племен, объединенных «властью» бродячих конунгов вроде Харальда и Рандвера, вожаков викингских дружин, — занятие не слишком перспективное. В сагах откладывались воспоминания об их претензиях, а не о реальной власти. Вместе с тем можно предположить, что одной из главных баз Рандвера являлась свейская Бирка — богатый вик на восточном, обращенном к Балтике побережье. Бирка была связана и с Поволховьем, и с Аландами. Здесь уже в VIII в. отмечены курганы, напоминающие словенские сопки.[1983] Что касается «Гардарики», то наследником Ратибора в сагах предстает его племянник по сестре (hnef). Он носит скандинавское имя Рёгнвальд[1984] — но позднее на Руси это имя легко славянизировалось и толковалось как «Рогволод». Имя Рёгнвальда свидетельствует о том, что брак Ратибора и Ауд открыл путь к смешению славянской и скандинавской знати. Сестра князя вышла замуж за знатного скандинава (кого-то из родни Ауд?). В условиях, когда за морем действовали и «правили» славянин по отцу Рандвер и славянский воспитанник Харальд, такое смешение становилось естественным. Оно проложило «подданным» Харальда, свеям, дорогу на восток. Здесь к сохраненным памятью скандинавов преданиям присоединяется уже и археологический материал. Как раз в середине VIII в., в годы «правления» Рандвера и Харальда в Скандинавии, появляются первые материальные приметы норманнов на будущем Русском Севере. Чуть южнее Любши через Волхов, на противоположном берегу вверх по течению, в реку впадает ее приток — Ладожка. Исходное финское название ее — Alode-joki, Нижняя Река, — хорошо соотносится с представлением о низовьях Волхова как о «Низе» вообще, уделе Велеса.[1985] У впадения Ладожки в середине VIII в. возникло тогда еще неукрепленное поселение, которому суждено было сыграть немалую роль в истории Русского Севера. Славяне позднее называли это поселение Ладогой, скандинавы — Альдейгьей, Aldejgja. Оба названия восходят к финскому названию реки, Alode-joki, причем славянское название — через посредство скандинавского.[1986] Ничего удивительного в этом нет. Первыми насельниками Староладожского Земляного городища стали именно пришельцы из-за моря. В 753 г. на мысу, образуемом Ладожкой и Волховом при широкой дельте, которую образует слияние «Нижней Реки» с «Верхней», Yla-joki (слав. Заклюка), появилась деревянная застройка. Поселение захватило затем и северный берег Ладожки. Общая площадь составила 4–5 га. Застройку составляли в основном «большие дома» скандинавского типа, возведенные с использованием каркасно-столбовой техники, с очагами в центре. Площадь таких домов — 72 м2. Среди них отмечен единственный сруб, но также с очагом в центре. Он меньше размером — 30 м2. Всего домов на поселении насчитывалось пока до десятка. Каждый дом являлся центром двора-усадьбы, площадью свыше 200 м2. Самым ценным открытием археологов в Ладоге являлась мастерская металлурга. Мастер, работавший в этой «кузнице», являлся и кузнецом, и литейщиком-ювелиром. Среди его инструментов имелся набор из 7 шарнирных клещей разной длины, в том числе с ограничителями, шилья, миниатюрные наковальни, зубила, сверла для дерева, ювелирные молоточки и ножницы, оселок. Все эти инструменты хорошо известны по скандинавским находкам. Ремесленник изготавливал оружие, ладейные заклепки, а также украшения. Орудия, спрятанные мастером при гибели первоначальной Альдейгьи, найдены вместе с бронзовым навершием, изображающим типично скандинавский сюжет — бог Один со своими вещими воронами. Помимо обработки металлов, в Альдейгье занимались и изготовлением янтарных бус.[1987] Первопоселенцами Альдейгьи являлись свеи, приплывшие с Аландских островов и издавна общавшиеся с финнами по берегам залива. С самого начала жили в возникшем вике и финны, от которых воспринято его название. Южнее поселения располагался грунтовый могильник с сожжениями.[1988] Селились в Альдейгье, однако, и славяне. Вся керамика древней Ладоги — славянская, «ладожского типа».[1989] Это говорит о том, что женщины Альдейгьи с самого начала — в основном славянки. Скандинавские мореходы, торговцы и ремесленники, устроившие ладейную пристань в низовьях Волхова, брали в жены словенок. За смешением высшей знати следовало смешение массовое. Скандинавов было гораздо меньше, чем славян и финнов, и потому норманнский элемент растворялся. Скандинавская обрядность и скандинавские предметы проникают в сопки. В сопках Приладожья появились треугольные вымостки из камня, сложенные из валунов стены.[1990] На севере, напротив Любши, воздвигается грандиозная Полая Сопка на каменном остове — соперница старой гробницы словенских князей-волхвов на юге, в Порогах. Первоначальная насыпь Полой вся сложена из камня. В верхней части этой сопки имелось по меньшей мере одно погребение с оружием (двушипным дротиком). При диаметре в 30 м она достигала 12–14 в высоту.[1991] Альдейгья могла существовать только с согласия Любши, но не в противостоянии ей. Скандинавы прошли мимо Любши на «Нижнюю Реку» с согласия любшинской знати. Точно так же с согласия словен вершились и браки, положившие начало населения вика. Ни одна ладья не могла пройти к пристани или отплыть из нее к Балтике мимо Любши. Любша прикрывала Альдейгью с севера — но и надежно ее контролировала. Союз выгодный для обеих сторон. Скандинавские ремесленники и торговцы сбывали свои товары словенам, служили им посредниками за морем. Словене, в свою очередь, сбывали им ценности, прибывавшие от далеких восточных финнов. Словенские мастера осваивали подчас новые для них навыки работы по металлу. Но спокойное процветание Альдейгьи длилось недолго. В викингском походе на запад безвременно и неожиданно погиб Рандвер.[1992] Харальд Боезуб присвоил себе все наследство Ивара. Но вскоре у него появился соперник — Сигурд Кольцо, сын Рандвера. Между двумя претендентами на лидерство в викингском мире разразилась война. Как утверждает предание, Харальд сам разжигал ее всеми силами. Чувствуя приближение старости, конунг якобы хотел погибнуть в бою, дабы отправиться ко двору своего покровителя Одина, а не в подземный мир. На стороне Сигурда выступил его сородич с востока — Рёгнвальд, племянник Ратибора.[1993] Харальд, однако, как утверждает «Сага о Скъёльдунгах», также решил искать поддержки на востоке. Он будто бы призвал на помощь, наряду со своими «данниками», саксами и обитателями прибалтийского «Востока», рать из Киева — «Каенугарда». На первый взгляд это известие производит впечатление очевидного вымысла.[1994] Около 765 г. Альдейгья подверглась вражеской атаке. Мастер-кузнец спешно спрятал свои инструменты и покинул мастерскую. Она и другие постройки пристани сгорели. Любша, возможно, тоже пережила нападение — но устояла. Враг шел с юга, и после первой победы обосновался в разоренной Альдейгье. Именно тогда она в полном смысле становится Ладогой. Население теперь — преимущественно славяне, строившие небольшие, порядка 36 м2, квадратные избы с печами в углу. Их было построено порядка 10–20. Общая численность населения не превышала двух сотен. Кроме домов в этом слое Ладоге археологами найден выстроенный «на пнях» амбар. На месте кузницы завоеватели устроили «летнюю кухню». Но ремесленное производство в Ладоге не прекратилось. Теперь здесь отливали украшения из сплавов олова — украшения, родиной которых являлось колочинское Левобережье Днепра. Украшения эти пользовались спросом у кривичей и сопредельных с ними финнов. На «чудских» городищах Камно и Рыуге обнаружены точно такие же литейные формочки, как в Ладоге. Предполагают приход новых поселенцев с Верхнего Днепра по Волхову.[1995] Эта информация вполне может быть сопоставлена со сведениями «Саги о Скъёльдунгах» о рати из «Каенугарда», «града киян», призванной Харальдом, но не участвовавшей затем в скандинавской войне. Харальд, проведший часть молодости в доме словенского вождя, прекрасно представлял себе ситуацию на востоке. Стремясь ослабить словен Рёгнвальда, он обратился за помощью к их основным врагам — кривичам и «чуди». Основная кривичская рать, призванная Харальдом, пришла с верховий Днепра и Ловати. Она представляла из себя не собственно племенное ополчение, а разноплеменный отряд авантюристов. При этом к ним присоединились привлеченные жаждой наживы и поиском новых мест люди из более южных краев. Почему бы и не «кияне»? — не из самого Киева, так из Северского Левобережья. Именно тогда и словене, и скандинавы могли получить первые сведения о «граде киян» далеко на юге. Эта древняя форма названия, неизвестная летописям, к слову, и явилась источником для скандинавского K?nugard.[1996] Сборная община-дружина пришедших с юга славян и «чуди», закрепившаяся в Ладоге, держала в напряжении округу, в том числе Любшу. Но Рёгнвальд все-таки отплыл на помощь двоюродному племяннику за море. И принял участие в битве на берегу Бравалльских полей в Восточном Гаутланде — одной из самых прославленных битв на заре эпохи викингов. По преданиям, сохранившимся у средневековых данов, норвежцев и свеев, к сражению собралось несколько тысяч кораблей. Не столь уж невероятно, если учитывать германо-скандинавские, балтские и славянские ладьи всех тогдашних размеров, включая и челны-«однодеревки». Славяне, если верить сказаниям о Бравалле, бились на обеих сторонах Причем разделились как восточные славяне, так и западные. За Харальда как «щитовая дева» и знаменосец сражалась воительница Висма, окруженная «виндскими» воинами-берсерками. Эта картина заставляет вспомнить славянские воинские братства с единственной «девой» среди мужчин, описанные в фольклоре. На стороне Сигурда бился «Дук Винд». Его имя — искажение-сокращение от какого-то славянского на «Туг-». Рёгнвальда Сигурд поставил во главе своего авангарда. Там славянский князь и погиб, сражаясь за своего родича против фриза Убби, сторонника Харальда. Позднее в сражении пала и Висма, которой легендарный датский воитель Старкад, один из разжигателей распри, отрубил руку, державшую стяг.[1997] Конечно, в «Песни о Бравалльской битве», отраженной и в «Саге о Скъёльдунгах», и у Саксона Грамматика, вряд ли все достоверно. Но она отражает события, действительно потрясшие всю Скандинавию. Потому если масштаб битвы, в которой будто бы участвовали все народы Севера, и преувеличен, то не слишком — именно так она и представлялась скандинавам. Недаром после нее агрессия викингов все больше обращается вовне, против стран Запада, превращаясь в «бич Божий» для франков, кельтов и англосаксов. Точно датировать Бравалльское сражение мы не в состоянии. Но произошло оно где-то около 770 г. — во всяком случае, ранее 776 г., когда верховным конунгом данов являлся уже Сигурд. Итак, победу в битве одержал Сигурд Кольцо, сын славянского княжича Рандвера. Он стал родоначальником позднейших королей Дании и Швеции. Харальд Боезуб погиб, как и желал этого. В Скандинавии вновь возникла племенная федерация, объединившая датские, ютские и свейские племена. Она была не прочнее двух предыдущих, Иваровой и Харальдовой. Вся власть на местах оставалась за племенными конунгами. Но «общий» вождь гарантировал, по крайней мере, относительный внутренний мир. И консолидацию для внешней агрессии. Происхождение Сигурда и его союз со словенами гарантировали, что агрессия эта не обратится против них. Словенская знать воспользовалась победой своего родича, чтобы выставить «киян» и их союзников из Ладоги. Около 780 г. поселение вновь подверглось пожару. В отстроенной Ладоге жили теперь и славяне, и финны, и приплывавшие из-за моря скандинавы. В основном население остается славянским, строившим дома с печами в углу. Но теперь это были уже не пришельцы с юга, а словене — хотя в окрестностях, судя по длинным курганам, жили и кривичи. Продолжаются захоронения в сопках, сочетающих и славянскую, и финскую, и скандинавскую обрядность.[1998] За освобождением Ладоги последовало новое наступление словен на земли кривичей. Словене расселяются на запад, к границам Псковщины. В конце концов, длинные курганы на Псковщине исчезают, сменяясь сопками. Местные славянские жители влились в состав волховского племенного союза, восприняв его культуру. Словене укрепляют против «чуди» поселения в окрестностях Пскова. Вокруг этих новых градов вырастают могильники из сопок.[1999] Впрочем, память о кривичском происхождении и племенная автономия кривичей в Изборске долго сохранялись. Кривичи, рассеянные в Поильменье, ориентировались по-прежнему на свою «столицу». Изборск не уступил Любше, став едва ли не более важным центром словенского — теперь единого словенско-кривичского — Севера. Все это заставляет думать скорее о полюбовной договоренности словен с ослабленными ладожской войной одноязычными соседями. Словене усиливали Изборск в полувраждебном «чудском» окружении и своей людской силой, и своими навыками землепашества. Кривичи же признавали, больше на словах, верховную власть словенских вождей и словенский религиозный культ, «веру волхвов». Последнее и отразилось в переходе от длинных курганов к сопкам. Тем временем в Ладоге разворачиваются события, имевшие важнейшее значение для истории европейского Севера. На основе археологических данных ход их можно представить так. Отвоевав Ладогу, словене получили от побежденных какие-то сведения о богатстве южных земель, — прежде всего, Хазарии. Данные о торговых операциях хазарских и арабо-персидских купцов на Волге могли и ранее доходить до Поволховья через восточных финнов. Теперь словене, чьи крайние восточные выселки уже достигали волжских верховий, проявляют инициативу в налаживании связей с Востоком. Результат не замедлил сказаться. Первой, на «разведку», прибыла в Ладогу по Волге и Волхову компания мастеров-стеклоделов из прикаспийских областей. Этими искателями наживы в землях северных «варваров» двигал трезвый расчет. Высокий спрос славянской знати на стеклянные изделия был хорошо известен по опыту Поочья и Левобережья Днепра. Ладога открывала как будто возможность общения сразу со множеством неведомых северных племен. Желавшие перетянуть восточную торговлю с Оки словене стремились представить свой вик в наилучшем свете. Естественно, что производство товара на месте резко повышало прибыль. Уже в 780-х гг. на месте бывшей кузницы и «кухни» временных захватчиков выстроили стеклодельную мастерскую. В ней стекло варили и обрабатывали по персидской технологии. Для варки стекла пришлые мастера использовали золу солончака, регулярно подвозимую из хазарской Степи по Волжскому пути. Успех первого предприятия открыл путь торговле с Востоком. Словенской племенной верхушке удалось нацелить восточных купцов в выгодном себе направлении. Уже в конце VIII в. значение Волго-Окского пути несколько снижается, а по Волхову торговля идет все оживленнее. Из восточных стран и Хазарии поступают стеклянные и сердоликовые бусы, лунницы «салтовских» типов — и арабское серебро. На него обменивали выменянную на стеклянные бусы пушнину, что могло приносить фантастические, до десятикратных, прибыли торговцам.[2000] Насельники Ладоги оказались гораздо более восприимчивы к денежному обращению, чем славяне юга Восточноевропейской равнины. И словене, и скандинавы высоко ценили серебро как драгоценный металл. После знакомства с арабской монетой серебро быстро превращается в первобытные «деньги», в общий эквивалент. Монету не брали ради номинала, а ценили на вес. В этом отношении столь же ценились местные серебряные шейные гривны — именно название «гривна» получает позже денежная единица Руси. В Полужье обнаружен клад из таких гривен VIII в. А в Ладоге — первый на Севере клад арабских дирхемов, датируемый по младшей монете временем после 786 г.[2001] Основную выгоду, — по крайней мере, от получения «престижных» восточных редкостей, — извлекала из торговли Любша. Именно здесь оседала большая часть привозимых стеклянных бус.[2002] Но Ладога являлась производственным и собственно торговым центром — и в этом было ее очевидное преимущество. Вскоре сами славяне и скандинавы из Ладоги стали отправляться за серебром на Восток, желая перехватить у чужеземцев их торговые сверхприбыли. Начинали они как посредники ладожских стеклоделов в сношениях с компаньонами-соотечественниками. Но только начинали. При этом пушнина скупалась у получавшей ее в качестве дани любшинской знати за то же самое стекло, гораздо более дешевое в серебряном эквиваленте. Стекло доставалось Любше. Серебро — Ладоге. Действия словенской знати и ее скандинавских партнеров по налаживанию торговли с Востоком имели революционное — без преувеличения — влияние на судьбы всей Северной Европы. По сути, произошел целый экономический переворот, открывший новую эпоху. В считанные годы после освобождения Ладоги и открытия Волжского пути восточное серебро поплыло не только в низовья Волхова, но и за Балтийское море. Восток нуждался в разных товарах Севера и охотно за них платил разным народам. В денежное обращение вовлекались все новые племена — как славянские, так и германские. Это обогащало волховских купцов и аристократов. Главным их торговым агентом в Скандинавии выступал сам верховный конунг Сигурд. Раньше всего, с 780-х гг., принимали арабское серебро через Ладогу вики Восточной Швеции — Бирка и другие. Свейская Бирка, столица независимых племенных конунгов, успешная соперница Упсалы, быстро превратилась в главный центр восточной торговли. Получал восточное серебро и Готланд.[2003] Но помимо скандинавов, у ладожской торговой знати имелись и иные партнеры, и иное направление интересов. Вторым направлением внешних связей в те же последние десятилетия VIII в. оказывается южный берег Балтики, а именно низовья Одры и Лабы.[2004] Ничего удивительного — отсюда некогда вышли в основной своей массе предки словен. Словенские купцы плыли по следам своей исторической памяти. И ободричи, и руяне, и велеты включились в оборот восточного серебра с той же легкостью, что и скандинавы. Таким образом, в новую систему торговли, центральными звеньями которой являлись Любша и Ладога, оказались вовлечены и юго-западные, и северо-западные берега Балтики. Скандинавы, естественно, не без ревности следили за таким раздвоением изливающегося на них денежного потока. Особенно это касалось данов, пока крайне слабо вовлеченных или вовсе не вовлеченных в восточную торговлю. Славянское происхождение вождя датско-свейской федерации племен, Сигурда Кольцо, давало шанс поставить под свой контроль и южную ветвь возникшего торгового пути. Но, вопреки этому обстоятельству, отношения скандинавов с ободричами после Бравалля складывались отнюдь не мирно. Касалось это, в первую очередь, ютов. Они признали зависимость от Сигурда и управлялись собственными племенными конунгами из Скъёльдунгов, в том числе сыновьями Харальда. Ущемленные амбиции побуждали Скъёльдунгов время от времени домогаться дани от ободричей — безо всякого успеха. Те, в свою очередь, успешно пользовались ослаблением Ютландии после бравалльской катастрофы. Часть «виндов» сражалась при Бравалле на стороне Харальда. Потому некоторые его сторонники, не желавшие признавать власть Сигурда, могли найти приют в близлежащей Вагрии. Из таких людей был некий Витне — «дан по рождению», который якобы «держал власть среди славян». Согласно Саксону Грамматику, он присоединился к заговору датской знати против Али, родича Сигурда и его наместника в Сьяланде. В результате заговора Али погиб.[2005] Не исключено, что Витне действительно находился в родстве с кем-то из славянских князей и входил в высшую знать Вагрии. Саксон сообщает и другие предания о войнах со славянами в Ютландии. При этом ободричи выступали чаще нападающей, чем обороняющейся стороной. Они отвечали небезуспешным ударом на каждый брошенный им вызов. Так, ютский конунг Хамунд, вроде бы сын и наследник Али, потребовал от славян дани. Те в ответ под предводительством семи своих князей вторглись в Ютландию. Хамунд с большим трудом удалось разбить их и вроде бы даже взять искомую «дань». Другой ютский конунг Сигурд тоже имел дело со славянами — и совсем безуспешно. Напав сначала на них, он разбил «простонародье, дерзнувшее сражаться без вождя». Но в ответ славяне во главе с одним из своих князей вторглись в Ютландию и разгромили Сигурда в битве при Фунене. Затем конунг потерпел поражение еще в нескольких битвах и потерял свои владения.[2006] Войны с данами и ютами отвечали политическим интересам ободричей. Сигурд Кольцо во главе подвластных ему племен стоял на пути завоеваний Карла Великого. Даны поддерживали борьбу саксов против франкского короля. Ободричи же в 780-х гг. надолго оказываются союзниками франков. Политические и экономические отношения племен северного приморья от франкских рубежей до Волхова стягивались в один прочный узел. На рубежах империи КарлаВ первые годы правления Карла Великого подчинение славян, расселившихся во Франконии и Тюрингии, королевской власти уже завершилось. Славян обложили податями в пользу короны, епархий или отдельных вотчинников. Их земли свободно жаловались монастырям. Между 776/796 гг. знатный франк Эгилольф передал Фульдскому монастырю полученные в наследство от отца земли славян в Хейду и Труоснастети на Верхнем Майне.[2007] Сопернику Фульды — Херсфельдскому монастырю майнцский архиепископ Лулл между 769/775 гг. пожаловал славянское поселение. Здесь речь идет о Тюрингии, о землях по левому берегу Заале. Затем, после 775 г., сам Карл добавил к этому пожалованию еще несколько десятков славянских наделов. Включение в систему феодального Франкского государства ускорило распад общины у славян Тюрингии. Франкские чиновники выделяли каждой семье надел — хубу, с которой владельцы должны были выплачивать поземельную подать. В деревне Бискофесхузун было 30 таких хуб. Минимальный размер хубы определялся в 7 га — так что все общинные угодья делились теперь между отдельными общинниками. Община могла быть расчленена — часть хуб переданы другому владельцу. Так, Карл выделил Херсфельдскому монастырю 19 славянских хуб из шести славянских или славяно-германских сел Тюрингии, а Лулл — 14 из селения Родестейн на Заале. Вместе с тем славяне сохраняли свой племенной строй. Все «виниды» в Вюрцбургской епархии делились на две больших племенных группы — майнские и редницкие, по названиям рек, на которых жили. При этом, несмотря на усилившийся государственный и феодальный контроль, расселение славян в Тюрингии продолжалось. Так, уже после 775 г. славяне появились в селении Суабехузен. Всего из наделов, пожалованных Карлом Херсфельдскому монастырю, славяне занимают 49 — более 10 %.[2008] В условиях разворачивающейся с 772 г. борьбы за Саксонию непосредственная угроза возникала и для соседних славян. Первое столкновение с ними произошло в 780 г. В том году король совершил поход к Эльбе. В ходе этого похода он обеспечил временное повиновение саксов и фризов, которые согласились подчиниться франкам и принять крещение. Дойдя до реки в районе впадения в нее притока Оре, Карл принудил признать свою власть и расселившихся там славян — древан. Обеспокоенные появлением франков на Лабе, ободричи согласились заключить с Карлом договор о «союзе». С точки зрения франков, это одно означало повиновение заречных славян. Но на самом деле ободричи, напротив, обеспечивали себе безопасность и независимость. Признав власть Карла над левобережьем, они получали возможность использовать франков для борьбы со своими врагами — данами и велетами. Славяне «великим множеством» даже обещали Карлу принять крещение, — правда, серьезных последствий это не имело. Приняв «многие тысячи» славян под свою «власть», Карл удалился.[2009] Ободричи заключили с Карлом союз. Но оставались бывшие союзники — сербы, которых франки после битвы в Вейтахабурге превратили в своих врагов. В 782 г. сербы сравнительно «немногочисленным» отрядом вторглись в Тюрингию, а затем в Саксонию. «Разграблениями и пожарами» они «опустошили некоторые местности». Столкнувшись с этой угрозой, Карл отправил против них с франкским и саксонским войском трех своих приближенных — Адальгиза, Гейло и Ворада. Они должны были «смирить строптивых славян». Но этот поход оказался сорван. Саксы под предводительством племенного герцога анграриев Видукинда, зятя Сигурда Кольцо по сестре, восстали против франкского владычества. Войску, отправленному против славян, пришлось иметь дело с саксами. Произошла ожесточенная битва на горе Зюнтель, в которой пали Адальгиз и Гейло, но саксы все же были разбиты. Сербы же остались совершено безнаказанными.[2010] Последовал новый раунд войны за Саксонию. Карл беспощадно подавлял сопротивление саксов. Но борьба шла с переменным успехом. Саксов активно поддерживали даны и юты. Саксонская область к северу от Эльбы, на границе с Ютландией, где жило племя нордальбингов, стала надежным оплотом сопротивления. Только в 785 г. закрепившийся здесь Видукинд вынужден был признать власть Карла. Но борьба с Сигурдом и его саксонскими союзниками не закончилась. Большая часть Саксонии повиновалась Карлу. Но то и дело вспыхивали восстания. Даны же беспокоили своими набегами побережье, притом поддерживая и разжигая любое недовольство. В этих условиях разразилась очередная война между велетами и ободричами. Набеги велетов на ободричей и так продолжались «непрестанно». Но теперь ободричи решили использовать новый союз и обратились за помощью к Карлу.[2011] Старшими среди «остальных королей» ободричей в то время являлись Вышан и Дражко. Из них Вышан возглавлял весь союз и сидел, следовательно, в Велиграде. Верховным же главой велетов и стодорян являлся уже упоминавшийся Драговит из Бранибора, некогда союзник Карла Мартелла. На тот момент Драговит «далеко превосходил» других велетских «царьков» своей знатностью и возрастом.[2012] Имя Драговита перекликается с именем Дражко. Несмотря на постоянные войны между велетами и ободричами, нет ничего невероятного в их свойстве или родстве. Тем более что Драговит происходил не собственно из велетов, а из стодорян, дальних сородичей ободричей. У Карла имелись и собственные причины для вторжения в земли велетов. Подобно сербам, воинственные велеты не боялись беспокоить новые франкские границы. Не только «союзники» ободричи, но и собственно «подвластные» франкам древане и саксы страдали от их набегов. Велеты попросту не заметили расширения границ некогда союзного им Франкского королевства. А равно и того, что прежние враги франков саксы — отныне их подданные. «Обычно», как прежде, так и теперь, велеты «ненавистью преследовали», «войной донимали и тревожили» разноплеменных западных соседей — и славян, и германцев.[2013] В 789 г. Карл выступил в поход против велетов. К союзу против них король привлек не только ободричей, но и недавних врагов — сербов. Последних также беспокоили велетские войны. Стодорское княжество Драговита являло для Белой Сербии основную угрозу. Поход как будто затевался как грандиозное мероприятие, призванное навсегда покончить с велетской угрозой. Карл вместе с франками перешел Рейн близ Кёльна, вступил в Саксонию, здесь собрал войска саксов и двинулся к Эльбе. Через реку он навел два моста, один защитив с обеих сторон валами. После переправы он оставил стражу охранять укрепленный мост и двинулся к Бранибору. Туда же направился флот фризов, прибывший по Северному морю и Эльбе. Фризы свернули в Хафель и у вражеской столицы соединились с королем. Одновременно с Карлом в земли велетов вторглись рати ободричских князей во главе с Вышаном и Дражком, а также сербы. По пути к Бранибору и они присоединились к королю. Карл приказал «все опустошить огнем и мечом». Драговит был напуган внезапным вторжением франков. Вопреки тому, что велеты народ «воинственный и рассчитывающий на свою многочисленность», он почел за лучшее решить дело миром. Не дожидаясь прямого военного столкновения, велетский князь вышел из града и прибыл в лагерь наступающего Карла. Драговита сопровождали его сын и вся дружина. Князь велетов напомнил Карлу о своей договоренности с Мартеллом и о признанных франками правах на княжение. Карл требовал формального «подчинения» и отказа от нападений на своих союзников. Драговит вынужденно согласился. Он поклялся сохранять «верность королю и франкам» и вручил Карлу заложников по выбору самого короля. Карл, в свою очередь, признал власть Драговита над велетами и гарантировал ему безопасность на будущее. Вместе со знатными заложниками из Бранибора Карл двинулся на север, в глубь велетских земель. Он прошел до впадения в Балтику реки Пене, рукава Одры. Именно из этих земель подвергался набегам ободричский Велиград. «Другие славянские знатные лица и царьки», следуя примеру Драговита, «подчинились» Карлу. Карл взял со всех велетских князей заложников, по собственным следам вернулся к Эльбе и переправился на западный берег.[2014] Итоги похода 789 г. неоднозначны. С одной стороны, затеваемая грандиозная война вылилась просто в грандиозную военную демонстрацию. Велеты сохранили и независимость, и многочисленную военную силу. «Подчинение» являлось чистой формальностью, разве что немногим меньшей, чем во времена Мартелла. Карл не сметил ни одного славянского князя. Придворный богослов Алкуин надеялся, что удастся склонить велетов к христианству. «Принимают ли вильцы или вионуды, которых недавно приобрел король, веру Христову?» — спрашивал у кого-то из саксонских аббатов уже осенью 789 г.[2015] Однако велеты, как отмечает другой источник, оказались «весьма привержены язычеству».[2016] Впрочем, от них не отличались и уже союзные франкам ободричи. С другой стороны, велеты все же согласились оставить в покое всех западных соседей. Союз с Франкским королевством подразумевал помощь франкам в их войнах. Первое подрывало основы существования велетского союза и не могло не вызвать определенного разлада в велетской знати. Ни о каких активных действиях велетов мы в 790-х гг. не слышим. Второе же создавало угрозу войны с данами, врагами франков. Эта угроза, насколько мы можем судить, в течение 790-х гг. воплотилась. Нападение данов совпало с восстаниями покоренных племен. Последних вдохновило бескровное поражение, нанесенное велетам и стодорянам франками. И это еще одна причина, по которой мы о велетах после 789 г. ничего не слышим. Члены «федерации» Сигурда, уппландские свеи и даны с Борнхольма,[2017] в конце VIII в. появляются на Руяне и в Поморье за Одрой. Именно в этих областях местные племена, руяне и поморяне с брежанами, противостояли покорившим их некогда велетам. Славяне с охотой нанимали скандинавские дружины для защиты от велетов. Даны и свеи оседали среди новых союзников, завязывая искомые торговые связи. Это позволяло им взять, наконец, хотя бы под частичный контроль и южное направление налаживающейся ладожской торговли.  Фрагмент керамического раннеславянского изделия. VII–IX вв. В конце VIII в., одновременно с появлением данов на Руяне, здесь исчезают следы присутствия велетов и начинается строительство собственных градов. Можно заключить, что руяне с помощью скандинавов выбили велетов со своего острова. В их числе — Аркона, Ругард. Аркона, будущая столица руян, возведенная на высоком мысу над Балтикой, пока еще была очень невелика. Эти грады являлись центрами политическими, а не экономическими. Наряду с ними вырастают подчинявшиеся им торговые поселки, наподобие скандинавских виков. Старейший из них на Руяне — Ральсвик на островке перед морской бухтой, площадью около 10 га. Здесь располагалась торговая пристань, работали ремесленники. Ральсвик быстро стал важнейшим на Руяне центром торговли со Скандинавией. Именно в Ральсвике конца VIII в. появилась местная гончарная керамика — фрезендорфская, которая позже вытеснила лепную. Это выпуклые сосуды с широким горлом, довольно богато орнаментированные.[2018] В конце VIII в. скандинавы появляются и в Поморье, оседая в прибрежных торговых поселениях. Здесь тоже местные племена сбрасывали владычество велетов. Но возникновение здесь градов и торговых «виков» связано не только с этим и в малой степени со скандинавами. Ладожских купцов теперь меньше интересовали охваченные войнами земли между Эльбой и Одрой. В балтийскую торговлю начинает вовлекаться более восточное, более близкое к самой Ладоге географически Поморье. Впрочем, началось его торговое освоение с более привычного приезжим, в 789 г. еще велетского низовья Одры. Именно оно в IX в. стало основным средоточием экономических и политических сил поморских племен. На рубеже VIII/IX вв. свеи переправились с Руяны на материк в Менцлине, в устье Пене, в тех самых местах, где Карл Великий достиг моря. Здесь на склоне дюны появился торговый поселок свеев и поморян площадью примерно 10 га. Менцлин, первый «вик» в низовьях Одры, торговал со всеми берегами Балтики, а также с Фрисландией. Скандинавы принесли сюда обряд погребения в курганах. Под курганными насыпями останки сожжений укладывали на каменные ложа в виде ладей. Славяне смешивались со скандинавскими пришельцами, перенимая их навыки и обычаи.[2019] Целая сеть градов возникает на рубеже VIII–IX вв. на восточной границе тогдашнего славянского расселения, между реками Регой и Парсентой. У устья Парсенты, в районе будущего Колобжега, обнесли новым валом Кенджино. Этот центр гончарного производства дал название кенджинской керамике. Град занимал площадь 7500 м2, превышая размерами более раннюю столицу поморян — Голанч. Среди окружавших Кенджино неукрепленных приречных сел был и будущий Колобжег.[2020] Подлинной столицей Поморья в то время стал уже новый град — Барды. Здесь также трудились гончары — изготовлявшие керамику бардыского типа, идущую на смену кенджинской. Барды также появились еще в VIII в. Это почти уникальный для тех лет образец славянской крепости, состоящей из двух смежных градов. Один из них занимает площадь 5300 м2, другой — 11 300.[2021] Обычно двухчастные грады делились на «княжескую» и «сакральную» части. Строительство такого града в Поморье отражает соправительство духовного (владыки) и военного (воеводы или князя) главы в поморском племенном союзе. Некоторые из важных в будущем центров Поморья появляются именно в конце VIII в., пока как неукрепленные. Так, на древнем, еще лужицкой культуры, селище славяне основали нынешний Щецин. На острове реки Дзивны, впадающей в море рядом с Пене, возник неукрепленный торговый поселок Волынь (Волин), где почти сразу осели и скандинавы.[2022] Карл между тем продолжал свою борьбу за Саксонию. В 792 г. здесь вновь вспыхнуло восстание. Саксы отреклись от христианства и обратились за помощью к соседним язычникам. Саксов поддержала не только часть фризов, но и сопредельные славяне.[2023] Это были, в первую очередь, древане, жившие на левобережье Лабы и подчиненные ранее Карлом. Ободричи сохранили верность союзу с франками. Опасаясь цепной реакции, Карл принял меры по укреплению франкской власти над славянами других включенных в королевство областей. Среди прочего по-настоящему озаботился он, наконец, обращением хотя бы подвластных славян в христианство. В грамоте Вюрцбургской епархии от 793 или 794 г. король предписал выстроить «в земле славян, которые живут между Майном и Редницем и зовутся майнцскими и редницкими винидами… церкви, сколько сможет иметь тот народ, только что обращенный в христианство». В результате во Франконии учредили для славян 14 церковных приходов.[2024] В августе 794 г., после возвращения Карла из очередного саксонского похода, его арьергард вступил в бой с древанами. Сражение закончилось успешно для франков. Славяне потеряли «много воинов».[2025] Но покорить славян франкам пока не удалось. Главными врагами франков оставались нордальбинги, постоянно поддерживаемые данами Сигурда. В 795 г. им удалось добиться большого успеха — в бою с ними погиб Вышан, верховный князь ободричей. Он направлялся к Лабе на соединение с действовавшим в Саксонии Карлом, по призыву короля. Но саксы подстерегли его в засаде, захватили врасплох и убили. Произошло это уже на левом берегу, при переправе близ местечка Хлиуни. Карл, поджидавший Вышана в своем лагере в Бардовике, тоже в низовьях Лабы, и принимавший от других саксов изъявления покорности, узнал о происшедшем слишком поздно. Франки выступили к Хлиуни — но там лишь могли удостовериться в гибели союзника.[2026] После гибели Вышана верховным князем ободричей стал Дражко — уже в 789 г. второй после Вышана по влиянию. В 798 г. Карл вновь вступил в Саксонию. Во время этого похода ему удалось уже почти что умиротворить непокорную землю. Нордальбинги, однако, так и не сдались. Во время пребывания Карла в Бардовике они убили его посланцев. Король в отместку опустошил саксонские земли к югу от Эльбы. Ободричи же вторглись в саму землю нордальбингов, «разорили и выжгли» ее. У ободричей после гибели Вышана имелось достаточно своих причин воевать с саксами. Дражко обратился к франкам за помощью. Карл отправил своего легата Эбуриза. Решив ответить ударом на удар, нордальбинги «собрались воедино» и выступили против ободричей. Дражко удалось встретить врага на своей земле. Войска Дражко и вспомогательный франкский отряд сошлись с нордальбингами на поле Свентана — для славян священном, посвященном какому-то божеству. Эбуриз со своими людьми встал на правом фланге войска ободричей. Славянам сразу улыбнулась удача. Они сполна отомстили за гибель Вышана. Первая же атака ободричей опрокинула саксонскую рать. Погиб 2901 сакс (по другим, преувеличенно-округленным данным, даже 4000). Остатки нордальбингов бежали с поля боя. После этого они запросили у Карла мира. Король принял их посланцев и вести от Дражко в Нордтюринггау, на южной окраине земель древан. Таким образом, и они покорились ему вместе со всей Саксонией. Ободричей, «наших славян», как теперь воспринимали их франки, Карл щедро вознаградил. От нордальбингов он принял заложников, добился выдачи самых упорных врагов и с большим числом пленных вернулся за Рейн.[2027] В 799 г. Карл вновь находился в Саксонии, в Падерборне. Отсюда он отправил к Эльбе своего сына Карла Младшего. Прибыв в Барденгау в низовьях реки, Карл принял перебежчиков от вновь начавших волнения нордальбингов. Главной же его задачей были переговоры со славянами — велетами и ободричами. Франки были заинтересованы в прочном союзе с теми и другими, и в мире на вновь установленных границах. Уладив «какие-то дела» со славянами, Карл Младший вернулся к отцу.[2028] Так обстояли дела на границе с франками к тому моменту, как их король Карл Великий вступил в 800 г. на императорский престол. Создание мощной Франкской империи на западной границе славянского мира имело огромное значение для истории славян. В их истории эта держава (и ее наследники) играла двойственную роль. С одной стороны, через франков славяне начали знакомиться с духовными и материальными достижениями латинской культуры. С другой — франки сразу же превратились в серьезнейшую угрозу для нарождающихся славянских государств. Завоевания Карла оставили на какое-то время глубокий след в исторической памяти всех славянских народов. От его имени произошло воспринятое всеми славянскими племенами слово «король» — как обозначение властителей латинского Запада.[2029] Начало Гнезненской ПольшиТерриторию современной Польши в VIII в. занимали несколько славянских племенных союзов. Самым сильным из них оставался вислянский с центром в Кракове. Известны также червяне или лендзяне на юго-востоке, у Западного Буга, гопляне или поляне на севере, в левобережье средней Вислы, и несколько силезских племен. Все эти племена, мало подвергавшиеся внешним воздействиям, поддерживали все более тесные связи между собой. Это способствовало постепенному сложению единой «предпястовской» культуры. Ее источниками являлись пражско-корчакская и суковско-дзедзицкая славянские культуры. Но наряду со славянами, предками средневековых поляков являлись и проникавшие уже в VIII в. на восток, в Подляшье, балты — галинды и судавы (ятвяги).[2030] Население за минувшие два века значительно выросло. Особенно плотно заселены оказались южные и юго-западные польские земли — Силезия, Малая Польша, долина Обры. Но и на севере плотность населения возросла ко второй половине VIII в. по сравнению с VI в. более чем в два раза. Примерно вдвое возрастает и среднее количество домов на поселениях. Расширяются обрабатываемые земли.[2031] Быт славянских обитателей Польши изменился пока мало. Выделяется три основных типа поселений. Преобладавшие ранее малодворные, разросшиеся с починка веси уступают место большим по размеру. На юге преобладали села, основанные 4–7, максимум 10 семьями, селившимися одной весью, в близко стоящих друг к другу домах. На севере и северо-востоке господствует иной тип — большое поселение, окруженное отдельными дворами-выселками.[2032] На поселениях преобладают наземные срубы-избы, хотя отмечены и полуземлянки. Помимо срубной, изредка применялась и столбовая техника. Иногда в пазы стоявших по углам столбов загоняли заостренные концы бревен. Столбовые дома этого времени (18–56 м2) в среднем больше срубных (порядка 20 м2). В качестве строительного материала предпочитали дуб. В углу дома располагались печи — в основном, что и ранее характерно для Польши, глинобитные, в виде колокола. Однако известны и каменные очаги в центре зданий.[2033] Судя по появлению отдельных захоронений в курганах, у «ляхов», по крайней мере у южных, начинался распад большой семьи. Об этом свидетельствует и планировка поселений, основывавшихся с самого начала как соседские общины. Каждая семья самостоятельно вела хозяйство и хранила припасы.[2034] Как и повсюду у славян, строились новые и расширялись старые грады. В VIII в. в земле вислян возникают, наряду с Краковом, и другие небольшие грады — центры отдельных племенных княжений, составляющих вислянский племенной союз. Расширяются старые укрепления — вроде Страдува. Новые племенные центры возникают и в Силезии. Одним из них стало Ополе на Одре, основание которого относится как раз к VIII в. Изначально оно являлось естественным укреплением, на островке, образованном рекой, под защитой палисада. Грады строятся и на севере Польши. В это время наиболее крупные (до 1 га) и выгодно расположенные грады уже обрастают предградьями, превращаются в торговые и ремесленные центры. В них надолго запасались припасы для нужд князя и его дружины. Появляются в градах и святилища — свидетельства совмещения князьями духовной и светской власти. Но их еще очень мало. Большинство градов расположены посреди сельской округи и не превышает 1500 м2 площади. Князей окружали их дружинники — воины-всадники. Из оружия от этого времени сохранились наконечники стрел; есть и находки железной сбруи.[2035] Пример крупного града этого времени — Зелив, расположенный в долине Обры. Площадь его — около гектара. Жилища расположены вдоль защищающего град вала. Посреди оставлена площадь для ритуалов или собраний, которая вымощена деревом. Чуть меньший размерами, но также довольно крупный град — Брущево, возникший в середине VIII в. близ большого древнего села. В нем также слегка углубленные в землю дома располагались у подножия вала. Вал в этом случае укреплен камнями.[2036] Нередко происходит укрепление и расширение старых поселений. Так, Бискупин в Великой Польше к концу VIII в. обзавелся предградьем. Новый вал еще в конце VII в. строится в Бониково, на границах полян и лужичан. В Ленчицах палисад заменили земляным валом на деревянном остове. Именно в это время меняется облик Кракова. Княжеское селение на горе Вавель, ставшее уже центром сельской округи, теперь превращается в защищенный валом град.[2037] Славяне Центральной и Южной Польши занимались в основном земледелием и скотоводством. Землю обрабатывали сохами с железным сошником — орудием времен перехода от подсеки к перелогу и пашне. Уже в VII–VIII вв. стал использоваться плуг. С конца VIII в. и в Великой Польше, и в Силезии окультурили рожь. В VIII в. появляются и серпы нового типа, сильно выгнутые и лучше приспособленные для уборки злаков. Для помола же зерна по-прежнему использовали каменные жернова. Подъем земледелия, расширение пахотных площадей вели к отказу от подсеки. Серьезные изменения происходят в скотоводстве. В VIII в. по всей Польше отмечено бурное развитие свиноводства. В Великой Польше свинья окончательно становится главным домашним животным (более 52 % стада). Вообще, мелкий скот начинает преобладать над крупным. Помимо рогатого скота и свиней разводили и лошадей — как для пахоты, так и для войны. Помимо сошников, серпов и оружия из железа делали также топоры, кресала, тесла, ключи. Ювелирное дело развивалось медленнее. Потому украшения и предметы роскоши встречаются на польских памятниках гораздо реже. Это фибулы, подвески, щипчики. Из глины, как и в других славянских землях, изготовляли посуду и пряслица.[2038] В Польше VIII в. еще господствует лепная керамика. Лишь на юге был известен ножной гончарный круг. На нем подправляли лепную посуду и изредка изготовляли собственно гончарную, дунайского типа. Господствует же старый пражский тип лепной посуды, отличающийся лишь отогнутым венчиком. Изредка встречается простейший орнамент бороздками или гребенкой.[2039] Для культуры Южной Польши характерно в эту пору уже преобладание принесенного в минувшем веке курганного обряда. Этим ее жители заметно отличаются от северных соседей. В польских курганах совершалось, как правило, по одному захоронению. Некоторые курганы возводились на прямоугольном деревянном каркасе-домовине. Прах ссыпался в центре будущей насыпи, после чего и возводился курган. Урны использовались редко. Известен, однако, и иной обряд — когда останки, в урнах или без, помещали на поверхности курганов, иногда на специальных деревянных площадках. А то и оставляли прах у столбовой ограды кургана.[2040] Такие захоронения — явный след венедского, суковско-дзедзицкого влияния. На полянском же севере венедское культурное наследство пока господствует. Здесь прах сожженных мертвецов, как правило, просто разбрасывали по поверхности земли. Лишь изредка устраивали грунтовые кладбища. Захоронения на них совершались в неглубоких, выложенных камнями ямках. Урны и здесь встречаются очень редко. Прах просто высыпали на дно ямки.[2041] На протяжении большей части VIII в. поляне, как и ранее, составляли довольно призрачную общность племен во главе с гоплянами. Их теснили соседи — висляне на юге и лужичане на западе. Для защиты от врагов строятся новые грады — например, на Ледницком острове.[2042] До последних десятилетий VIII в. признаков упрочения племенного единения незаметно. Но условия для этого вызревали. Возникновение полянского племенного союза, собственно Великой Польши, отразилось в преданиях о князе Лешко, или Лехе. Первые их версии записал в XII в. Винцентий Кадлубек. Правда, он перенес действие в свой родной Краков, творя историю небывалого единого Польского королевства допястовской эпохи. Справедливость восстановил в XIII в. великопольский хронист Богухвал. У него и Лешко, и его наследник Попель княжат в великопольских градах — Крушвице и Гнезне. Это соответствует древнейшей польской хронике Анонима Галла (начало XII в.). Он помещает Попеля именно в Гнезне.[2043] Ни малейших оснований сомневаться в первоначальности именно такой версии хроники не дают. «Краковский» Лешко у Кадлубка — не подлинное предание, а отражение соперничества Кракова с великопольскими городами. Самые первые следы предания о Лешке относятся еще к Х в. Константин Багрянородный называет поляков, «некрещеных поселенцев на реке Висле», — ???????.[2044] Хотя и не без сомнений, здесь — в сопоставлении с licicavici чуть более позднего немецкого историка Видукинда — прочитывается «лешковичи».[2045] Следовательно, в середине Х столетия поляки возводили историю своего «княжения» к Лешку. При этом правили Польшей уже не Лешковичи, а Пясты. Как бы то ни было, первым предание о Лешке излагает именно Кадлубек. В распоряжении малопольского хрониста оказалось несколько расходящихся вариантов. Поэтому он не только привязал Лешка к Кракову, но еще и разделил его на трех одноименных королей, правивших друг за другом. Это заодно работало на основную цель — максимально удревнить Польшу, связать ее былых «королей» с античным миром. Решение последней задачи, в свою очередь, еще больше исказило древние предания. Богухвал в этом точно следует Кадлубку, местами его сокращая. Он лишь перенес, как уже говорилось, действие обратно в свои родные места, в Великую Польшу.[2046] Первый вариант предания связывает Лешка с Александром Македонским. В его времена, как повествуют хронисты, у поляков князей не было. Богухвал добавляет, что управляли делами по древнему обычаю двенадцать мужей и выбираемый ими воевода. Александр потребовал от поляков дани. Те в ответ спросили у послов — не они ли сборщики дани? Послы ответили утвердительно. Поляки и обошлись с ними соответственно — переломали кости и содрали кожу. Отослав Александру кожу его послов и водоросли в качестве «дани», поляки сопроводили все это издевательским письмом, в котором восхваляли свою силу. Взбешенный царь двинулся в поход на Польшу. С ним шли «паннонцы» и мораване. По пути он опустошил и покорил Краковщину и Силезию. Но полякам удалось уловить войско македонцев в засаду. Нанеся поражение Александру, они заставили его отступить, забыв о требовании дани. Победа была одержана благодаря совету одного хитроумного златоткача. После изгнания врага героя избрали князем, причем он получил имя «Лешек», толкующееся как «хитрец». По другой версии — она связывается уже с «Лешком II» — поляки, жившие без князя, погрузились в пучину распрей. В конце концов, народ решил, что вождем станет тот, кто первым доскачет на коне до некоей статуи. Один из претендентов, желая победить нечестным путем, усыпал все поле острыми шипами. Он подковал копыта своего коня железными подковами, а заодно и оставил для него тропинку. Между тем, двое простых юношей, не отличавшихся особой силой, решили померяться между собой на том же поле — добежать наперегонки до статуи. Оба жестоко изранили себе ноги. Но один, раненный легче, кое-как залечившись к утру, решил еще раз побежать к статуе — во время скачек. Скачки начались. Хитрец, разбросавший колья, обошел всех соперников, кони которых налетели на шипы. Но все же он не один пришел к цели. Юноша, жаждавший добыть себе честь и славу, невзирая на насмешки народа, пустился бегом вместе со всадниками. Он нашел чистую дорогу по краю поля — и пришел к мете вторым. Всадника-победителя было провозгласили королем. Но его соперники поняли обман, увидев подковы его коня. Немедленно коварного честолюбца низложили, приговорили к смерти и разорвали лошадьми. Победителем невольно оказался пеший юноша. Его, перехитрившего хитреца, прозвали Лешком и возвели на княжеский стол. Лешко правил своими подданными щедро и разумно. Он велел сохранять обок своего трона прежнюю свою простую одежду — в напоминание себе и будущим королям. Далее начинается история его сына — «Лешка III». О «Лешке II» не говорится, по сути, ничего, кроме описания вступления на престол. В то же время в связи с «Лешком III» повествуется о ратных деяниях, как и в связи с «Лешком I». Это наводит на мысль, что Кадлубек искусственно разделил надвое вторую версию предания о Лешке. Последний Лешко якобы противостоял самому Юлию Цезарю (первый, как мы помним, — Александру Македонскому). В трех битвах с римлянами Лешко одержал победу. Понеся тяжелые потери, Цезарь вынужден был примириться с поляками и выдать за Лешка свою сестру. В приданое Лешко якобы получил Баварию. С Юлией, женой Лешка, связывается основание Любуша и Люблина (у Богухвала — Волина). Поскольку римский сенат осудил Цезаря за договор с поляками, то Бавария осталась за Римом. Тогда Лешко прогнал от себя Юлию, оставив ее сына Помпилия (Попеля), а княгиней провозгласил свою наложницу. По версии Богухвала, он имел нескольких жен и наложниц, от которых породил поименно перечисленных два десятка сыновей. Все это искусственно вписанные в великопольское предание основатели древних крепостей Полабья и Поморья. Богухвал вообще уделяет немало внимания обоснованию прав польских королей на эти земли. Литературный вымысел в сведениях хроник о Лешке совершенно очевиден. Это и Александр с Цезарем, побеждаемые доблестными и хитрыми поляками. Это и значительная часть мудрых высказываний, списанных Кадлубком из античных источников. Это и описания битв, созданные по тем же образцам. Кадлубек, в общем, и не стесняется своего метода, простодушно и в то же время многословно приводя античные параллели к создаваемой им польской истории. Несомненный вымысел, основанный на простом созвучии, — основание женой Лешка, якобы Юлией, двух польских городов. Разнобой через всю Великую Польшу «Люблин — Волин» весьма показателен. Такой же фантастикой кажется и история с временным покорением Баварии. Что же остается на долю древнего предания? Немало. Во-первых, это древние мотивы, связанные в первую очередь с «Лешком II». Здесь мы видим выборы князя на вече. Судьба выбора доверяется состязанию — скачкам к статуе, то есть идолу языческого божества. Конь у древних славян являлся священным животным, и в разных преданиях он не раз выступает как вестник богов, указывающий на будущего вождя. Вспомним в этой связи чешского Пржемысла. Впрочем, здесь скачки выявляют подлинно достойнейшего — пешего победителя. Человек же, попытавшийся обмануть высшие силы, обличается подковами на копытах собственного коня. В языческую эпоху символизм этого эпизода был вполне ясен для слушателей. Конь все равно выступает как вестник небесной воли. Пржемысл вспоминается и в связи с простой одеждой Лешка, которую он велит сохранить у трона. Обычай оказывается довольно распространен в западнославянских землях. Смысл его тоже ясен — напоминать в годы упрочения княжеской власти о ее выборном происхождении.  Фрагменты славянских керамических сосудов. Бавария. VII–IX вв. К древнему преданию явно восходят и общие мотивы обеих версий. И «Лешко I», и «Лешко II» — люди простого происхождения, опять-таки как и Пржемысл. Это отражение той же выборности князей, еще сохранявшейся в VIII в. и в Чехии, и в Польше. «Лешко I» обретает власть, а «Лешко III» доказывает право на нее одинаково — военными победами. Враг, как бы то ни было, в обоих случаях наступает с юга. Называемые Кадлубком географические названия, особенно упоминания мораван, заставляют видеть в этом какую-то реальность. Но для того, чтобы лучше разобраться в ней, следует определиться с хронологией событий. «Попель I» и «Попель II» Кадлубка и Богухвала — такие же искусственные дубли, как и «Лешки». Первому из этих «королей» приписаны положительные качества фольклорного прообраза, второму — отрицательные. После Попеля, как известно уже Анониму Галлу, на престол вступил Пяст, основатель династии Пястов. Исходя из этого, начало правления «исторического» Лешка следует относить к последним десятилетиям VIII в. Это подтверждается еще одним преданием, которое ввел в средневековую литературу Богухвал. Во вводной части его труда появляется родоначальник поляков («лехитов») — Лех. Имя Лех (Lech) — сокращенная форма от Lestek, Лешко.[2047] Оба эти имени на самом деле никак, кроме созвучия, не связаны со словами «ляхи», «лендзяне». «Лехиты» же в этом случае — буквальное отражение названия поляков «лешковичи». Итак, предание о Лехе — еще один вариант предания о Лешке. Для Богухвала, впрочем, Лех — уже именно родоначальник поляков. Он, соответственно, соотносится с далекими временами происхождения славян, выводится с Дуная, из Паннонии. Его отец, «пан», — хронист понимает это как личное имя и производит отсюда «Паннония», — произвел на свет будто бы трех сыновей. В братья Леху подводятся герои преданий других народов — Чех и Рус. Тем самым Богухвал, как и русский летописец, рисует по-своему картину славянского братства, чуждую Кадлубку. Самая ценная часть предания о Лехе — заключительная. «Лех со своим потомством, — повествует хронист, — идя по широчайшим рощам, там где было Польское королевство, пришел к некоему месту с весьма плодородной почвой, изобилующему рыбой и дикими зверями, разбил там свою палатку, намереваясь построить себе и своим первое жилище, и сказал: “Будем вить гнездо”. Вот поэтому это место вплоть до настоящего времени называется Гнезно».[2048] Это один из редких в польских хрониках образчик неискаженного народного предания. Конечно, едва ли «все так и было» — но в народной памяти XIII в. именно так. Кстати, название великопольской столицы она толковала вполне справедливо. Основание «гнезда» — Гнезна на горе Леха определенно связывалось с этим персонажем искони. Исходя из этого, и можно определить «историческую» основу предания о Лешке. К концу VIII в. неукрепленное поселение на горе Леха превращается в настоящий град. Основание его примерно, с большой долей условности, датируется 775 г. Гнезно окружал земляной вал на деревянной основе. Град, как и Кенджино в Поморье, делился внутренней линией вала на две части. В одной помещалось капище, в другой — резиденция князя с дружиной. На площади града располагались наземные избы-срубы с каменным очагом в центре. К югу, под валами, лежало неукрепленное село, жители которого могли найти убежище в крепости.[2049] Таким образом, возникновение Гнезна как града вполне укладывается в родословную «Лешковичей». Исторический прототип «короля Лешка» и «Леха» мог построить крепость на горе в междуречье Варты и Вислы. Впрочем, само устройство крепости говорит против того, чтобы считать Лешка единовластным «королем». Жесткое разделение «светской» и «священной» зон свидетельствует о разделении и властей. В полянском племенном союзе, который начал складываться вокруг Гнезна, военный вождь (князь? воевода?) на первых порах делил власть с верховным жрецом (князем? владыкой?). Какая же внешняя угроза вызвала сплочение полян вокруг нового града и его основателя — выборного вождя по имени Лешко? Как мы помним, враг наступал с юга. Поляне подвергались нападениям со стороны самых разных племен, более сплоченных и живших к югу и к юго-западу. Не исключено, что все античные красоты потребовались Кадлубку прежде всего для одной цели — затушевать реальную старинную вражду между полянами и вислянами, между Гнезном и Краковом. Именно вислянские Краки с их почти «деспотической» властью в первую очередь должны были потребовать от разрозненных полян дани. VIII в. — пора укрепления и расширения краковского княжения. Предположим, что висляне склоняют к союзу и других соседей и соперников полян — вождей Силезии. Легко допустить участие в союзе и мораван. Под «паннонцами» имелись бы в виду авары, еще властвовавшие в Словакии. Всех их привлекала, как нередко в межплеменных войнах, обещанная вислянами добыча, а то и доля в ожидаемой дани. Но вероятен и иной вариант — к построению Гнезна и объединению полян вокруг Лешка привела не одна тяжелая война, а серия набегов с разных сторон. В одной ли войне, в серии ли отдельных войн с соседями поляне действительно одержали победу. К концу VIII в. вокруг Гнезна сложился племенной союз во главе с гоплянами, родным племенем Лешка. При желании можно допустить, что два варианта рассказа об избрании его князем отражали два разных события. Первый, «мирный», вариант с состязанием — избрание князем или воеводой гоплян. Второй вариант, с избранием после победы — избрание общим вождем полян. Но допускать такое вовсе необязательно. Варианты естественны для народной устной истории. Искать «подлинный» среди них — труд себя не оправдывающий. Позднее, уже в Х в., при новой династии Пястов, весь союз стал носить имя «лешковичей», по былому княжескому роду. Несомненное признание его заслуг, притом что власть подлинных Лешковичей над полянами едва ли продержалась дольше пары поколений. Но к тому времени, когда Константин и Видукинд впервые назовут нам имя Лешка, возникнет уже нечто большее, чем полянский племенной союз. «Поля» между Вислой и Вартой станут ядром нового государства, в рамках которого превратятся в «Великую Польшу» — главная, но составная часть нового целого, Польского королевства. Начало РусиПри описании событий конца VIII в. впервые появляется в достоверных источниках название «русь». Пока именно «русь», народ, а не «Русь», государство. Появление имени, — пусть немногим более, чем только имени, — славного в грядущих веках народа и великой страны — достойный итог первобытной истории Славянской Европы. Но вокруг одного только имени идет немало споров, и на них придется остановиться. Написанные в Крыму конца Х в. «Чудеса святого Стефана Сурожского» выводят русов с севера. Но впервые появляются русы в этом же источнике на исторической сцене, уже достигнув Причерноморья. Итак, при каких обстоятельствах появилось имя «русь»? В науке эта проблема отягощена долгим диспутом «норманистов» и «антинорманистов». В центре спора — сведения письменных источников, которые как будто позволяют выводить «русь» из Скандинавии. Этот спор привел к одному важному положительному результату — выявлению подлинных причин становления Русского государства, отказу от романтических представлений об основании «страны» единственным «героем». Удалось доказать и то, что появление в Восточной Европе названия «русь», вопреки летописному преданию, предшествовало вокняжению Рюрика, основателя рода Рюриковичей.[2050] Русь возникла в итоге долгого внутреннего развития. Но продолжающаяся дискуссия по вопросу происхождения названия прежнего смысла на этом фоне лишается. Мы видели, что путь славян к государству начался задолго до «руси» или «Руси». Не окончился он и с ее появлением. На фоне этой величественной картины складывания новых общественных отношений появление названия «русь» — только эпизод, хотя для самой Руси исторически и важный. Важный лишь в силу того, что со временем это название стало именем государства. Не менее малозначителен вопрос и на фоне нарисованной нами картины русско-скандинавских отношений. Уже во второй половине VIII в. славянские и скандинавские племена Прибалтики составили единое политическое, экономическое и культурное поле. Причем главенствовала на этом поле словенская тогда Ладога — важнейшее звено взаимного общения. Поволховье дало Скандинавии конунга Сигурда, с которым связано начало викингской эры на Западе. Оно же, что важнее, обеспечило обогащение норманнов за счет восточной торговли. В этих условиях тесного взаимного общения племен могли иметь место какие угодно встречные течения. Но восточное славянство все равно развивалось с опережением. И по отношению к скандинавам, и по отношению к полабским и поморским родичам. Это очевидно уже из одного факта сложения единого христианского государства Русь в Х в. В ту пору в Скандинавии государства едва возникали, и христианство лишь делало первые шаги. А языческие Полабье с Поморьем еще и не перешагнули уровня отдельных племенных «княжений». Итак, перейдем к данным, которые предоставляют нам относительно слова «русь» языковедение и письменные источники. Существуют три основных лингвистические версии происхождения названия Руси. Первую из них, наиболее разработанную в науке, можно определить как «фенно-скандинавскую». Согласно ей, слово «русь» произошло от финского ruotsi, которое, в свою очередь, восходит к древнескандинавскому ru? ‘гребцы’. Заимствование этого слова для обозначения скандинавов произошло при самых первых контактах финнов с ними, в VI–VII вв. Для последующего важны два обстоятельства. Во-первых, слово «русь» является, по этой теории, заимствованием именно финского ruotsi, а не скандинавского ru?. Во-вторых, слово ruotsi в финских языках обозначает как скандинавов, так и русских.[2051] Вторая версия может быть обозначена как «славянская». Согласно ей, название «русь» связано с какой-то из двух славянских основ — *rudsa ‘русый’ или *ru ‘течь’, откуда «русло». Первоначально русь, по этой версии, являлась одним из восточнославянских племен Поильменья.[2052] Наконец, третья версия, довольно давняя, но поздно обоснованная лингвистически, связывает русь с южными географическими этническими названиями — от иранского племени роксоланов до реки Рось. Языковое обоснование теории производит слово «русь» от индоарийской основы *ruksa со значениями ‘белый, светлый’.[2053] Впрочем, последняя версия не находит прочных оснований в письменных источниках.[2054] Все конкретные их сведения — начиная с «Чудес святого Стефана» — связывают происхождение «руси» с севером. Но вот между первыми двумя версиями показания источников расходятся. Впрочем, следует сразу оговорить одно обстоятельство. На вопросы, — с чьим языком связано название «русь» и кого в разные, даже в самые ранние времена называли «русью» — могут быть разные ответы. Тем не менее приведем все могущие иметь значение свидетельства письменных источников. В пользу первой теории работает то, что современные событиям иностранные источники Х, а иногда и IX в., определенно связывают «русь» со скандинавами. Так, Константин Багрянородный четко отделяет «росов» от управляемых ими славян. При этом он приводит «славянские и «росские» названия днепровских порогов. «Росские» оказываются скандинавскими.[2055] Другой византийский автор середины Х в., Симеон Логофет, производит «росов» «из племени франков».[2056] Последнее легко толкуется как эпитет норманнов, поскольку собственного обозначения для этих германских («франкских») племен ромеи еще не имели. Тем более, «франкский» итальянский автор того же времени Лиутпранд Кремонский в связи с теми же событиями, походом русов на Византию 941 г., пишет, что греки «по внешнему виду» называют этот народ ???????, «мы же по их месту жительства зовем нордманнами». Дальше приводится объяснение названия как «северные люди».[2057] Лиутпранд нигде не относит это «географическое» определение к славянам. Норманны у него — именно скандинавы.[2058] Между тем русов еще применительно к IX в. называли норманнами хронист Иоанн Венецианский[2059] и — что важно как современное свидетельство — король Италии Людовик II.[2060] Четко отличают «русов» и «славян» большинство мусульманских авторов IX-Х вв. При этом в их описаниях нравы русов напоминают скорее скандинавские, чем славянские. Наконец, один из них, Йакуби, называет «русами» норманнов, напавших в 844 г. на Испанию.[2061] То же самое противопоставление «руси» и «словен» мы находим, что любопытно, в первой статье Русской Правды краткой редакции.[2062] Относится она в записи к началу XI в., ко временам Ярослава Мудрого. И то же самое наблюдаем в Начальной летописи применительно к событиям IX — первой половины Х в. Более того, уже Начальный летописец утверждал, повествуя о вокняжении Рюрика: «И от тех варягов, находников тех, прозвалась Русь, и от тех слывет Русская земля». Впрочем, здесь больше стремления связать с династией основание государства, тем более что выше летописец уже говорил вне всякой связи с Рюриком о походе «руси» на греков.[2063] Нестор в начале XII в. снял это противоречие. Поход 860-х гг. на Византию возглавляют у него Аскольд и Дир, бывшие бояре Рюрика. Название же «Русь» связывается с особым племенем «русь», будто бы имевшимся среди «варягов». Других «варягов» летописец перечисляет, жестко очерчивая значение этого названия для средневековой Руси — «звались те варяги русь, как другие зовутся свеи, другие же урмане, англяне, другие и готы — так и эти».[2064] Впрочем, то, что варягами в XI–XII вв. называли в первую очередь скандинавов, а во вторую — западных европейцев вообще — и так нет особых сомнений благодаря древнерусским и византийским источникам. Однако следует иметь в виду, что Повесть временных лет явно стремится свести к одному Рюрику все предания о первоначальной «руси». Рюрику две из трех ее основных версий приписывают и основание Ладоги.[2065] Даже рассматривая, однако, летописные построения как довольно искусственные, мы не можем вовсе отказывать им в силе источника.  Озеро Ильмень. Современный вид Но в пользу «славянской» версии также имеются свидетельства письменных источников. На первом месте здесь арабский автор IX в., старший современник Йакуби, Ибн Хордадбех. Он определяет русов, прибывающих с далекого севера, как «одну из разновидностей славян».[2066] Это единственное, но однозначное и веское известие придает значимости остальным. Начать следует с того, что та же «Правда русская» не менее четко выделяет среди подданных князя «варягов» в особую группу. По крайней мере, к XI в. существовала жесткая грань, отделяющая их от «руси» в целом. Воскресенская летопись XVI в., в уже цитировавшемся рассказе о расселении словен ильменских, приводит любопытное предание. Придя от Ладожского озера к Ильменю, словене здесь будто бы «прозвались иным именем, и нареклись русь реки ради Руссы, что впадает в озеро Ильмень».[2067] Подобные предания бытовали в Новгородской земле и веком позже — правда, слившись уже с южнорусским преданием о мифическом Русе как брате Словена и предков кочевых народов. В новгородской версии, в отличие от известной с XII в.[2068] южнорусской, Рус представал союзником Словена в возникшей из-за «тесноты» распре, а затем его спутником в пути на север. Речные названия Поруссия и Полисть якобы происходят от имен его жены и дочери. В этих поздних фантазиях для нас важно сохранение древнего предания о связи Южного Приильменья с первоначальной «русью». Итак, письменные источники как будто сильно расходятся в своих свидетельствах. Возможно ли положительное сопоставление их сведений? Возможно — и сопоставление, и совмещения. Для этого следует только развести два обозначенных уже вопроса. Первый — откуда произошло название «русь»? Второй — кто первоначально именовался «русью»? В этом случае вырисовывается следующая картина. Во-первых, название «русь», согласно исторической памяти Руси XI–XII вв., неславянское, оно пришло «от варяг». Если бы «русь» являлась одним из восточнославянских племен, чье название легко объяснялось бы из славянского языка, подобное мнение у летописцев не сложилось бы. Во-вторых, русью все-таки «прозвались словене». При этом место, где это произошло, в исторической памяти Новгородской земли, — Приильменье, особенно южное. Здесь есть целая группа названий, образованных от слова «русь». К XVI в. уже даже считалось возможным производить, напротив, название народа «русь» от реки Руссы — чего не делали в XI в. В-третьих, на каком-то этапе «русь» было воспринято, даже частью славян, как имя для скандинавов. Произошло это на юге складывающейся Руси и не ранее середины IX в., когда присутствие скандинавов в Восточной Европе резко возросло. Потому для Ибн Хордадбеха, современника подмены, «русь» — еще славяне, а для Йакуби и Людовика II — уже норманны или их родня. Однако скандинавы именовались «русью» недолго и непоследовательно. К концу Х в. на Руси, а в первых десятилетиях XI в. в Византии утверждается новое обозначение скандинавов — «варяги», известное в самой Скандинавии как название воинов-наемников за границей (v?ring). Для Руси (южной) это напрямую сопрягалось с появлением нового значения для «русь» — ‘киевляне’, а затем, к началу XII в., и ‘поляне’ вообще. Что касается Северной Руси, то здесь подмены и не могло произойти, а скандинавов звали «немцами», как и всех германцев, либо по племенным именам. Не отсюда ли в конечном счете летописное предание о «руси», прозвавшейся «от варяг»? Как мы помним, «фенно-скандинавская» теория как раз определяет, что «прозвалась», восприняла свое имя русь вовсе не «от варягов», а от финских аборигенов. Однако все равно летописное предание работает именно на эту теорию. Именно в силу четко выраженного мнения об иноязычном происхождении названия «русь». Слова «русый» и «русло» были достаточно хорошо известны на Руси XI–XII вв., а со времен появления имени прошло не так много поколений, чтобы славянский корень забылся целиком. Ясно, что во времена летописцев никакого племени «русь» на Руси не знали. Но и племя «русь» за «Варяжским морем» — не более чем домысел летописца. Чтобы объяснить его отсутствие в современной Скандинавии, он утверждал, будто Рюрик забрал оттуда «всю русь».[2069] Как же развивались события? Ход их вполне поддается восстановлению, если идти от накопленных наукой источниковых данных. В VI в. в языке западных финнов появилось воспринятое от скандинавов слово ruotsi. Оно стало обозначать чужеземцев, приходивших из лежащих вокруг Балтики земель на финские земли. Не исключено, что даже все европейские народы нефинского расового типа — включая в том числе славян-кривичей. Последнее, однако, необязательно — поскольку кривичи уже селились на финских землях до появления этого слова. Во всяком случае, когда в конце VII в. в нижнем Поволховье закрепились словене, они уже стали для окрестных вепсов и вадьялов ruotsi. Это значение закрепили тесные контакты словен с заморскими ruotsi — скандинавами — в VIII в., когда во главе данов и свеев встали выходцы из словенского Поволховья. Где же произошло восприятие слова «русь» славянами и возникновение особой группы населения «русь»? Ответ очевиден — в Ладоге, в месте теснейшего общения финнов, славян и скандинавов. При этом участие скандинавов играло второстепенную роль. «Русью» стали звать себя славяне, именно смешивавшиеся с туземными финнами и знающие их речь. Все это указывает на 780-е гг., время после перехода Ладоги в руки словен. В Ладоге тех лет было крайне мало скандинавов, по крайней мере — людей скандинавской культуры. В то же время население оказалось достаточно пестрым, чтобы из смешения разных племен возникла особая группа людей, не причислявших себя в строгом смысле ни к одному. Они и приняли название — «русь». В основном это были, конечно, славяне и финны, свободно владевшие языками друг друга, связанные кровными узами. «Русь» изначально явно не была «племенем», «родом» в привычном смысле, но слиянием людей из разных «родов». Слияние это происходило на почве не столько даже взаимного свойства, сколько общих интересов. «Русь», чему достаточно свидетельств от IX–X вв., — прежде всего, общественная группа. Древние русы жили торговлей на речных путях Восточной Европы, а если требовалось — военными набегами. И это тоже указывает на Ладогу, важнейшее звено в торговой системе 780-х гг. Разноплеменная дружина «русь», сложившаяся в граде к этому времени, и взялась за освоение великого Волжского пути. Сначала — в качестве посредников осевших в Ладоге персидских стеклоделов. Потом — уже, наверное, через год-два, — самостоятельно. Вообще, события, связанные с появлением руси и расширением ее влияния, происходили стремительно и заняли не более двух десятилетий.  Находки в Старой Ладоге. VII–IX вв. Однако эта разноплеменная вольная дружина, независимая от родоплеменных властей, выламывалась из устоявшегося уже строя жизни Ладоги. Ладога рубежа веков — верный партнер словенских князей-волхвов из Любши — была не лучшим местом для проявлений независимости. Русь не находит себя в общине Ладоги. Конфликтов происходит тем больше, чем больше молодых словен и вепсов привлекает богатая и свободная жизнь бродячих купцов. У умножившейся руси появляется стремление создать собственную общину, в конечном счете — стать отдельным «родом». Русь сохраняет Ладогу как родной очаг, как верный тыл, продолжает обогащать ее — но в возросшей своей массе сдвигается на юг. Какая-то часть руси осела в Городке у порогов — важном пункте на пути ладей с восточным серебром. Но основная масса выстроила и населила неукрепленную весь гораздо выше по реке, в будущей новгородской округе. Это древнейший населенный пункт с названием Руса — старше «Старой Руссы» к югу от Ильменя. Неукрепленное поселение располагалось на террасе над поймой Волхова, на левом берегу. К северу, при излучине реки, жители воздвигли три сопки. На крутом правом берегу выше по течению тогда же или позже основали городище Слудица, защищенное глиняным валом. Еще дальше на юг, в самом Приильменье на реке Веряжи, в конце VIII в. появилось уже упоминавшееся поселение Георгий. С самого основания этот будущий град стал центром торговли с востоком — на тот момент важнейшим на самом озере. В низовьях той же Веряжи, на острове, тогда же или позднее возникло городище Сергово, защищенное длинным валом. Появляются русы и в Южном Приильменье, в окрестностях будущей «Старой» Руссы. Судя по большому количеству произведенных от слова «русь» географических названий, сюда в итоге и стянулась основная масса руси. Ее памятники — сопки еще VIII в. на Порусье и Ловати. Здесь располагались поселения, чьи жители занимались ремеслом.[2070] К моменту прихода в южноильменскую «Руссу» численность руси (с учетом семей) возросла уже до нескольких тысяч. В том числе за счет присоединившихся местных жителей. Так что предание XVI в. вполне оправданно в том, что «прозвались русью» пришельцы из Ладоги именно в Поильменье. Археологические материалы конца VIII в. — когда только и можно говорить о факте появления руси — довольно однозначны. Скандинавский элемент в среде русов Поволховья и Поильменья того времени крайне мал, если не ничтожен. Русы не являлись заморскими пришельцами — ни норманнскими, ни западнославянскими. Никакого племени «русь» за пределами исторической Руси никогда не существовало. При всей своей разноплеменности русь являлась исключительно местным образованием. Самый значительный ее неславянский компонент — финский, вепсский. Но и он по материалам тогдашней Ладоги явно уступает словенскому. Хотя при движении руси вверх по Волхову от Ладоги процент финнов как раз мог возрастать за счет вадьялов и «чуди». Итак, поздние новгородские предания справедливы в том смысле, что именно словене «прозвались русью». Только в IX–X вв. в связи с увеличением доли скандинавов и их проникновением на юг по Днепру там «русь» какое-то время воспринималась как нечто инородное. Именно тогда у части славянских племен и у южных их соседей «русы» оказались тождественны на время «норманнам». Но ненадолго — уже к концу X в. появляется общепринятый термин «варяги», а слово «Русь — русь» становится обозначением всего Древнерусского государства и, наконец, киевских полян как жителей его столицы. Последний смысл впервые четко определяет Нестор: «поляне, которые ныне зовутся русь».[2071] В конце же VIII в. русь действительно являлась «викингами» — словенскими викингами, бродячими дружинами воинов и торговцев. Характерно, что скандинавы называли вольные разноплеменные дружины Приладожья иначе — кюльфингами (чему соответствует древнерусское слово «колбяги»). Название производят от кюльфы — колокола, созывавшего воинов на сходку. Подобно древнейшим русам, кюльфинги скандинавских источников — вольные воины и торговцы. Тождественность этого термина славянскому «русь» для VIII–IX вв. вполне очевидно. Итак, скандинавы не принимали названия «русь» и придумали для него собственный синоним. Более того, «Кюльфингаландом», «Страной Кюльфингов», они называли Русь до того, как за Х в. утвердилось новое название — Гарды, «Города», или Гардарики, «Государство Городов».[2072] В названии словенских краев «Страной Кюльфингов» еще в конце VIII в. ничего невероятного нет. Ведь именно «русы», кюльфинги, ездили с приходившими на Волхов восточными ценностями в Скандинавию, именно их там знали лучше всего из обитателей будущей Руси. К началу XI в. термин «колбяги» вошел и в русское право. При этом они отделялись как от варягов, так и от большинства «руси». В это время требовалось уже отличать и от пришлых наемников, и от княжеской дружины продолжавшие действовать на Новгородчине разноплеменные военно-торговые ватаги. При всей своей разноплеменности, на Волхове и Ильмени русь уже в конце VIII в. стала напоминать обычный славянский «род», племя с собственными землями и поселениями. Правда, поселения руси оказались разбросаны на огромном расстоянии речного пути по обе стороны озера, среди словенских и финских. Но связи между русами поддерживались теснейшими, и они осознавали себя как одно целое. Где племя — там племенные вожди. Свидетельством выделения в среде руси собственной знати, богатейших и самых родовитых воинов-торговцев, являются сопки на Ловати. В Коровичино в «русских» низовьях Ловати, рядом с ремесленным поселением, воздвиглось около десятка монументальных сопок. По трудоемкости возведения они не уступали княжеским сопкам приладожского севера. В верхней части трех изученных сопок — каменные кладки, их вершины окаймляли два кольца валунов. Высота сопок достигала 10 м. Погребения здесь совершались с животными жертвами. Найдены останки лошади, собаки и орла. Подобные сопки были в Марфине на Порусье.[2073] Нельзя не обратить внимания на большое количество — по сравнению с севером — подобных памятников. В обоих случаях — это целые группы. Широкое использование «княжеского» ритуала подчеркивало равноправие верхушки русов, их независимость от далекой теперь любшинской знати. О воинственных и независимых нравах этой среды память сохранялась долго. В предании начала XII в. о «Русе», легендарном предке руси, говорилось: «Рассказывают также, что у Руса был сын, которому в схватке с каким-то человеком разбили голову. Он пришел к отцу весь в крови. Тот ему сказал: «Иди и порази его!» Сын так и сделал. И остался такой обычай, что, если кто-либо ранит, они не успокоятся, пока не отомстят. И если дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого».[2074] С одной стороны, описывается восточнославянский (и скандинавский) обычай мести за нанесенную обиду. С другой стороны, привязка его именно к «Русу» весьма показательна. Освободившиеся от власти племенного права, русы не считали нужным прибегать к нему в своих расчетах с врагами. Был у русов в конце VIII в. и собственный князь. «Чудеса святого Стефана» называют его Бравлином.[2075] Имя это, услышанное греками, два столетия передававшееся ими изустно, а много позже «переведенное» на древнерусский и только так дошедшее до нас, трудно истолковать. Его неславянское происхождение, казалось бы, очевидно. Обращает на себя внимание сходство имени «Бравлин» со скандинавским местным названием «Бравалль». Место знаменитой битвы, где пал словенский князь, конечно, тогда хорошо знали в Поволховье. А значит, и имя «Бравлин» с неожиданной легкостью поддается истолкованию — как именно славянское образование «Бравленин». Это могло быть прозвище одного из немногих (или единственного?) уцелевших словенских участников Бравалльской битвы. Но могло быть это и имя ребенка, рожденного в год битвы или после смерти погибшего в ней отца — почему бы и не самого князя Рёгнвальда? Князя, по «Чудесам», окружают «бояре». Какое слово стояло в греческом оригинале, сказать невозможно. Но имеется в виду, конечно, высшая военно-торговая знать, оставившая сопки Южного Поильменья. Интерес руси к югу, и к течению Ловати в особенности, был вполне объясним. В конце VIII в. словене, не без участия, конечно, уже вездесущей руси, расселились далеко на юго-восток. В конце VIII в. появилось селище Бережок в Удомельском Поозерье.[2076] Ранее, с конца VII в., здесь уже шло смешение славян с местными финнами. С юго-восточных окраин Ильменского бассейна первые словенские поселенцы на рубеже VIII/IX вв. проникают на верхнюю Мологу.[2077] Эти передовые отряды расселяющихся славян приближали, казалось бы, русь к богатствам Востока. Выход славян к истокам облегчал торговлю по Волжскому пути. Но дальше возникали препоны. Земли союзной, местами сливающейся со словенами «веси» заканчивались в Помоложье. Дальше, от впадения Мологи в Волгу, располагались владения волжско-финского племенного союза меря. Меря пользовалась выгодами общения со славянами — но стремилась обратить приволжскую торговлю в свою пользу. Верхнее Поволжье контролировалось племенным градом мери — Сарским у Ростовского озера.[2078] Какая-то часть возможных прибылей руси оседала там. Дальше на восток под покровительством хазар строилась Волжская Болгария. Но главной проблемой руси являлись сами хазары. Большую часть пути русы следовали по землям каганата. Любой вариант речного плавания — прямо по Волге или по Оке и Дону, а затем в Волгу — приводил славянских купцов в хазарские низовья, в сердце каганата. Это была единственная дорога в Каспий. В руках хазарских сборщиков пошлин и позднее оставалась немалая часть русского прибытка на Волжском пути. Так что русь задумалась о поисках обходных путей. Здесь кстати пришлись воспоминания о «киянах» с их южными украшениями, которых привели когда-то в Ладогу кривичи. От последних, живущих в верховьях Ловати, могли дойти до Бравлина и его соратников первые слухи о возможности плавания по Днепру в Черное море. Легендарные для северных славян «греки» славились богатством не меньше, чем мусульманские страны. Земли Византии представляли желанную цель и для торговца, и для воина-разбойника. Первый бросок руси на юг являлся актом единовременным. Датировать его можно последним десятилетием VIII или самым началом IX в. Поход Бравлина оставил немало разрозненных следов в источниках. Жителям киевских Полей первое появление среди них руси запомнилось как пришествие князя «Руса», чудесного избавителя от внешних врагов. Об этом рассказывали уже в середине Х в., когда предание записал византиец Симеон Логофет.[2079] В начале XII в. гораздо более мифологичный вариант предания, где Рус впервые предстает «братом» предков кочевников, дошел из Южной Руси до персидского автора «Собрания историй».[2080] В этой пограничной со Степью южнорусской зоне люди в конце XII–XIII в. называли себя «русичами», т. е. детьми «Руса», — по «Слову о полку Игореве». Предание о Русе, противоречившее официальной летописи, в нее не вошло — но было подхвачено (и искажено) в XIII в. поляком Богухвалом, а в XVII в. в совсем уже искаженном виде перешло в новгородские сказания. Другой след — странное новгородское предание о «варягах» (изначально — руси?) как «первых насельниках» Киева, записанное в начале XV в.[2081] К концу XVII оно преобразилось в совсем уже фантастический рассказ о том, как Киев построили новгородские изгои — во главе с Кием![2082] Но не содержит ли этот рассказ следы подлинного предания о вольной руси, отчужденной от словенского племенного строя, пришедшей к Киеву задолго до Аскольда? Наконец, достоверный очерк о событиях в конечной точке похода Бравлина — византийском Крыму — содержат «Чудеса св. Стефана».[2083] По всем источникам вырисовывается следующая картина этого грандиозного и дерзкого предприятия. Бравлин собрал «рать великую русскую» и, «весьма силен», двинулся против течения Ловати к верховьям Днепра. Выступил князь с войной, а не с миром — на разведку будущих торговых путей и испытание силой их богатства. Русь шла в быстрых парусно-гребных ладьях, построенных в многолетних ладожских традициях, пригодных и для реки, и для моря. Ладьи перетащили на Днепр волоком. С местными кривичами поладили миром. Те сами были заинтересованы в выгодах, которые сулила торговля с русью. Уже очень скоро в земле смолян возник русский град Гнездово — предшественник Смоленска. Пока же Бравлин мог усилить за счет кривичских охочих дружин свое войско, а заодно получить сведения о пути вниз по Днепру. При мире с кривичами дальнейший путь становился до Киева безопасен. Но в Киеве Бравлин застал изменившуюся ситуацию. Пытаясь обойти хазарских таможенников, русь неожиданно для себя застала хазар на своем пути, у Киевских гор. Предание о «Русе» начала XII в. свидетельствует, что хазары распоряжались в будущей «Русской земле» Среднего Поднепровья к моменту появления здесь руси. Следовательно, действие знаменитого предания о «хазарской дани», записанного еще Начальным летописцем в XI в.,[2084] должно разворачиваться перед приходом «руса» Бравлина к Киеву. Согласно этому преданию, после смерти легендарных основателей Киева поляне стали подвергаться нападениям со стороны соседей. Призрачный союз живущих «в мире» южных племен не продержался долго. Особенно ярыми врагами полян проявили себя западные соседи, древляне. Их набеги ослабили Киев. Этим воспользовались хазары. Их войско явилось к Киевским горам. Рывок хазар на запад, к Днепру через северские земли, кстати, отмечен массовым строительством градов, о котором говорилось ранее. Северу хазары, в конце концов, покорили и обязали платить дань — тогда или позже. Покорился завоевателям внешне и Киев. Как говорит летописное сказание, хазары потребовали от ослабленных полян: «Платите нам дань». Поляне, подумав, дали от каждого «дыма» — семейного домохозяйства — по мечу. Хазарские «старцы», увидев эту дань, якобы сказали своему «князю»: «Не добра дань, княже. Мы ее доискались оружием односторонним, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоостро, то есть мечи. Они будут и с нас брать дань, и с иных стран». Но «князь», как можно заключить из Повести временных лет, не обратил внимания на предупреждение. Хазары продолжали брать дань с «родов» Кия и его братьев еще долгое время.[2085] Да и Начальный летописец не только нигде не говорит, что дурное предзнаменование отвратило хазар от сбора дани, но прямо утверждает, что они «владели» полянами. Не видит летописец никакого вызова и в самой полянской дани мечами. Разве что сильно скрытую угрозу — которую не разглядели хазарские полководцы. Скорее в выдаче оружия с каждого «дыма»-хозяйства можно усмотреть капитуляцию. Заметим, что в пору сложения предания поляне мечей еще сами не ковали. Выдача привозного (византийского?) оружия, полезного в бою с панцирной конницей, могла являться и прямым требованием хазар. К XI в. устное предание патриотически переосмыслило древнюю историю. В такой-то обстановке у Киева появился огромный по тем местам и невиданный прежде парусный флот Бравлина Руса. Для хазар это явилось полной неожиданностью. Впрочем, обе стороны — и русь, и хазары, — были в равной степени неприятно удивлены. Дело шло к войне — но кончилось, судя по преданию о Русе, миром. Между сторонами устанавливались равные и взаимовыгодные «братские» отношения. Хазары по просьбе «Руса» предоставили ему какие-то права в Поднепровье. Скорее всего, Поля отдавались — в хазарских понятиях — под власть и покровительство руси на условиях уплаты дани. Именно русь, а не хазарские сборщики, теперь взимала ее с полян. Сидевшие в Киеве «роды» Кия и братьев, как и их «подданные», остались в выигрыше. Добыча или прибыль от походов руси на юг при участии полян вполне могли искупить платившееся хазарам «от дыма». От возможных же карательных акций новый покровитель мог защитить. Это «Рус» сразу же доказал делом, разгромив соседних «славян» — то есть древлян. Древляне требовали от русов и кочевников уступить им какие-то земли в Поднепровье. Не исключено, что все Правобережье, которое не без оснований считали своим, дулебским. В «ссоре и сражении» между русью и их степными союзниками, с одной стороны, и древлянами — с другой, последние были разбиты наголову. Древляне бежали, а Рус запомнился в Полях как великий герой. По словам Симеона Логофета, будущие русы «освободились благодаря какому-то божьему совету или вдохновению от напастей тех, что их одолели и ими владели» — и назвались якобы по «сильному» избавителю. Победитель Бравлин, установивший более-менее выгодные отношения с хазарами и прогнавший обидчиков-древлян, конечно, казался полянам посланцем богов. В Киеве Бравлин получил уже вполне определенные сведения о крымских землях. Он осознал выгоды связей с ними — но не мог надеяться завязать их без применения и демонстрации силы. К тому же дальний поход за добычей следовало оправдать. Теперь к нему присоединились и полянские ратники, только что обедневшие из-за древлянских набегов и хазарского вторжения. Союз же с хазарами пришелся весьма кстати для дальнейшего пути. Хазары, хотя и союзные Византии, но заинтересованные в ослаблении ее крымских баз, обеспечили Бравлину проход через днепровские пороги. Ладьи здесь приходилось вытаскивать из реки, и рать была чрезвычайно уязвима. Естественно, помощь оказывалась не для того, чтобы Бравлин пришел в Крым с миром. Незадолго до того из-за движения христиан крымской Готии против хазар позиции ромеев в Крыму укрепились. Теперь, не нарушая союза с Империей, каганат пытался расплатиться руками руси. Хазары могли предоставить Бравлину и инженеров осадной техники, использованных позднее у Сурожа. Ни словене, ни поляне навыков штурма настоящих городских стен пока не имели. И вот русский флот спустился по Днепру, вышел в море и достиг берегов Крыма. Ромеи не ожидали вторжения со славянского севера. Крым никогда не подвергался славянским набегам. Появление же морской рати Бравлина на Черном море стало сущим шоком. Еще большим, чем для франков и англосаксов появление в те же годы огромных флотилий викингов у их берегов. Флот с «греческим огнем» весьма пригодился бы крымским ромеям. Но до сих пор прикрывать фему Херсон с моря нужды не было. Если патрульные корабли у ромеев здесь и были, то немногочисленные и недостаточно оснащенные. Не встречая особого сопротивления, Бравлин высаживался на берега, разорял предместья городов, угонял полон и захватывал добычу. Так он опустошил все побережье от Херсона до Керчи. От Керчи на хазаро-византийской границе он вновь повернул к западу вдоль берега. В распоряжении князя все еще оставалась «многая сила». Внимание Бравлина привлек город Сурож (ромейская Сугдея). Князь решил взятием большой крепости подытожить удачное и невиданное по дерзости предприятие. Десять дней длилась осада Сурожа. Ромеи упорно защищались — но, в конце концов, после ожесточенных боев, русам во главе с Бравлином удалось проломить окованные железом ворота. Бравлин с обнаженным мечом ворвался в Сурож во главе своей рати. На его пути оказалась церковь Святой Софии. Бравлин уже оценил во время налетов на побережье богатство византийских храмов. Ближняя дружина под его предводительством взломала двери, и князь вошел в церковь. Перед его глазами была гробница незадолго до того, около 789 г., умершего епископа Сурожского Стефана. Русские «бояре» прибрали к рукам «царское одеяло, жемчуг, золото, камни драгоценные, лампады золотые и сосудов золотых много». Но в этот момент, как повествуют «Чудеса святого Стефана», князь внезапно рухнул на пол и забился в припадке. «Обратилось лицо его назад», изо рта пошла пена. «Великий и святой человек здесь, — закричал Бравлин, — и ударил меня по лицу, и обратилось лицо мое назад! Верните все, что взяли!» Напуганные дружинники побросали добычу. После этого они подхватили было князя на руки, но он снова закричал: «Не делайте этого! Пусть буду лежать, ибо изломать меня хочет один старый святой муж. Притиснул меня, и душа из меня вот-вот изойдет! Быстро выводите рать из города сего». Русы, пуще прежнего устрашенные происходящим, повиновались. Описываемое князем напоминало поведение враждебных духов-душителей в славянских поверьях. Так что нет ничего удивительного в том, что войско не усомнилось и послушалось. Оставив всю добычу прежним владельцам, рать поспешила оставить Сурож. Соратники вернулись к лежащему в храме перед гробом князю. «Возвратите все, — сказал тот, — сколько пограбили, священных сосудов церковных в Херсоне и в Керчи, и везде, и принесите все сюда, и положите ко гробу Стефана». Но этого не достало. Князю послышался «страшный» голос святого: «Если не крестишься здесь в моей церкви, не уйдешь отсюда и не возвратишься домой». «Пусть придут священники, — воскликнул в ответ князь, — и окрестят меня! Если встану и лицо мое обратится, то крещусь!» Архиепископ Сурожский Филарет, преемник Стефана, поспешил к северному завоевателю. Вместе со своими священниками он стал читать над страдающим князем молитву. Наконец, со словами таинства крещения «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» — князь выпрямился. Увидев это, «бояре» поспешили креститься по его примеру. Шея князя все еще болела. Сурожские священнослужители посоветовали: «Пообещай Богу, что всех взятых в плен мужей, жен и детей, захваченных тобой от Херсона до Керчи, ты велишь освободить и возвратить назад». Князь немедленно велел распустить полон. Затем он еще неделю прожил у гроба Стефана. Наконец, одарив церковь «великим даром», Бравлин удалился восвояси. Уходя, он «почтил» также горожан и особенно окрестивших его священников. Во всей этой истории, сохраненной сурожским преданием, нет ничего невероятного для тех времен. Даже с точки зрения «рационального» сознания. С точки же зрения сознания религиозного — произошло достойное запечатления в памяти потомков чудо. О нем помнили в Суроже и спустя два века, сопоставляли со своими знаниями о Руси. Вскоре после Крещения Руси при князе Владимире, также тесно связанного с землей Крыма, старинная легенда было записана в сборник «Чудес». Мир с крымскими ромеями в конечном счете отвечал интересам Бравлина. Он добился главной своей цели — разведал и проложил путь к богатым южным землям, а заодно убедился в их богатстве. Благодаря событиям в Киеве путь этот пока оставался безопасен от хазарских сборщиков подати. Мирная же торговля с ромеями судила барыши не меньшие, а большие, чем война. И не меньшие, в конечном счете, чем торговля с Востоком. Тем более что и по Черному морю с мусульманским миром было возможно установить связь. Но не только это, конечно, занимало мысли Бравлина, когда он с ратью возвращался на север. И не только ради мира и торговли пожертвовал он доброй частью военной добычи и всем полоном. Назад он возвращался крещеным, христианином. И грозные события в Сурожской Софии, разумеется, не забылись ему и его дружине. Насколько искренним было обращение Бравлина? Неизвестно. Поскольку внезапно явившись на страницах истории, он столь же внезапно исчезает с них. Дальнейшие события на Севере воссоздать можно, но это выходит за рамки нашего повествования. Во всяком случае, обращение его дружины оказалось непрочным, сиюминутным. В IX в. большинство русов — пусть не все поголовно — оставались опять язычниками. Но все же в тот момент первой и главной ценностью, привезенной «из Грек» по пути на север, «из Варяг в Греки» и «из Грек по Днепру», оказалась именно новая вера первого русского князя. А главным историческим итогом похода Бравлина оказалось создание в начале IX в. той системы путей — не только торговых — которые потом на протяжении веков служили кровеносными артериями Восточной Европе. По ним двигались товары, перемещались войска — и растекалось культурное влияние христианской Империи. Вот как описывает эту величественную систему речных и морских путей Нестор: «Поляне жили особо по горам сим, и был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, и вверх Днепра волок до Ловати, и по Ловати войти в Ильмерь озеро великое, из того же озера течет Волхов и впадает в озеро великое Нево, а того озера входит устье в море Варяжское. И по тому морю идти до самого Рима, от Рима прийти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда прийти в Понт море, в кое впадает Днепр река. Днепр ведь течет из Волковскаго леса, и течет на полдень, а Двина из того же леса течет, и идет на полночь, и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток, и впадает семьюдесятью жерлами в море Хвалисское. Так что из Руси можно идти по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток дойти в жребий Симов, а по Двине в Варяги, а из Варяг и до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает в Понтское море тремя жерлами, в море, что слывет Русским, — по нему же учил святой Андрей, брат Петров».[2086] Последняя фраза — прямой мост к легенде об апостоле Андрея. По летописи, именно он, весьма символично, стал первопроходцем великого пути, на самой заре христианства. Имена самых великих народов подчас возникают благодаря историческому случаю. И само по себе появление названия «русь» на словенском Севере оставило немного следов в истории. Но первые шаги руси на арене мировой истории действительно сыграли роль в становлении Руси с большой буквы. Путь из Варяг в Греки, проложенный походом Бравлина, стал связующей нитью, главной артерией, вокруг которой вырастает Русское государство раннего средневековья. Потому-то и станет Русь именно Русью, а не «Полем», «Словенами» или «Деревами». И большее, чем просто символ, видится в том, что первый известный русский князь стал и первым князем-христианином. Первым, что пришло на Север славянского мира по пути из Грек, оказалась даже не военная добыча — а христианская вера. И в то же время появление Руси на сцене истории — лишь веха на долгом пути. И едва ли поворотная. Одно название не создает государства. Основы его строились издревле, со времен легендарного антского «королевства» и дунайских походов славян. Родословную Руси-государства можно выводить от древних дулебов, от племенных «княжений» Кия и Волха. До всякой «руси», до первого «руса». Но это — начало пути. Завершением же его станет отнюдь не освоение воинами-торговцами пути через всю Восточноевропейскую равнину. При всей значимости этого деяния в истории. И не сплочение вокруг славянского ядра разноплеменного дружинного братства — как будто в предвидение всей грядущей истории Руси и многонациональной России. Не здесь — конец пути. Только на исходе Х в. трудами князей-просветителей Ольги и Владимира вокруг торгового пути, тянущегося от варяжской Балтики до отныне Русского Понта, сложится, наконец, подлинное единство. Начатое безвестными поколениями предков задолго до Бравлина и продолжавшееся после него строительство нового общества завершится. И только тогда восточные славяне примут имя Руси как свое. Только тогда в мире действительно родится новое — новое государство, новая цивилизация, Русь христианская. Наступал IX век — век строительства новой, средневековой Европы. Племенной строй, служивший славянам на протяжении веков и тысячелетий, теперь уходил в прошлое. Наступало время строительства государства и цивилизации. При этом одни внешние силы поглощались этим процессом — как кочевые болгары или на Руси скандинавы. Другие же, которых поглотить оказывалось невозможно, — франки или хазары, — становились дополнительным стимулом к сплочению. Внешние угрозы и влияния подталкивали славян — но не являлись единственной побудительной причиной. Становление славянских государств, зарождение славянской цивилизации являлось внутренней потребностью славянского общества. И именно внутренними силами, на веками выстраивавшемся фундаменте, появились в IX–XI столетиях средневековые государства Славянского Мира. Примечания:1 Подробную характеристику ситуации в Западной Европе в конце IV — начале V в. см. в книгах: Jones A. H. M. The Later Roman Empire. Vol. I–III. Oxford, 1964; Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение германских королевств. М., 1984. См. также: История Европы. Т. 1–2. М., 1990–1992. 2 Альтернативная точка зрения (см.: Дёрфер Г. О языке гуннов.// Зарубежная тюркология. Вып. 1. М., 1986) приводит к предположению о появлении буквально ниоткуда многочисленного кочевого народа с абсолютно изолированным (неалтайским, неиндоевропейским, неуральским) языком. Это при том, что этноязыковая карта евразийских степей благодаря античным и китайским источникам для II–IV вв. хорошо известна и практически не имеет белых пятен. Вопреки высказывавшейся критике, отождествление гуннов с несомненно тюркоязычными сюнну (ху) Дальнего Востока не имеет ни одной убедительной альтернативы, что в данных условиях весьма симптоматично. Археологический материал (как и письменные источники, и данные языкознания) надежно связывает европейских гуннов с позднейшими болгарами, несомненными тюркофонами. Наличие же в гуннской культуре заимствованных у аланов, германцев и других покоренных племен элементов, взаимное смешение народов в пределах гуннской державы не является аргументом против ближайшего родства гуннов и тюрок. Ср. выводы А.К. Амброза (Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 10 след.): археолог, отметив отсутствие прямой преемственности между азиатскими хуннами и европейскими гуннами при наличии у последних отдельных «азиатских элементов», объяснял это малой изученностью древностей Центральной Азии. Между тем связь гуннской культуры с позднейшей тюркской (тоже не имеющей прямых древних соответствий!) специалист отнюдь не отрицал. Представляется, что для определения этнической принадлежности гуннов основанием должна быть, прежде всего, преемственность по отношению к ним позднейшей болгарской и тюркской культуры. При этом культура западных тюрок формировалась из сложного сплава разноплеменных элементов (в первую очередь, иранских), что и отражает археологический материал. О кочевниках IV–V вв. см. также: Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху. СПб., 1994. 10 Бирнбаум Х. Праславянский язык. М., 1987. С. 321. 11 Lehr-Splawinski T. O pohodzeniu i praojczyznie Slowian. Poznan, 1946. S. 137–141; Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 43 след. Ср.: Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. 12 Об этих и других археологических культурах, связываемых со славянским этногенезом, см.: Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э. М., 1993. 13 См.: Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изоглоссы.// VIII международный съезд славистов. Доклады. Минск, 1978. 14 Аргументация против славянства венедов в отечественной историографии представлена, прежде всего, Ф.В. Шеловым-Коведяевым в комментариях к известиям Плиния, Тацита и Птолемея (Свод I). Он предлагает считать все известия о центральноевропейских венедах книжной легендой, восходящей к общему древнегреческому источнику, говорившему о венетах италийских. Именование славян венедами в финских (да и в германских) языках в таком случае сколько-нибудь убедительного объяснения не находит (ср. указание на это в Предисловии Л.А. Гиндина и Г.Г. Литаврина: Свод I. С. 15). Далее, целый ряд моментов в концепции общего источника внушают большие сомнения. Античные упоминания венедов в Центральной Европе имеют между собой только одну общую черту — само имя венедов. Плиний называет соседями венедов сарматов, скиров и хирров и локализует их всех близ Вислы. Тацит называет по соседству с венедами певкинов (бастарнов) и феннов, а также, видимо, свевов и сарматов. Локализует он их в «лесах и горах между певкинами и феннами». Птолемей помещает венедов в «Сарматии» у Сарматского океана («Венедский залив»). По соседству с ними он называет гитонов на юге, выше по Висле, галиндов, судинов и ставанов на юго-востоке, вельтов на востоке. Итак, этногеографическая среда венедов совершенно различна, общего мало. Тацит даже не связывает венедов с Вислой, что не мешает Ф.В. Шелову-Коведяеву упрекнуть его в том, что он, упоминая венедов, отвел Повисленье германцам (Свод I. С. 42). Но Вислу с венедами связывал не Тацит, а Плиний и Птолемей. Если Тацит отвел Повисленье германцам, значит, он не пользовался гипотетическим общим источником (весьма сомнительным, как видим, и для них), а полагался на иную информацию о венедах. Кстати, довольно подробное этнографическое описание Тацита Ф.В. Шелов-Коведяев предлагает считать «риторической фигурой» (Свод I. С. 40–41). А между тем речь шла о не столь удаленных от Империи землях, и самые «риторизованные» описания Тацита все же всегда содержат реальное зерно. Других «полуреальных» народов на страницах его трудов, кажется, нет. Можно еще отметить, что на Певтингеровой карте венеды локализованы не только на дальнем севере, но и между Днестром и Дунаем, что сопоставимо с титулом Волусиана. Последний Ф.В. Шелов-Коведяев считает возможным соотнести с «полулегендарными» венедами (случай едва ли не уникальный в имперской практике!) и тут же предполагает, что римляне приняли за них «германский элемент, локализуемый в нижнем Подунавье в составе в основном сарматской черняховской культуры» (Свод I. С. 43). Остается неясным, германцев или сарматов считает специалист «полулегендарным» и «малоизвестным» для римлян народом. Во всяком случае, этот «германский элемент» надежно соотносится с готами (гитонами Птолемея), которых римляне называли или собственным их именем, или «скифами». Как бы то ни было, в настоящее время Ф.В.Шелов-Коведяев считает «венетов» уже не литературной фикцией, а реликтовой «балто-славянской общностью», существовавшей до готского вторжения IV в. (см.: Шелов-Коведяев Ф.В. Литва: история соседства.// Литературная газета. 2007, № 17–18. С. 4). Очевидно, это закрывает дискуссию. 15 Свод I. С. 51. Обоснование старой (со времен П. Шафарика) концепции см.: Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах.// Славянские древности. Киев, 1980. С. 14. Ф.В. Шелов-Коведяев признает, что «вставное t (th) при передаче неприемлемого в греческом звукосочетании sl… могло бы выглядеть убедительным». Но он считает, ссылаясь на разночтения, что «труднообъяснимо выпадение корневого *l» (Свод I. С. 59). Не бесспорно; текстология знает примеры общих и изначальных описок во многих памятниках. Для опровержения славянства ставанов требовались бы более убедительные аргументы. Но единственный — соседство их с судинами и галиндами. По этой логике Ф.В. Шелов-Коведяев вслед за К. Мюлленхофом предлагает и ставанов считать балтами. Но о таком балтском племени ничего неизвестно. «На границе степи и лесостепи в Поднепровье, где локализуются ставаны, имели место контакты балтов и иранцев в начале христианской эры [дается ссылка на данные гидронимики]. О славянах же здесь в это время решительно ничего неизвестно». Но гидронимика не имеет абсолютных датировок. О балтах здесь именно в это время известно не больше, чем о славянах. О.Н. Трубачев предложил считать *stavana ‘хвалимый’ индоарийской калькой названия «словене» (Трубачев О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999). Присутствие «индоариев» в Крыму и на Кубани в работах ученого обосновано вполне убедительно. Но мог ли «индоарийский» (синдский) элемент, растворившийся в сарматской среде, донести название славян до Птолемея? К тому же — почему это тогда именно славяне? Старая теория П. Шафарика, поддерживаемая многими современными исследователями, пока представляется надежной. 16 Свод I. С. 51. Ф.В. Шелов-Коведяев отрицает славянство вельтов. При этом он вполне справедливо критикует теорию З. Голомба, связывающего этнонимы «велеты» и «венеты» через гипотетическую форму *vetъ (см.: Свод I. С. 59–60). Однако для доказательства славянства вельтов нет нужды прибегать к таким построениям. Слово veletъ/volotъ ‘великан’ реально засвидетельствовано у славян. И, как отметил в том же фундаментальном издании источников В. К. Ронин (Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2 (далее — Свод II). М., 1995. С. 471), «велеты» — предполагаемое самоназвание вполне реального славянского племени вильцев (лат. Wilzi, Wilti). Этот основной аргумент в пользу славянства вельтов Ф.В. Шеллов-Коведяев, к сожалению, не только не опровергает, но и не приводит. На основе «фонетического оформления этнонима» он без дальнейших пояснений предлагает «думать, скорее, о балтах». А. В. Назаренко, признавая связь между вельтами Птолемея и позднейшими вильцами, сомневается в славянской этимологии и предполагает неславянское происхождение этнонима (Назаренко А… Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993. С. 16–17). Это более аргументированная точка зрения, и она, возможно, более соответствует действительности. В то же время ясно, что вельты (будь они и балтами) были предками какой-то части славянских велетов (вильцев). 17 Iord. Get. 247.: Свод I. С. 114/115; о родстве со славянами: Get. 34, 119.: Свод I. С. 106/107, 110/111. 18 Proc. Bell, Goth. VII. 14: 22–29.: Свод I. С. 182–185. 19 Свод I. С. 159. Прим. 254 (комментарий А. Н. Анфертьева к известию Иордана об антах): вслед за Я. Гримом и А. Н. Веселовским, развившими эту теорию в XIX в., указывается на слова antisc ‘древний’ (др.-в. — нем.) и ent ‘великан’ (англ. — сакс.; восстановлено из прилагательного entisc). 20 По мнению О.Н. Трубачева (Трубачев 1999. С. 54–55, 225), этноним восходит к индоарийскому (синдскому) субстрату и происходит от anta ‘конец, край’. При этом концепция Я. Рудницкого, согласно которой этноним считается (с тем же значением) иранским, отвергалась на основании «исключительно древнеиндийского характера anta. Нельзя, однако, не отметить, что в «Этимологическом словаре иранских языков» (Т. 1. М., 2000. С. 173–175) дается большое количество производных от праиранского *anta— ‘край, кромка, предел, конец’. Среди них, в частности, осетинские слова со значениями «снаружи», «наружу», «наружный», «внешний», «чужой». Прямые производные от древней основы сохранил только осетинский (аланский) язык, что симптоматично. 103 См.: Седов, 1982. С. 12 (находки керамики колочинского типа на поселении Рашков), 22 (о близких к колочинским домах с центральным столбом на днестровских поселениях), 26, 30, 33, 40. Впрочем, колочинские женщины, изготавливавшие посуду на антских поселениях, могли быть и полнянками. 104 Седов, 1982. С. 24. М.И. Артамонов даже выделял из пеньковской особую «пастырскую культуру» и относил ее болгарскому племени кутригур (Артамонов М.И. Етническата принадлежност и историческоото значение на пастирската култура// Археология. № 3. София, 1969. С. 1 след.). 105 См.: Плетнева С.А. Хазары. М., 1986. С. 15–18. 106 Дорн Б. Каспий. О походах русов в Табаристан. СПб., 1875. С. 37. После этого Джамасп якобы «завладел и странами обоих народов». Это выглядит уже как чистый, хотя, возможно и древний вымысел. Невероятно полагать, что в своей акции возмездия Джамасп достиг каких бы то ни было славянских (антских или тем более словенских) земель. 107 Balcano-Slavica. I. Beograd, 1972. P. 9–42; Федоров — Полевой, 1973. С. 293–297 (о расселении славян из Прутско-Днестровских областей, то есть носителей пеньковской керамики и антских украшений — пальчатых фибул, в Румынии); Седов 1982. С. 19–20. 108 Седов, 1982. С. 12. 109 Об этом см.: Moravcsik G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958. B. 1. S. 108. 110 См. карты: Седов, 1982. С. 13, 20. 111 Седов, 1982. С. 20. 112 Седов, 1982. С. 12, 13, 19–20. Ср.: Федоров — Полевой, 1973. С. 293–296. 113 Федоров — Полевой, 1973. С. 293–294; Седов, 1982. С. 20. 114 Balcano-Slavica 1972; Федоров — Полевой, 1973. С. 296–297; Седов, 1982. С. 19. 115 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6, 11. 116 Proc. Bell. Goth. VII. 22: 1.: Свод I. С. 186/187 (ср. примечание Л.А. Гиндина, В.Л. Цымбурского и С.А. Иванова — Свод I. С. 233. Прим. 118). 117 Славяне и их соседи, 1993. С. 178. 118 Федоров — Полевой, 1973. С. 294. 119 Псевдо-Кесарий (Свод I. С. 254). Некоторые исследователи считали фисонитов (данубиев) Псевдо-Кесария мифическим народом, что противоречит их четкой локализации. Л. Нидерле отождествил их в итоге со славянами-дунайцами (Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. С. 485), что с учетом противопоставления словен и фисонитов в автора совершенно невероятно. Скорее всего, данувии — тогдашнее самоназвание рипианов (в Дакии по обе стороны Дуная), которые, по словам Псевдо-Кесария, называют Данувием Дунай (Свод I. С. 255). 120 Свод I. С. 254. 121 122 См.: Федоров — Полевой, 1973. С. 293, 298; Седов, 1995. С. 95–100. 123 Федоров — Полевой, 1973. С. 298. 124 *byvolъ ‘буйвол, вол’ (ЭССЯ. Вып. 3. С. 158–159); *capъ ‘козел’ (ЭССЯ. Вып. 3. С. 172–173); *kosara ‘загон для скота’ (ЭССЯ. Вып. 11. С. 183–185); *mьrtьcina ‘падаль’ (ЭССЯ. Вып. 21. С. 151 — возможно, отчасти связано с исконнославянским *mьrtvьcina) и т. д. К балканским романским могут быть отнесены те заимствования из классической и народной латыни, которые отложились в восточной группе южнославянских языков (болгарском, македонском), а также заимствования с более или менее ясными восточнороманскими диалектными чертами. Им противостоит группа альпийских романских заимствований, отсутствующих или слабо представленных в восточных южнославянских языках (например, *xolca, *loktika). 125 Термины, связанные с бытом (*ban’a, *jьstъba, а также *bъtъ, *bъtarь — ‘боченок’), денежным обращением (*ceta), садоводством и растительностью вообще (*cersьna ‘черешня’, *kъdun’a ‘айва’, но и *baka ‘ива’), виноделием (*mъstъ ‘муст’) и др. — см. ЭССЯ. 126 См., в частности: Рикман Э.А. К вопросу о славянских чертах в народной материальной культуре Молдавии// Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1954. Вып. 56. 127 Федоров — Полевой, 1973. С. 286. 128 Седов, 1982. С. 14, 18. 129 Ср.: Седов, 1982. С. 18; Славяне и их соседи 1993. С. 174 — словене Закарпатья хоронили умерших в грунтовых могилах, ставя урны с остатками кремации на кострищах с вымостками из камней; их предшественники же хоронили своих умерших в курганах, ставя урны в ямки, вырытые под кострищем, прикрытые каменной плитой. 130 Sklenar 1974. S. 272, 280; Седов, 1995. С. 24. 131 См.: Sklenar 1974. S. 271, 345. 132 См.: ЭССЯ. Вып. 4. С. 33–35. Это обстоятельство осознавалось и западноевропейскими средневековыми авторами, которые издревле переводили название «чехи» как «богемцы» (например, «бехеймары» у Баварского географа — Назаренко, 1993. С. 13/14 — один из немногих переведенных у него славянских этнонимов). 133 Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. Гл. 2. С. 33–34. 134 Dalimil. Kap. 2: 1–40. З. Неедлы придал большое значение приходу Чеха у Далимила из «Хорватии», считая возможным видеть здесь отражение некой миграции из чешской «Белой Хорватии» на юго-восток, в долину Влтавы: Nejedly Z. Stare povesti ceske jako historicky pramen. Praha, 1953. S. 16–49. В свете археологических данных о заселении Чехии в первой половине VI в., а также очевидного прихода хорватов из Поднестровья в Чехию только после аварского вторжения ок. 560 г. представляется предпочтительным считать иначе. Наличие в Чехии области хорватов могло побудить Далимила перенести в балканскую Хорватию (в хронике — «Есть в сербском языке земля, ей же Хорваты имя») легендарную дунайскую прародину славян. Толкование племенного названия «чехи» от личного «княжеского» имени Чеслав позволило бы видеть в Чехе историческое лицо, но эта заманчивая перспектива опровергается лингвистами (См.: ЭССЯ. Вып. 4. С. 34). Очевидно, Чех лишь персонифицирует в своем образе группу словен, пришедшую на полупустынные земли древней Богемии в первой половине VI в. Можно добавить, что в XIII в. предание о Чехе уже было воспринято польскими хронистами. У Богухвала (Великая хроника. С. 52) Чех — младший из трех сыновей Пана, родоначальника славян, вышедших из Паннонии и давших начало королевствам лехитов (от Леха), русов (от Руса) и чехов (от Чеха). Чешский хронист Гаек из Либочан (XVI в.) существенно дополняет предание о Чехе как другими устными традициями, так и собственными домыслами. Представляет интерес сказание о братьях Госте и Черноусе, которые хотели удалиться от горы Ржип, но Чех, разрешив им выделиться, отсоветовал уходить далеко (Vaclav Hajek z Libocan. Kronika ceska. Praha, 1981. S. 50–51). Предание отражает стремление чехов к компактному проживанию в окружении «немцев». 135 Sklenar 1974. S. 272, 275–276; Седов, 1995. С. 28. 136 Sklenar 1974. S. 272; Седов 1995. С. 28. 137 Proc. Bell. Goth. VII. 35: 16, 21–22.: Свод I. С. 188–191 — явное свидетельство того, что словенские земли примыкали с севера к распадавшемуся готскому королевству. Глухим и совершенно искаженным припоминанием подлинных обстоятельств прихода славян на место германцев в Центральной Европе выглядит свидетельство Баварской хроники XIII в. о захвате «рутенами и славянами» — «детьми Хама» земель германцев («детей Яфета») то ли от Днепра «вплоть до Дуная и Вислы», то ли даже «от Русии до Рейна». Германцы будто бы бежали от них морем из «Средней Азии» и «Верхней Русии» («за Киевом») на «нижние острова Запада» (Свердлов М.Б. Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия. Вторая половина XII–XIII в. М. — Л., 1990. С. 394–395). Это крайне тенденциозное сообщение, представляющее собой при всей краткости чудовищную смесь самых разных исторических и псевдоисторических источников, тем не менее, как можно видеть, содержит некое реальное зерно. 138 См.: Седов, 1982. С. 19, 237. Ср. упоминавшееся значение этнонима «ледзяне» и слова Кассиодора об обитании словен в «лесах». 139 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. См.: Иванова О. В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия// Раннефеодальные государства на Балканах. М., 1985. С. 41. 140 См.: Третьяков П.Н. Подсечное земледелие в Восточной Европе// Известия ГАИМК. Т. XIV. № 1, 1934. 141 Седов, 1982. С. 238. 142 Лен известен славянам искони; слово «конопля», возможно, индоарийского происхождения (ЭССЯ. Вып. 10. С. 188–192; Трубачев, 1999. С. 245). 143 Седов, 1982. С. 19. Исключение — пограничные с антами районы. 144 См.: Этнография восточных славян. С. 194. 145 Здесь и далее о праславянских лексемах см. ЭССЯ. 146 См.: Этнография восточных славян. С. 188. Мотыгу, помимо карпатских украинцев, использовали в историческое время сербы: Народы зарубежной Европы. Т. 1. М., 1964. С. 403. 147 Седов, 1982. С. 24, 236. 148 О формах рала см.: Народы I. С. 102, 192, 227, 314, 403, 433, 481; Этнография восточных славян. С. 194. 149 Этнография восточных славян. С. 194; Седов, 1982. С. 236, 274. 150 Народы I. С. 102, 193 (чешская борона «лучевой» формы), 404, 433 (хорватский архаичный тип бороны — прутья, прикрепленные к доске); Этнография восточных славян. С. 195–196. 151 Historia kultury materialnej Polski. T. 1. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk, 1978. S. 85; Седов, 1982. С. 16, 237, 275. 152 Этнография восточных славян. С. 196. 153 См.: Народы I. С. 103, 193–194, 228, 314, 404, 433; Этнография восточных славян. С. 197. 154 Седов, 1982. С. 24. 155 Sklenar 1974. S. 275–276; Седов, 1982. С. 6, 18, 22. 156 Седов, 1982. С. 22. 157 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Седов, 1982. С. 18, 237–238. 158 Этнография восточных славян. С. 201; Седов, 1982. С. 237. 159 Sklenar 1974. S. 275–276; Седов, 1982. С. 18, 238. На скотоводство у славян есть указания у Прокопия: Bell. Goth. VII. 14: 23; 38: 22; 40: 37.: Свод I. С. 182/183, 194/195, 198/199. 160 Седов, 1982. С. 18, 238. 161 Седов, 1982. С. 14, 26, 238–239. 162 Historia kultury, 1978. S. 31. 163 Седов, 1982. С. 18, 239. 164 Sklenar, 1974. S. 276; Седов, 1982. С. 18, 239. Об охоте словен на кабана, видимо, говорит и Псевдо-Кесарий: Свод I. С. 254, 258 (Прим. 14). 165 Свод I. С. 254; Седов, 1982. С. 18. 166 Седов, 1982. С. 18. 167 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Sklenar, 1974. S. 272; Седов, 1982. С. 12, 21. 168 Iord. Get. 35.: Свод I. С. 108/109. 169 Седов, 1982. С. 21. 170 См.: Этнография восточных славян. С. 206. 171 Historia kultury, 1978. S. 27. 172 Седов, 1982. С. 12. 173 Седов, 1982. С. 22. 174 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Sklenar, 1974. S. 275; Седов, 1982. С. 13, 14, 22. 175 Седов, 1982. С. 13, 22. 176 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24, 29–30.: Свод I. С. 184/185. 177 Historia kultury, 1978. S. 31; Седов, 1982. С. 14, 22. 178 Historia kultury, 1978. S. 33. 179 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1982. С. 14, 22. 180 Proc. Bell. Goth. VII. 14: 24.: Свод I. С. 184/185. 181 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Sklenar, 1974. S. 275; Historia kultury, 1978. S. 202, 203, 278; Седов, 1982. С. 14, 22, 24. 182 Седов, 1982. С. 14. 183 Седов, 1982. С. 22. 184 Седов, 1982. С. 14, 22. 185 Седов, 1982. С. 24. 186 ЭССЯ. Вып. 8. С. 21–22. Там же (С. 22) о синониме — слове *xatrьcь. 187 Ср.: Седов, 1982. С. 30 — колочинские полуземлянки с опорным столбом в центре найдены на двух антских поселениях, в том числе в пеньковском «гнезде», в поселении Луг I. 188 Федоров — Полевой, 1973. С. 294; Седов, 1982. С. 14, 22. 189 ЭССЯ. Вып. 8. С. 243–245. Термин быстро стал обозначать сруб вообще, но особенно теплую часть. 190 Седов, 1982. С. 14. 191 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 275; Седов, 1982. С. 14, 22, 24. 192 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Седов, 1995. С. 69, 71. 193 Седов, 1982. С. 14. 194 Седов, 1982. С. 16, 22, 24. 195 Седов, 1982. С. 14, 16. 196 Седов, 1982. С. 14, 22. 197 Седов, 1982. С. 16. 198 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 298; Седов, 1982. С. 12–13, 19. 199 Федоров — Полевой, 1973. С. 298; Седов, 1982. С. 24. 200 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 296, 297; Sklenar 1974. S. 279; Седов, 1982. С. 16, 24. 201 Федоров — Полевой, 1973. С. 297; Седов, 1982. С. 16, 24. 202 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 279. 203 Седов, 1982. С. 241–242. 204 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 298; Sklenar, 1974. S. 272, 275; Седов, 1982. С. 11–12, 19. 205 Федоров — Полевой, 1973. С. 294, 297; Sklenar, 1974. S. 276; Седов, 1982. С. 16, 239–240. 206 Видимо, в Поднепровье на гончарстве специализировались жители отдельных поселений (Седов, 1982. С. 24). 207 См.: Славянская мифология. С. 234. Ср. также этимологию имени легендарного основателя Киева Кия от имени божественного кузнеца (Славянская мифология. С. 222) и предание о князе Радаре (Легенды и паданни. Менск, 1980. № 97). 208 Historia kultury 1978. S. 117 etc.; Седов, 1982. С. 240. 1036 Маршруты славянской миграции на Балканах на основе топонимических данных намечены в работе: Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967. 1037 Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах. София, 1988. С. 228. В болгарской приписке к Хронике говорится: «При Анастасии царе начали болгары захватывать землю эту, перейдя в Бдыне, и прежде начали захватывать равнинную землю Охридскую, а потом эту землю всю». В приписке имеются в виду набеги кочевых болгар из Северного Причерноморья и Нижнего Подунавья на Фракию, начавшиеся действительно при Анастасии, в конце 490-х гг. Они достаточно подробно описаны в византийских источниках. Болгарская приписка восходит к известию греческого хрониста XII в. Зонары, однако интерпретация сведений о болгарских набегах как начале процесса «поимания» страны принадлежит, конечно, болгарскому автору. Далее, ни в одном византийском источнике в связи с этими событиями не упомянут Бдын (Видин, Бонония). Город находится гораздо выше по Дунаю, чем традиционное место болгарских переправ ближе к дельте. Однако именно в этом районе, против Олтении, нередко переправлялись славяне. С учетом упоминания «Охридской земли» можно заключить, что здесь отражается именно славянское переселение начала VII в. Интересен в этой связи образ болгарского «исхода». В сознании христианизированного народа, и тем более христианских книжников, древнее переселение неизбежно ассоциировалось с библейским сюжетом. Мы видим это уже в богомильской «Апокрифической летописи» XI в., где в роли Моисея выступил другой библейский персонаж — Исайя, «жезлом показующий» «куманам» (здесь — кочевые болгары) путь на новую родину. В приписках к «Хронике» перед нами другой фрагмент — и иной, более «славянизированный» вариант — того же переселенческого эпоса об «исходе». Если в «Апокрифической летописи» слияние воспоминаний о приходе славян в конце VI — начале VII. и приходе болгар около 680 г. можно только угадывать, то здесь это слияние очевидно. В эпоху Второго царства славяне, перешедшие во Фракию в районе Видина, уже воспринимались (в местном ли предании или в общепринятой и общеизвестной традиции) как болгары. Более того, встретив первое упоминание о древних, кочевых болгарах у Зонары, болгарский летописец не усомнился отождествить его с известным ему преданием об «исходе». 1038 Патканов К. Из нового списка географии, приписываемого Моисею Хоренскому // Журнал министерства народного просвещения. Ч. 226. 1883. С. 27. 1039 Наиболее убедительна для последнего названия этимология Ф. Малингудиса (от *Velejezdъ) (Malingoudis Ph. Studien zu den slawischen Ortsnamen Griechenlands. Bd. 1. Wiesbaden, 1981. S. 149–150). Четких альтернатив не предложено. О войничах см.: Български етимологически речник. Т.1. София, 1962. С.173. 1040 Это отразилось, помимо археологических данных, в некоторой пестроте грамматики и словарного состава южнославянских языков. См.: Славянские языки. М., 1995. С. 19. 1041 Это племенное объединение во главе с северами упоминается в связи с нашествием болгар Аспаруха около 680 г. у Феофана (Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 2. М., 1995. С. 278/279). О вхождении северов в союз «Семь родов» см. там же, комм. 319. С. 314–315. Название «семь родов» могло и не отражать никакого конкретного числа. Выделение северов вкупе с длительным сохранением в Болгарии предания о вожде Славе (ср. имя северского князя Славун — Свод II. С. 284/285), указывает, как представляется, на лидерство этого племени в союзе. Смутная память о распаде старых и выделении новых «родов» после переправы через Дунай видна в болгарском народном предании об основании Видина. Названия Гамзиграда, Костольца, Кулы и Видина производятся здесь от имен мифических героев — двух братьев и двух сестер. Они «вместе жить не могли» и потому основали отдельные крепости (Българско народно творчество. Т. 11. София, 1963. С. 450). 1042 Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973. С. 243. 1043 Федоров — Полевой, 1973. С. 248, 250. 1044 Свод II. С. 357. 1045 Седов В.В. Славяне в раннее средневековье. М., 1995. С. 339. 1046 Седов, 1995. С. 162. 1047 Седов, 1995. С. 166–167. 1048 В написанном примерно в 30-х гг. VIII в. «Житии Панкратия» (Свод II. С. 333). 1049 Судя по «Армянской географии», едва ли не единственному нашему источнику (Патканов, 1883. С. 27). И археологический материал, и письменные источники согласны в том, что выступающие там как второй этап нашествия действия в Далмации и Элладе происходили уже при Ираклии. 1050 Подчеркивание этого, судя по Апокрифической летописи, стало довольно важным элементом самосознания болгар после падения Первого царства в XI в. — болгары занимают «землю Карвунскую» (Добруджу), которую до того «запустили греки и римляне», «опустевшую от эллинов за 130 лет» (Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 281). 1051 Седов, 1995. С. 99 — 100. 1052 Память об этих событиях сохранило местное далматинское предание, передаваемое Фомой Сплитским: Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. М., 1987. С. 30–31/240–241. Фома в отличие от Константина Багрянородного четко отличает авар («готов») от славян-лендзян («лингонов»). Однако вместе с тем для него (в отличие от Константина) аваро-славянское нашествие уже слилось с хорватским завоеванием Далмации, а хорваты отождествились с античными куретами, превратившись, таким образом, в балканских автохтонов. Но — опять же в отличие от ученого императора — Фома помнит о промежутке времени между вторжением рубежа VI/VII вв. и взятием Салоны ок. 615 г. 1053 Седов, 1995. С. 29–30, 129. 1054 См.: Седов, 1995. С. 275–277. 1055 Paul. Diac. Hist. Lang. IV.28.: Свод II. С. 484/485. 1056 Седов, 1995. С. 103. 1057 Седов, 1995. С. 103–104. 1058 Седов, 1995. С. 104 (на более раннем поселении Сучава-Шипот славянская лепная керамика составляет 60 %, а на Лозна-Дорохой — до 76 %). 1059 Fred. Chron. IV.48.: Свод II. С. 366/367 (как минимум старшие славяно-аварские метисы уже были взрослыми к 623 г.). 1060 Седов, 1995. С. 30, 128–129, 287. 1061 Fred. Chron. IV.48.: Свод II. С. 366/367. 1062 Sklenar K. Pamatky praveku na uzemi CSSR. Praha, 1974. S. 272–273, 285–286; Седов, 1995. С. 128–129, 287. 1063 Fred. Chron. IV.48.: Свод II. С. 366/367. Представляется, что объяснение фредегаровских «бефульков» самим Фредегаром — единственно убедительное. Распространенная версия о том, что авары использовали для обозначения славян славянское же слово byvolci «волопасы» (?), потому что те не играли в битвах существенной роли, а служили лишь погонщиками (Mayer T. Zu Fredegars Bericht uber die Slawen// Mitteilungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung. Bd.11. Wien, 1929. S. 118–119), прямо противоречит показаниям источника — на что по неясным причинам редко обращается внимание. Использование смешанного наречия с германскими и романскими элементами в разноплеменной Паннонии вполне вероятно. О такой же тактике авар сообщает и Пасхальная хроника (Свод II. С. 76/77), надежно подтверждая известие Фредегара. 1064 Sklenar, 1974. S. 273; Седов, 1995. С. 129. 1065 Рюсенская культура, принадлежавшая сорбам, отнюдь не вассалам каганата, и сложившаяся дальше на север в первых десятилетиях VII в. уже несет на себе все основные черты развивавшегося в рамках каганата симбиоза (дунайская гончарная керамика, каменное строительство, ингумации) (Седов, 1995. С. 143–144). 1066 Славянские языки 2005. С. 19–20. О том, что речь не идет просто о выселении со Среднего Дуная на Балканы, свидетельствует переход в среднесловацкие диалекты как особых южнославянских черт, так и общих восточно-южнославянских. Правомочно говорить о складывании единой диалектной зоны в сфере влияния Аварского каганата. 1067 Седов, 1995. С. 128–129. 1068 Sklenar, 1974. S. 272, 285. 1069 Sklenar, 1974. S. 273, 280, 285; Седов, 1995. С. 128–129. 1070 Седов, 1995. С. 143–144. 1071 Sklenar, 1974. S. 273, 292, 294, 302, 304; Седов, 1995. С. 287–289, 292. 1072 Sklenar, 1974. S. 273–274, 283–285. 1073 Кухаренко Ю.В. Археология Польши. М., 1969. С. 125; Historia kultury materialnej Polski. T. 1. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk, 1978. S. 26, 38. 1074 Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870. С. 138. 1075 Впрочем, не приписывая, кажется, и ему власти над всеми этими племенами: Полное собрание русских летописей. Т. 1 (Лаврентьевская летопись). М., 1997. Стб. 10; Т. 2 (Ипатьевская летопись). М., 1998. Стб. 8; Т. 38. Л., 1989 (Радзивиловская летопись). С. 13. При некотором желании отражение распада дулебского союза можно увидеть и в белорусском предании о полевиках и полешуках (отражающем, возможно, этногонические сказания дреговичей), где говорится о восстании против сородичей-«панов», которые угнетали предков белорусов (Легенди и паданни. Текст № 95). Впрочем, социальный (вернее, даже социально-политический) подтекст этой части записанного в 1920-х гг. предания слишком прозрачен. 1076 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 11–12; Т.2. Стб. 9; Т. 38. С. 13–14. Далее автор «Повести» однозначно локализует дулебов на Буге (Т.1. Стб. 12–13; Т.2. Стб.9; Т. 38. С. 14). Притча об обрах живет, по его словам, «в Руси». Предание, которое он использовал, могло быть, следовательно, только волынским или шире — восточнославянским, но никак ни чешским или паннонским (а такие отождествления в отрыве от всего текста источника иногда делались). 1077 Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 16. 1078 ПСРЛ. Т.1. Стб. 12–13; Т.2. Стб.9. Выше прямо говорилось, что бужане — прежнее наименование волынян (Т.1. Стб. 11; Т.2. Стб.8; Т. 38. С. 13). 1079 Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Я.Длугоша. М., 2004. С. 79/226 (дулебы «после стали зваться волынянами, а ныне — лучанами»). Упоминание лучан может принадлежать бывавшему в Юго-Западной Руси, уже принадлежавшей Польско-Литовскому государству, Длугошу. Но непонятно, почему польский историк не удовлетворился упоминанием волынян. Этноним «волыняне» в XV в. был не менее понятен, чем вполне употребимое еще название «Волынь». Напротив, как отмечают польские комментаторы К. Перадска и Б. Модельска-Стрелецка (Dlugosz J. Roczniki czyli Kroniki slawnego krolestwa Polskiego. Ks. 1–2. Warszawa, 1961. S. 186), как раз название «лучане» нехарактерно для польских хронистов. Едва ли оно было сколько-нибудь известно в Польше. С другой стороны, в русских летописях обозначение «лучане» достаточно древнее. В Повести временных лет оно обозначает жителей Луцка еще под 1085 г. Заметим еще, что название «волыняне» там после вводной части не встречается. Итак, нет оснований полагать, что лучане не фигурировали еще в «летописи Длугоша». Рассказ ее о дулебах вообще полон оригинальных деталей. Это и внесение их в перечень племен, живущих «зверским образом», и произведение этнонима от мифического родоначальника Дулеба. Именование лучан прямыми потомками дулебов изначально не связано о приведенным в «летописи Длугоша» исключительно на основе Повести временных лет (причем разных ее фрагментов) отождествлением дулебов и волынян. Историческую основу соотнесения «дулебы — лучане» определить довольно трудно. С одной стороны, лучане жили на изрядном расстоянии от основных центров дулебской культуры в Побужье. Именно в Побужье располагался единственный протогородской центр корчакской культуры к востоку от Буга — городище Зимно, в котором логично видеть центр дулебской общности; там же локализует дулебов и Повесть временных лет. С другой стороны, бужан/волынян она, кажется, рисует как территориальных преемников побужских дулебов, но не как их прямых потомков и наследников. Сопоставляя данные «Баварского географа» о «луколанах» IX в. с древней устной традицией, отраженной в Повести временных лет и «летописи Длугоша», видим, что на территории Волыни существовало два сильнейших племени или племенных общности. Одна — бужане-волыняне, занимавшие Побужье, владела основными в прошлом землями дулебского союза племен. Но при этом и другая, лучане, числила себя общностью прямых потомков и наследников древних дулебов, хотя центр ее и находился восточнее. Историческую ситуацию, легшую в основу таких претензий, реконструировать с достоверностью невозможно. Но, вероятнее всего, ее корни — в обстоятельствах, приведших к распаду и гибели «дулебо-волынского» союза племен под ударами авар и вследствие внутренних усобиц в первой половине VII в. О русском летописном источнике Длугоша см.: Пашуто В.Т. Киевская летопись 1238 г.// Исторические записки. Т. 26. М., 1948. С. 279; Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 25–29; Клосс Б.М. Русские источники I–VI книг Анналов Яна Длугоша// Щавелева 2004. С. 34–52; Алексеев С.В. Дописьменная эпоха в средневековой славянской литературе: генезис и трансформации. М., 2005. С. 202–206. 1080 Это заставляет многих исследователей сомневаться в самом факте аварского нашествия и искать иные объяснения исчезновению антского имени из источников (см., например: Седов, 1982. С. 28). 1081 О датировке см.: Седов, 1982. С. 25; Щеглова О.А. О двух группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье./ Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Курск, 1990; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 1996. 1082 О соседстве и зависимости болгар от авар, завершившейся около 634–640 гг. прямо говорит Никифор (Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980. С.153/161). Неверие в возможность проникновения авар столь далеко на восток (Погодин А. Из истории славянских передвижений. СПб., 1901. С. 59–60; Чичуров, 1980. С. 176) едва ли обосновано (в частности, ничего «неясного» собственно в свидетельстве Никифора о падении аварского господства над болгарами не видится). О каком-то соседстве авар с независимыми на тот момент от них болгарами достаточно четко говорит Феофан (Свод II. С. 272/273) в связи с событиями 626 г. Тогда-то, в канун осады Константинополя, и был, вероятно, заключен «союз» авар и болгар, разорванный Кувратом в обстановке упадка аварского каганата и отступления тюркютской опасности после 634 г. Таким образом, нет противоречия между упадком каганата после событий 626 г. и окончанием его довольно условного «господства» над болгарами в 630-х гг. Большинство исследователей в той или иной степени допускали возможность прямого толкования известия Никифора (Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 179; Kollautz A., Miyakawa H. Geschichte und Kultur eines volkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes. Kladenfurt, 1970. T. 1. S. 159–160; Szadecky-Kardoss S. uber die Wandlungen der Ostgrenze der awarischen Machtsphare//Bibliotheca Orientalia Hungarica, № 20, 1975). До 626 г. Куврат являлся, как увидим далее, союзником Ираклия против авар. 1083 Упомянуто в «Поучении Владимира Мономаха» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 248). 1084 Свод I. С. 262. 1085 Свод II. С. 402, 405. 1086 О выселении антов свидетельствуют многочисленные находки пальчатых фибул (Археология Венгрии. Конец II тыс. до н. э. — I тыс. н. э. М., 1986. С. 313). 1087 С этим, а также с более ранним выселением в Чехию хорватов может быть связана любопытная антропологическая деталь. По одному из ключевых генетических признаков — дерматоглифике (рисунку на кистях рук) чехи-мужчины ближе к восточным славянам, чем даже болгары, и резко отличаются от других западных славян. В то же время женщины-чешки по этому признаку — определенно западные славянки. Хотя, как и польки, они ближе к восточным славянкам, чем женщины-словачки. Все западные славянки ближе к восточным, чем болгарки (Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 2002. С. 78). Это как раз легко объясняется историей славянского завоевания Балкан. Но особую близость чехов-мужчин к восточным славянам можно объяснить только с учетом существования чешских племен хорватов, дулебов и лучан. 1088 См.: Sklenar, 1974. S. 274; Седов, 1995. С. 312, 316 (карта). 1089 Старейший источник о расселении чешских племен — грамота, утверждающая границы Пражской архиепископии (Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. С. 152). На западе Чехии, наряду с лучанами, помещаются здесь дечане, литомержцы, лемузы. О времени появления всех этих племен с уверенностью говорить нельзя. Стоит отметить, что зличане здесь среди северных племен не названы, зато фигурируют «хорваты и другие хорваты». Стоит отметить, что Козьма Пражский не знал ничего о происхождении племени лучан и угадывает совершенно невероятное от латинского luca ‘луг’ (Козьма, 1962. С. 49). Здесь он невольно попадает в точку — значение праславянского слова «лука» сходно, и оно родственно слову «луг» (ЭССЯ. Вып. 16. С. 148–150). 1090 Археология Венгрии 1986. С. 310–313; Седов, 1995. С. 29. 1091 Федоров — Полевой, 1973. С. 300 (как пример — аваро-славянские элементы в гепидско-дакийском могильнике Бандул-де-Кымпиэ). 1092 Седов, 1995. С. 129. 1093 Седов, 1995. С. 133. Гипотеза о существовании здесь центра «государства Само» (Kunstmann Н. Wo lag das Zentrum von Samos Reich? // Die Welt des Slawen. Halbjahresschrift fur Slawistik. Bd. XXVI. Munchen, 1981. S. 67 — 101) нуждается в более весомых доказательствах. Неясно, в какой именно момент между VII и XIV вв. (позднейшая славянская керамика из Кнетцгау) появились «княжеские» топонимы. Четких следов княжеского «града» в данной местности, кажется, нет. Логичнее искать центр «державы» Само в Моравии, где градов в VII в. строится немало. Так, как увидим далее, обычно и делается. 1094 Седов В.В. Славяне. М., 2002. С. 532–534. Приводимая здесь датировка переселения рубежом VII/VIII вв. исключается упоминаемыми находками в Зимно. Очевидно, следует датировать факт временем не позднее рубежа VII/VIII вв. 1095 См. в «Этимологическом словаре славянских языков» (ЭССЯ): *хolca ‘штанина, чулок’ (Вып. 8. С. 56); *loktika ‘салат-латук’ (Вып. 16. С. 7–8); *meta ‘мята’ (Вып. 19. С. 16–17); *nagorditi ‘наградить’ (наиболее гипотетическое заимствование, из германского через предполагаемый романский — но, может быть, восходит к воинскому наречию каганата, как и пресловутые «бифульки»? — существительное *nagorda и другие однокоренные слова происходят от глагола) (Вып. 22. С. 51–52); *ocelъ ‘сталь’ (Вып. 32. С. 10). Раннее, но не ранее VII в., время заимствований разумно определять именно по наличию их в восточнославянских языках при отсутствии в болгаро-македонской группе. 1096 Итальянские народные предания нового времени приписывают разгром Фриуля во времена «королевы» Ромильды (то есть в 610 г.) славянам (Brozzi M. Il ducato longobardo del Friuli. Udine, 1980. P. 125). Однако события здесь настолько сильно искажены, что и аварское вторжение могло запросто совместиться с позднейшими набегами славян. Достаточно сказать, что герцогиня Ромильда, сдавшая после гибели мужа Гизульфа столицу герцогства аварам, превращается в героиню сопротивления. Авары, разумеется, в проживших больше 1000 лет преданиях уже совсем не упоминаются. 1097 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 37.: Свод II. С. 484/485. 1098 См.: ЭССЯ. Вып. 29. С. 128–129. Любопытно другое заимствование из тюркского, только в чешско-словацком ареале (уже VIII в.?) — *obsogъ ‘выгода’ (ЭССЯ. Вып. 29. С. 251). Кажется, здесь отразилось представление об особой корыстности авар, как и в некоторых значениях слова «обрин». 1099 Славянские языки, 2005. С. 18. 1100 Славянские языки, 2005. С. 19. 1101 *cima ‘верхушка’ (из балкано-романского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 195–196); *brъdoky ‘латук’ (из иллирийского или фракийского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 67–68); *bъkъ ‘открытый очаг, камень’ (из иллирийского; ЭССЯ. Вып. 3. С. 115–116); *letja ‘чечевица’ (есть и в древнерусском с XIII в.; вероятно, из балканских языков; ЭССЯ. Вып. 15. С. 63–65); *macesnъ ‘лиственница’ (только в западной группе; предположительно из субстратного языка; ЭССЯ. Вып. 17. С. 112–113). 1102 Славянские языки, 2005. С. 73, 97. 1103 Славянские языки, 2005. С. 107–108, 136. 1104 Славянские языки, 2005. С. 147–148, 192–193. 1105 Славянские языки, 2005. С. 229. 1106 См.: Свод II. С. 355–357. 1107 Седов, 1995. С. 103. 1108 Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. М., 1993. С. 13/14. См.: Нидерле Л. Славянские древности. М., 2001. С. 484–485; Rudnicki M. Geograf Bawarski w oswetleniu jezykoznawczym.// Z polskich studiow slawistycznych. Warszawa, 1958. S. 189; Дуйчев И. Блъгарско средневековие. София, 1972. С. 81–82; Kralicek A. Der sogenannte Bayrische Geograph und Mahren.// Zeitschrift fur die Geschichte Mahrens. Brunn, 1989, Bd.2. S. 229. Ничем не хуже предполагаемое в ряде из названных работ происхождение и от славянского «-родичи» в сочетании с тем же греческим ‘????. Использование греческого или грецизированного самоназвания было бы лишним свидетельством тесных взаимоотношений славян и аборигенов, правда, в этом случае относящимся уже к IX в., когда те в основной массе славянизировались. 1109 ПСРЛ. Т.1. Стб. 6, 10, 11, 25; Т.2. Стб. 5, 8, 9, 18; Т. 38. С. 12, 13, 18. 1110 Седов, 1995. С. 157–162. 1111 Въжарова Ж. Славянски и славянобългарски селища в Българските земи от края на VI–XI век. София, 1965. С. 115 след.; Гимбутас М. Славяне. М., 2003. С. 140–141; Седов, 1995. С. 157, 162. 1112 Народы зарубежной Европы. Т.1. М., 1964. С. 340–341 1113 Въжарова 1965. С. 183; Въжарова Ж. Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI–XI в. на територията на България. София, 1976. С. 9 след.; Гимбутас 2003. С. 140; Седов, 1995. С. 157. 1114 Седов, 1995. С. 159. 1115 Въжарова 1965. С. 182–183; Седов, 1995. С. 157, 162. 1116 Въжарова 1965. С. 179, 207–223; Седов, 1995. С. 163. 1117 Въжарова 1976; Гимбутас 2003. С. 140; Седов, 1995. С. 157–158. О преобладании среди славян кремации умерших позволяет судить случайное упоминание Феодора Синкелла (Свод II. С. 86/87). 1118 Дельту Дуная каганат контролировал с 602 г. (Paul. Diac. Hist. Lang. IV.20) до прихода болгар Аспаруха (Патканов 1883). Именно с низовий Дуная пришли славяне, осаждавшие вместе с аварами Константинополь в 626 г. (по Феофану: Свод II. С. 272/273). То, что они, увидев истребление каганом соплеменников, покинули авар, на самом деле совершенно не доказывает, что они (как, например, по комментарию С.А. Иванова к Пасхальной Хронике — Там же. С. 83) до того момента были от кагана независимы. Трактовать действия возмущенных славян как антиаварское восстание, а не как разрыв равноправного союза, гораздо больше оснований. 1119 Свод II. С.284/285 (Феофан). 1120 Иванов, 1925. С. 282. 1121 Иванов, 1925. С. 282. 1122 Бешевлиев В. Началото на българската държава според апокрифен летопис от XI в.// Средневековна България и Черноморието. София, 1982. С. 39–40; Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2001. С. 240. Как представляется, в реальности на примере Слава довольно рельефно вырисовывается характер дошедшей до «летописца» устной традиции — сугубо народной, внимательной более к топонимическим, чем к хронологическим и генеалогическим данным. Ни о предках, ни о потомках Слава ничего не сообщается. С другой стороны, становится очевидной вольность интерпретаций древних преданий богомильским автором, который «сшивал» их условно и притом безапелляционно, выстраивая в итоге совершенно фантастическое хронологическое и генеалогическое единство. Яркой чертой этого нового, отсутствовавшего в исходном материале единства является абсурдная в контексте и тогдашней исторической науки, и наших сегодняшних знаний хронология. «Летописец» искусственно завышает даже не сроки жизни, а сроки правления и легендарных, и вполне исторических персонажей. Можно было бы допустить, что в некоторых случаях мифические сроки правления давала сама устная традиция. Но едва ли они могли содержаться во всех до единого разрозненных, привязанных к местностям преданиях, зафиксированных «летописцем». Однако именно эта черта сообщает апокрифу черты «летописи». Одновременно она уподобляет его родословному преданию, не столько утраченному фольклорному, сколько ветхозаветному, — а следовательно, парадоксальным образом сообщает ему некую «достоверность» в глазах аудитории. Метод этот применялся в апокрифической литературе еще с рубежа нашей эры («Книга Юбилеев» и др.). 1123 См.: Гимбутас, 2003. С. 139–140; Седов, 1995. С. 29, 129, 131, 157–158, 162, 321; Седов В.В. Славяне. М., 2002. С. 493. 1124 Седов, 1995. С. 29, 131. 1125 Седов, 1995. С. 158. 1126 Гимбутас 2003. С. 139; Седов, 1995. С. 29, 129, 131, 157, 158, 162. 1127 Седов, 1995. С. 321. 1128 Седов, 1995. С. 131, 162. 1129 Седов, 1995. С. 130, 323, 332. 1130 См.: Mrkobrad D. Arheoloski nalazi seobe naroda u Jugoslaviji. Beograd, 1980. S. 71 etc; Седов, 1995. С. 130–131, 158–162, 323, 332, 337. 1131 Седов, 1995. С. 131. 1132 «Хижины» в ЧСД: ЧСД 279: Свод II. С. 166/167. 1133 Седов, 1995. С. 162 1134 Седов, 1995. С. 163–164. 1135 ЧСД 254, 268: Свод II. С. 154/155, 160/161. 1136 Седов, 1995. С. 131, 159, 332. 1137 ЧСД 255, 271–273: Свод II. С. 158/159, 162/163. 1138 Седов, 1995. С. 164. 1139 См.: Седов, 1995. С. 131, 158–159, 337. 1140 Седов, 1995. С. 130, 159; Седов, 2002. С. 493. 1141 Werner J. Slawische Bronzefiguren aus Nord-griechenland// Abhandlungen des Deutschen Akademie der Wissenschaft zu Berlin. Klasse fur Gesellschaftswissenschaft. Bd. 2. Berlin, 1953. См. также: Седов, 1995. С. 161. 1142 Седов, 1995. С. 130, 158–159, 337. 1143 Для византийца X в. «славяне» и «авары», особенно применительно к Греции, синонимы (Свод II. С. 328/329). Так, в «Житии святого Панкратия» VIII в. именно авары рисуются как насельники завоеванной славянами Эллады и морские разбойники на Адриатике (там же. С. 333–334). На этих основании можно предполагать (без твердой уверенности) присутствие авар среди первых славян, вторгшихся на балканский юг. 1144 Так поступает «готский» вождь, «стоявший во главе всей Славонии», с Далмацией у Фомы Сплитского: Фома, 1997. С. 35/240 — 36/241. 1145 На это однозначно указывают не только находки аварских воинских погребений, но и сведения Константина Багрянородного о первой волне завоевателей Далмации. Он не только смешивает в ней авар и славян, но и подчеркнуто рассматривает позднейшее вторжение хорватов как освобождение именно от аварского владычества (на основе преданий самих хорватов) (Константин Багрянородный. Об управлении Империей. М., 1991. С.110/111–112/113, 126/127–130/131, 136/137). 1146 ЧСД 196: Свод II. С. 134/135. «Полностью» независимыми (там же. С. 195–196) (комментарий О.В. Ивановой) македонских славян признать не решаемся, соизмеряя реальные их и каганата силы. 1147 Автор Монемвасийской хроники: Свод II. С. 328/329 («не подвластные ни василевсу ромеев, ни кому-либо иному»). 1148 Седов, 1995. С. 159. 1149 Народы I. С. 418–419, 444, 461, 474–475, 489–491. 1150 ЧСД 181, 199, 214, 30–309: Свод II. С. 26/127, 136/137, 142/143, 178–181. 1151 ЧСД 307: Свод II. С. 178–181. Излагается эпизод с африканским епископом Киприаном, захваченным у берегов Эллады славянами и спасенным из рабства св. Димитрием Солунским. 1152 ЧСД 249: Свод II. С. 252/253. 1153 ЧСД 214: Свод II. С. 142/143. 1154 ЧСД 214: Свод II. С. 142/143. 1155 Именно «деньги» предлагают славяне аварскому кагану: ЧСД 197: Свод II. С. 134/135. 1156 См.: ЧСД 193: Свод II. С. 132/133 (??????? — о Хотуне); 144: С. 144/145 (??? — здесь и еще далее о Пребуде); 255: С. 156/157 (опять ?????, но о нескольких вождях дреговичей); 265, 273: С. 160/161, 162/163 (???????? — о всех вождях четвертой осады Фессалоник). 1157 ЧСД 212: С. 140/141. 1158 Свод II. С. 274/275 (см. также прим. 268). 1159 См.: Константин, 1991. С. 136/137, 140–143; Шишић Ф. Летопис попа Дукљанина. Београд — Загреб, 1928. С. 292 след. Надо вместе с тем иметь в виду, что предания, отраженные у Константина Багрянородного и еще в большей степени у «Дуклянина», представляют собой как раз «княжескую» версию устной традиции, которая пришла на смену версии «племенной» в раннесредневековых государствах. Особенно это видно при сравнении приводимой Константином же (С. 130/131) «племенной» версии прихода хорватов на Балканы с образами пяти братьев-родоначальников и двух их сестер и приводимой далее версии «княжеской», в коей представлен уже единственный «архонт»-основатель. 1160 Константин, 1991. С. 112/113 — считает даже, что «архонтов… эти народы не имели, кроме старцев-жупанов, как это в правилах и в прочих Славиниях». Это прямо противоречит, однако, собственным данным Константина об «архонтах» перечисляемых народов — хорватов, сербов и прочих. 1161 Этот обычай использовал в 688 г. император Юстиниан II для назначения князя македонским славянам (Никифор — Свод II. С. 232/233). 1162 Седов, 1995. С. 130. 1163 Судя по «Житию святого Панкратия», говорящему об «аварах» в «епархии Диррахия» (Свод II. С. 333), и по средневековым преданиям о захвате ими Превалитании (Константин, 1991. С. 152/153; Шишић, 1928. С. 295–296). 1164 Седов, 1995. С. 166–167. 1165 Упомянуты у славян уже при описании осады Фессалоники в 616 г. (ЧСД 189.: Свод II. С. 130/131). 1166 Седов, 1995. С. 161. 1167 При осаде Константинополя в 626 г. «пешие легковооруженные славяне» противопоставлены «тяжеловооруженной пехоте» аварского кагана (Свод II. С. 76/77 — Пасхальная хроника). В осаде участвовали преимущественно придунайские племена. 1168 ЧСД 262: Свод II. С. 158–161. 1169 ЧСД 272, 279: Свод II. С. 162/163, 166/167. 1170 Свод II. С. 84/85. 1171 См.: ЧСД. 179: Свод II. С. 124–127; Феофан о событиях 626 г.: Свод II. С. 272/273; Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 44.: Свод II. С. 486/487; Свод II. С. 517 («Смешанный хроникон» о нападении славян на Крит). 1172 ЧСД 242: Свод II. C. 150/151. 1173 ЧСД 248: Свод II. С. 152/153. 1174 Константин, 1991. С. 152/153. 1175 См.: Шишић, 1928. С. 296 след. 1176 См.: Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 1997. Приложение. №№ 20, 40. 1177 См., например: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977. С. 251, 263–264, 288; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М.,1978. С. 205, 212–213 1178 ЧСД 193: Свод II. С. 132/133. 1179 В одном болгарском предании говорится о том, что «бог Перун» «жил» в Пирине (БНТ. Т. 11. С. 221). 1180 Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология.// Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 13. 1181 Седов, 1995. С. 160–161 1182 Заметим, впрочем, что связанное с их обычаями восприятие славян как «людей-волков» еще удерживалось в первой половине VII в. среди ромеев. «Волки-славяне» выступают в одной из поэм Георгия Писиды, «Ираклиаде» (Свод II. С. 70/71). У сербов мощные следы оборотнических представлений сохранились в героическом эпосе (см.: Славянская мифология 1995. С. 198). 1183 См.: Песни южных славян. М., 1976. С. 23 след. 1184 См.: Песни южных славян, 1976. С. 33–34, 425. 1185 Народы I. С.343, 446, 475. 1186 Народы I. С. 343, 420, 446, 462. 1187 Сохранилось в обрядности Ильина дня: Календарные обычаи 1978. С. 214, 234 (у болгар сохранилось общеславянское, отмеченное еще у Прокопия, приношение быка). 1188 Календарные обычаи, 1977. С. 249, 252, 254, 260, 265, 278, 287, 289, 290. 1189 См.: Календарные обычаи, 1978. С. 201, 224–225. 1190 Календарные обычаи, 1978. С. 202, 226–227. 1191 Календарные обычаи, 1977. С. 278–280. 1192 Календарные обычаи, 1977. С. 269–270, 291. 1193 См.: Русанова И.П. Славянские древности VI–VII вв. М., 1976. С. 97–98; Приходнюк О.М. Археологічнi пам’ятки Середнього Придніпров’я VII–IX ст. Київ, 1980. С. 124; Седов, 1982. С. 112–113. Выделение памятников в особую культуру и ее общая характеристика даны в работах: Гавритухин — Обломский, 1996; Обломский А.М. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время. М., 2002. С. 80–86, 91–93. 1194 Именник болгарских ханов. София, 1981. С. 12. Отождествлению названного здесь Безмера из рода Дуло, преемника Курта из рода Дуло, со старшим сыном Куврата Батбаяном (Златарски В. История на българската държава през средните векове. Т. I. София, 1970. С. 164) нет ни единой убедительной альтернативы. 1195 См.: Чичуров, 1980. С. 151/159, 168–169. 1196 ЭССЯ. Вып. 29. С. 128. 1197 Кухаренко, 1969. С. 128. 1198 Кухаренко, 1969. С. 125; Historia kultury 1978. S. 30, 40; Седов, 1995. С. 44–45. 1199 Седов, 1995. С. 44. 1200 Та, которую знает на Зале источник XII в. (см.: Нидерле, 2001. С. 493) 1201 Седов, 1995. С. 28–29, 142. 1202 Седов, 1995. С. 142–143. 1203 Седов, 1995. С. 144. 1204 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 370/371. При прямом славянском толковании оно вступает в курьезную семантическую перекличку с именем «Брус», которое носил упоминаемый в Летописи попа Дуклянина брат родоначальника дуклянских князей, оставшийся княжить на сербохорватской прародине (Шишић, 1928. С. 293). В принципе, Дерван вполне мог бы быть братом перешедшего на службу Ираклию «архонта Серба», о котором говорит, явно перекликаясь с Дуклянином, Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 140/141). Но все же разумнее, как представляется, отнестись к этой заманчивой ономастической игре как к случайному совпадению. 1205 Седов, 1995. С. 143–145. 1206 Судя по Баварскому Географу: Назаренко, 1993. С. 13/14. Этимология названия совершенно туманна, возможно, от местного названия Dalmatia (см.: там же. С. 20. Прим. 13). 1207 О том, что сербы на начало 630-х гг. «издавна относились к Франкскому королевству», говорит Фредегар (Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 370/371). Потому с доверием следует относиться и к известию Константина Багрянородного, согласно которому хорваты до переселения на Балканы при Ираклии, на своей прародине уже «подчинялись франкам» (Константин, 1991. С. 130–133). Ничего невероятного, с учетом сведений Фредегара о сербах, в этом нет — со скидкой на то, что «подчинение» в хорватском предании отражает франкские притязания, каковые франки попытались подкрепить уже в IX в. 1208 Седов, 1995. С. 144–145. 1209 См. в ЭССЯ. Можно отметить еще *malъzena ‘супруги’ (славянская калька с верхненемецкого malwip). 1210 Седов, 1995. С. 97, 337, 343; Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 258. 1211 Седов, 1995. С. 44, 47. Время основания Ольденбурга-Старграда уточняется, исходя из его названия, по времени основания Мекленбурга-Велиграда, позднейшей столицы. Монографическое описание Старграда: Gabriel I. Starigrad/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien. Neumunster, 1984. 1212 Херрман Й. Ободриты, лютичи, руяне// Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 340; Седов, 1995. С. 51. Монографическое описание Мекленбурга: Donat P. Die Mecklenburg — eine Hauptburg der Obodriten. Berlin, 1984. 1213 Седов, 1995. С. 47. 1214 Отдельные группы велетов, в принципе, могли прорываться через ободричские земли и дальше на запад, в Саксонию и Фризию. Л. Нидерле осторожно допускал, что с велетами могут быть связаны упоминаемые Бедой Достопочтенной в 90-х гг. VII в. вилты, племя в составе фризского союза, имевшее центром Вилтабург — будущий Утрехт (см.: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001. С. 164). «Однако, — справедливо отмечал Л. Нидерле, — одно лишь сходство наименований при отсутствии других данных еще недостаточно для того, чтобы сделать такой вывод. В еще большей степени это относится к отзвукам наименования вельтов, встречающимся в Англии» (Нидерле, 2001. С. 122). Остается лишь добавить, что наличие таких «отзвуков», скорее всего, связано именно с фризскими вилтами — проникшими в Англию еще в конце V — начале VI в. вместе с ютами, то есть задолго до велетских войн. 1215 Седов, 1995. С. 54–55. 1216 Herrmann J. Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhaltnisse der slawische Stamme zwischen Elbe und Oder/Neisse. Berlin, 1968. S. 73; Гимбутас, 2003. С. 157. 1217 Historia kultury 1978. S. 37–38, 105; Седов, 1995. С. 139–141. 1218 См.: Седов, 1995. С. 141. 1219 Седов, 1995. С. 140. 1220 Назаренко, 1993. С. 14/15 — во второй, более поздней части текста. 1221 Назаренко, 1993. С. 13/14, 14/15. См. также примечания к тексту: С. 23, 58. Отождествление «милоксов» с мильчанами, которое нам кажется более чем обоснованным, предложил А.Краличек (Kralicek, 1989. S. 226). Упоминаются мильчане как соседи дедошан и в грамоте Пражской архиепископии (Козьма, 1962. С. 152). 1222 Судя по сохранению его выселившимися из Поозерья в Прибалтику «латвийскими» вендами (см. о них: Седов, 1995. С. 173 след.). 1223 См.: Веселовский А.Н. Русские и вильтины в «Саге о Тидреке Бернском». СПб., 1906. С. 136–138. 1224 Восточные славяне, 2002. С. 169. 1225 Концепция славянского и «мазурского» происхождения прибалтийских вендов обеспечивает недостающее звено между венедским ареалом и новгородской культурой сопок VIII–IX вв. В работе 1982 г., датируя возникновение культуры сопок VII в., В.В.Седов указывал: «Сейчас невозможно ответить на вопрос, каким путем шло расселение славян в Приильменье. Можно только высказать предположение, что предки словен, как и предки кривичей, в процессе расселения пересекли балтские земли, может быть, где-то в бассейне Немана» (Седов, 1982. С.166). Казалось бы, концепция миграции из Мазур в Прибалтику обеспечивает решение проблемы. Тем не менее, в работе 1995 г. В.В. Седов отказался от прежних воззрений, существенно удревняя культуру сопок. Одно из оснований такого удревнения он видит в том, что «археологические материалы Среднего Повисленья, Неманского бассейна и других балтских территорий не фиксируют каких-либо следов крупной миграции населения в восточном или северо-восточном направлениях в VII в. или на рубеже VII и VIII вв.» (Седов, 1995. С. 245). Однако это прямо противоречит развернутой им на серьезных основаниях в той же самой работе концепции прихода вендов в Прибалтику именно в VII в. В работе 2002 г. (Седов, 2002) какие-либо упоминания о прибалтийских вендах (а также и о Мазурской группе), несмотря на детальную и убедительную разработку этой проблемы в предыдущем труде, отсутствуют. Наличие столь заметных внутренних противоречий заставляет, к сожалению, в целом сомневаться в целесообразности и обоснованности удревнения культуры сопок. Гипотезы об удревнении отдельных славянских культур и к «славянизации» неславянских на территории Европейской России нередки в работах последних полутора десятилетий. 1226 Датируется в промежутке 575–675 гг. (Седов, 1995. С. 171). Датировку позволяют сузить некоторые обстоятельства. В конце VI в. авары только разведывали и зондировали ситуацию на Севере, будучи заняты войной с ромеями. Для активных операций в этом направлении время настает только после 602 г. В начале же VII в., самое позднее, уже происходит вендское вторжение в Прибалтику (Седов, 1995. С. 174). 1227 См.: Седов, 1995. С. 171, 173; Кулаков В.И. Могильники западной части Мазурского Поозерья конца V — начала VIII в.// Barbaricum-1989. Warszawa, 1990. 1228 Седов, 1995. С. 171. 1229 Седов, 1995. С. 173–175. Дискуссия о происхождении прибалтийских вендов имеет давнюю историю. Широко распространилось мнение об их финском, ливском происхождении (Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. С. 34). Однако В.В. Седов убедительно и подробно обосновал мнение об их славянском происхождении с точки зрения археологии (Седов, 1995. С. 173–182). Остается отметить, что на финской почве этимология совершенно объяснимого для славян (пусть и не славянского по коренному происхождению) этнонима не заходит дальше нефинского названия реки Венты. 1230 Седов, 1995. С. 180–182. 1231 Седов, 2002. С. 361 1232 Седов, 2002. С. 359. 1233 Historia kultury 1978. S. 34. 1234 Седов, 1995. С. 10–11, 28–29. 1235 Historia kultury 1978. S. 31. 1236 Historia kultury 1978. S. 203, 206, 289. 1237 Historia kultury 1978. S. 90–91, 96, 289; Седов, 1995. С. 21. 1238 Свод II. С. 399. 1239 См.: Седов, 1982. С.12, 236–237, 239–240, 241. 1240 ЭССЯ. Вып. 19. С. 106–107 (термины известны в северных славянских языках и западных южнославянских). 1241 ЭССЯ. Вып. 8. С. 62 (см. значения во всех языках, кроме болгарского и македонского). 1242 ЭССЯ. Вып. 24. С. 104–105 (слово неизвестно в болгарском и македонском). 1243 ЭССЯ. Вып. 4. С. 182–183 (форма Дажьбог отмечена в древнерусском и старопольском; форма Да(й)бог в сербохорватском). 1244 Этот комплекс представлений отражен в русской Ипатьевской летописи, где Дажьбог отождествлен с «царем» Гелиосом из Хроники Иоанна Малалы (ПСРЛ. Т.2. Стб. 279), и в сербской сказке о Дабоге, «царе земли».(см.: Славянская мифология 1995. С. 153). «Внуками Дажьбожьими» именуются, как известно, русские князья в «Слове о полку Игореве». 1245 Об этом можно судить по избранию правителем Само («виниды избрали его над собой королем» — Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367). 1246 У Богухвала (см.: Великая хроника о Польше, Руси и их соседях. М, 1984. Гл. 1–2). 1247 См.: ЭССЯ. Вып. 18. С. 42. 1248 См. исследование на конкретном источниковом материале: Алексеев С.В. Дописьменная эпоха в средневековой славянской литературе: генезис и трансформации. М., 2005; Алексеев С.В. Предания о дописьменной эпохе в истории славянской культуры XI–XV вв. М., 2006. 1249 См.: ЭССЯ. Вып. 8. С. 174–175, 177 (корень *jarъ в основе имени следует отличать от более «позитивного» по смыслу *jaro, связанного с исключительно благотворной солнечной активностью — отсюда, например, слово «яровой» — ЭССЯ. Вып. 8. С. 175–178); Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974 (обосновывается гипотеза об отражении образа Ярилы в народно-христианских представлениях о св. Георгии-Юрии); Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX — начала ХХ в. М., 1979. С. 181, 250–252; Славянская мифология 1995. С. 397–399. 1250 ЭССЯ. Вып.19. С. 131–134. 1251 См.: Русанова — Тимощук, 1997. Приложение. №№ 29, 59, 72. 1252 Русанова — Тимощук 1997. Приложение. № 69; Седов 1995 С. 60. 1253 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 39.: Свод II. С. 486/487. 1254 Летопись попа Дуклянина (Шишић 1928. С. 293–295) рисует достоверную картину одновременного вторжения в Далмацию и Истрию. О вторжении славян из Македонии в «Ахайю и Далмацию» говорит «Армянская география» (Патканов 1883. С. 27). 1255 Шишић 1928. С. 293–295. Остроил — персонаж местного, дуклянского родового предания, павший в Дукле (Превалитании). В хорватское по происхождению предание о войне с Салоной и завоевании Далмации он вставлен искусственно. Искусственна, впрочем, и вся эта литературная комбинация разнородных мотивов. Базовый остов, к которому была присовокуплена «готская легенда» с фигурой Тотилы — сербское переселенческое предание о двух братьях-князьях, из которых младший с половиной народа отправился на Балканы, а старший остался править на прародине (известно из Константина Багрянородного — Константин, 1991. С.140/141). Но на этот остов оказалось искусно, если не сказать органично, нанизано изначально чуждое, даже противолежащее ему предание об аваро-славянском завоевании Далмации и победоносной войне славян с римлянами. Это предание, судя по «хорватской» главе трактата Константина (Константин, 1991. С. 128–131; излагается исторически довольно точна и негативная по отношению к далматинцам версия легенды о падении Салоны, а далее упоминается о сохраняющих самосознание потомках авар среди хорватов), долгое время сохранялось среди потомков авар в Хорватии, а после падения Хорватского королевства слилось у хорватской аристократии с собственной переселенческой легендой. О последнем можно судить по хронике Фомы Сплитского, который уже не противопоставляет хорватов («куретов») аварам («готам») и лендзянам («лингонам»), а видит в них союзников. Дуклянский автор, объединяя традицию сербскую с хорватской, включил новую версию прихода хорватов (по сути же — предание об аваро-славянском нашествии) в свой труд. Следует учесть, что сербы и являвшиеся их частью (?) дукляне с аварами на Балканах не воевали или, по меньшей мере, ко временам Константина о такой войне не помнили. 1256 Седов, 1995. С. 131–132, 323–324. 1257 Ion. Vit. Columb. I. 27.: Свод II. С. 360/361. 1258 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 38.: Свод II. С. 484–487 (о географии см. примечания В.К. Ронина к этому фрагменту — С. 495). 1259 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 39.: Свод II. С. 486/487. 1260 Фома 1997. С. 240–1/36. 1261 Дата и некоторые обстоятельства событий устанавливаются на основании археологических разысканий (Marovic A. Arheoloska iskapanja u okolici Dubrovnika// Anali hist. in-ta JAZU u Dubrovnike. 1965. № 9–10; Dovan A. Povijest Dubrovnika od najstarijih vremena do pocetka VII st.// Anali hist. in-ta JAZU u Dubrovnike. 1966. № 10–11). Из письменных источников самый старый и достоверный рассказ (но с ошибочной, восходящей, кажется, к легендам об Аттиле, датой разграбления Эпидавра и Салоны — 449 г.) содержится в трактате Константина Багрянородного «Об управлении Империей» (Константин, 1991. С. 122/123). Предание, сообщаемое Салернской хроникой X в. (Chronicon Salernitanum// Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. III. Hannoverae, 1839. P. 512), связывает само основание Амальфи с выходцами с Рагузы. Однако основание Рагузы это предание относит к началу IV в., ко временам Константина I. Эта облагораживающая версия, возводящая жителей Дубровника к знатным римлянам, потерпевшим кораблекрушение в «пределах славян» во время переселения в Константинополь, родилась, надо думать, уже в самом Амальфи. Впрочем, основу ей могло дать наличие на Рагузе еще до прихода беженцев какого-то далматинского населения. Версия позднейших авторов — Дуклянина (Шишић, 1928. С. 317–322), перекликающегося с ним Фомы Сплитского (Фома 1997. С. 242–3/39) и дубровницких анналистов (Макушев В.В. Исследования об исторических памятниках и бытописателях Дубровника. СПб., 1867. С. 305–307, 316) — связана, кажется, с расширением Рагузы-Дубровника (VIII–IX вв.) в результате подселения славян. Однако и здесь, особенно у Фомы, сохраняется историческая память о разорении Эпидавра и бегстве его жителей. Фома, кстати, и упрекает их за слияние в Дубровнике с «чужеземцами», опустошившими город. У него эти чужеземцы — беглецы из Рима. Так же и у Дуклянина, но у него беглецов возглавляет славянский жупан Бел, и к разорению Рагузы они никакого отношения не имеют. Фома как будто пародирует версию Дуклянина. Стоящий между Фомой и дубровницкими анналами Милеций в своей стихотворной хронике явно полемизирует со сплитским хронистом на основе местной традиции. Эпидавр теперь разрушают действительно римляне — во время гражданской войны. Затем в Градац прибывают беженцы из Италии, позже вместе с беженцами из Эпидавра основавшие Рагузу. Славяне назвали Рагузу Дубровником, причем объяснение происхождения обоих названий точно повторяет Дуклянина (Matas. Miletii versus. S. 9–10). Что касается Дуклянина, то он приписывает разорение Эпидавра «сарацинам», действительно опустошавшим Адриатику в 841 г. (см.: Шишић, 1928. С. 318–319). Здесь также можно видеть след преданий о правившем в первой половине IX в. и, видимо, причастном к расширению города требиньском жупане Белом (древнейшее упоминание о нем у Константина: Константин, 1991. С. 150/151). Белый (Бел) назван основателем Дубровника у Дуклянина; предание о его бегстве-возвращении из Рима и основании города своеобразно трактует и Фома, превращающий его со спутниками в «римских преступников». У дубровницких анналистов XV–XVI вв. Эпидавр тоже разоряют сарацины, но основание Дубровника произошло ранее и связывается с именем славянского князя Радослава. Это позднейшая версия отраженного у Дуклянина предания, в котором Радослав — дед Бела. Здесь к Градацу как убежищу эпидаврцев добавляется Спилан. Дата основания Рагузы неясна. Анналы начинают историю города с 526 (Макушев, 1867. С. 305) или с 687 г. (там же. С. 316). Первая дата слишком ранняя, вторая кажется слишком поздней. Может быть, как считали некоторые авторы уже в позднее средневековье, 526 г. — искажение от «626». Но в целом ранние разделы дубровницких анналов за VI–VIII вв. фантастичны. Достоверность отдельных событий и дат совершенно теряется в сумятице искаженных при записи, повторяющихся у анналистов «кругами» устных преданий. Например, Радослав становится сыном боснийского «короля» Стефана, якобы правившего в VI в. (Макушев, 1867. С. 305–306); в VII в. появляются еще одни Стефан (Степан) с сыном Радославом (Радосавом) (там же. С. 306–307, 316–317), а в начале IX в. мы встречаем и еще одного Стефана Боснийского (там же. С. 313, 317). Известно, что Стефанами в крещении звали хорватского короля Држислава (конец Х в.) и первого самостоятельного боснийского князя второй половины XI в. Последний имел сношения с Дубровником, о чем упоминал Милеций. Не исключено, впрочем, что то же имя носил хорватский князь первой половины IX в. Владислав. Как бы то ни было, Родослав к Стефану — подлинному или гипотетическому — никакого исторического отношения не имел. 1262 Дата приблизительно устанавливается археологами по последним христианским захоронениям на городском кладбище (Wilkes J. Dalmatia. L., 1969. P. 437; Klaic N. Povijest Hrvata u ranom srednjem veku. Zagreb, 1971. S. 132). 1263 Фома, 1997. С.241/36–242/38. Гораздо короче упоминает о взятии Салоны славянами (и/или аварами) Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 112/113, 130/131). Он, вероятно, объединяет предание о падении Салоны с преданием о падении в конце VI в. прикрывавшего ее Клиса. Первое упоминание о разорении Салоны «готами» и бегстве жителей на острова в латинской традиции — легенда о перенесении мощей свв. Домния и Анастасия (XI в.), которой пользовался Фома (Documenta Historiae Chroatiae periodem antiquam. Zagrebae, 1877. P. 288). 1264 Следами пребывания славян в разоренной Салоне могут быть находки монет 620-х-630-х гг., служащие некоторым исследователям основанием перенести дату падения города на более позднее время (Marovic J. Reflexions about the year of the destruction of Salona// Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Kn. 77. Zadar, 1984). События описывает Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 112/113, 130/131). О судьбе далматинского населения см. также: Седов, 1995. С. 321. 1265 Фома, 1997. С. 242/38. О переселении салонитов в Раусий сообщает Константин Багрянородный, называя шестерых представителей городской старшины (Константин, 1991. С. 122/123). Среди переселенцев были архидиакон салонской церкви Валентин, а также некий его тезка (родственник?), сын которого Стефан получил офицерское звание протоспафария (командуя местным гарнизоном?). Фома, враждебно относившийся к Дубровнику, об участии салонитов в его основании ни словом не обмолвился, хотя верно, в отличие от Дуклянина, отнес основание города ко временам разорения Далмации «варварами». 1266 Их перечисляет Константин Багрянородный. При этом он добавляет Аспалаф (Сплит), основанный позже беженцами из Салоны. См.: Константин, 1991. С. 112/113, 122–127, 130/131. Согласно Фоме Сплитскому, Задар все-таки был разрушен в VII в. и восстановлен выходцами из Салоны после 640 г. (Фома, 1997. С. 243/39–40). Субъективный характер этой версии очевиден, как и субъективность сплитской трактовки легенды об основании Дубровника. 1267 О завоевании «Превалии» аварским каганом сообщают «Чудеса святого Димитрия» (ЧСД 284: Свод II. 168/169). О разорении Диоклеи аварами кратко упоминает Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 152/153). По Летописи попа Дуклянина, Остроил доходит до «Превалитанского округа», «города Превалитанского» и погибает там (Шишић, 1928. С. 296). Последнее, впрочем, скорее относится к родовому преданию дуклян, чем к воспоминаниям об аваро-славянском нашествии. В грамоте 1252 г., связанной с прениями между Барской и Дубровницкой епархиями за первенство, Бар прямо назван преемником древней Диоклеи (Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. 4. Zarrabiae, 1906. P. 482–483). 1268 События упоминаются Исидором Севильским (Isid. Chron. Maior. 414.: Свод II. С. 354/355), его Испанским продолжателем (Cont. Hisp. A. 653.: Свод II. С. 356/357), Армянской географией (Патканов, 1883. С. 27), и, видимо, Георгием Писидой (Свод II. С. 70/71), подробнее же всего — в «Чудесах святого Димитрия» (ЧСД 179–181.: Свод II. С. 124–127). Дата неопределенна. Исидор говорит просто о «начале» правления Ираклия, относя туда же потерю Сирии и Египта (611–618 гг.). Его Продолжатель датирует точнее, но по сути двояко — 653 г. испанской эры (615 г.) и 4 годом Ираклия (613/614). С этой расплывающейся датой в целом согласны сведения «Армянской географии» об одновременном вторжении в Далмацию и Ахайю, а также данные Второго собрания «Чудес». Согласно ему, нашествие предшествовало осаде Фессалоники, каковая, в свою очередь, произошла за два года до похода на нее аварского кагана. Последний же имел место не позднее событий 619–620 гг., когда между Аварией и Византией был на время заключен мир. Итак, все указывает на 614–615 гг., но не конкретнее. Грандиозные действия славян, описываемые фессалоникским анонимом, должны были занять не один год. 1269 О локализации племен по данным этнонимии и топонимии см.: Нидерле, 2001. С. 89; Свод II. С. 191–193. 1270 ЧСД 179: С. 124–127. 1271 Следы разрушений и славянского пребывания от конца VI и начала VII в. трудно разграничиваются. В целом же масштабы нашествия вполне подтверждаются археологически (Седов, 1995. С. 159, 166). 1272 ЧСД. 197.: Свод II. С. 134/135. 1273 Свод II. С. 70/71. 1274 ЧСД помещают их в «области Фив и Димитриады» (ЧСД 254: Свод II. С. 154/155) — на берегу залива Воло в Фессалии. 1275 В VIII в. автор «Жития святого Панкратия» рассматривал «авар», живущих «в епархиях Диррахия и Афин», как единое целое (Свод II. С. 333). Войничи же, несомненно, самое крупное и единственное известное славянское племя на этом промежутке. 1276 Все эти земли эпитоматор Страбона еще в Х в. рассматривал как славянские (Византиjски извори за историjу народа Jугословиjе. Т. 1. Београд, 1955. С. 295). О владычестве славян на Пелопоннесе вплоть до начала IX в. идет речь во многих еще источниках. Прежде всего — в Монемвасийской хронике (Свод II. С. 328/329) и схолии Арефы (Свод II. С. 346/347). 1277 Седов, 1995. С. 158, 166. 1278 Седов, 1995. С. 158–159, 162. 1279 Дата определяется приблизительно, с отсчетом от нападения кагана на Фессалонику в 618 г. (также предположительно, но с учетом известной нам, последней в войне кампании 619 г.). В расчетах в основном следуем Ф. Баришичу (Баришић Ф. Чуда Димитриjа Солунског као историски извор. Београд, 1953. С. 86–95). Но есть и иные датировки (Бурмов А. Славянските нападения срещу Солун в «Чудесата на св. Димитрий» и тяхната хронология// Годишник на Софийския университетъ. Философско-исторически факултет. 1952, № 2. С. 195–196; Lemerle P. Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Demetrius et la penetration des slaves dans les Balkans. T. 2. Paris, 1981. P. 91–94). Отметим, что вариант П. Лемерля (615 г.) приводит его к хронологическим искажениям (см.: Свод II. С. 196), тогда как А. Бурмов не вполне учитывал хронологию аварских войн и, прежде всего, формальный мир между Империей и каганатом в 620–626 гг. 1280 ЧСД 180.: Свод II. С. 126/127. 1281 ЧСД 193.: Свод II. С. 132/133. Хотун — по-гречески ?????? (Свод II. С. 132/133, 134/135). Славянское восстановление этого имени (возможно, как усеченной формы от «Хотимир»), наиболее удачно (Свод II. С. 195). 1282 ЧСД 181–182, 185.: Свод II. С. 126–129. 1283 ЧСД 185–186, 193.: Свод II. С. 128–131, 132/133. 1284 ЧСД 1843–184.: Свод II. С. 128/129. 1285 ЧСД 185.: Свод II. С. 128/129. 1286 ЧСД 188–190.: Свод II. С. 130/131. 1287 ЧСД 190, 193.: Свод II. С. 130/131, 132/133. 1288 ЧСД 191, 196.: Свод II. С. 130–133, 134/135. О том, что святой Димитрий «отбил варварский натиск кораблей варваров и освободил город», упоминается также в одной из надписей Солунского храма св. Димитрия под его мозаичным изображением. Надпись датируется VII в. (Свод II. С. 195). 1289 ЧСД 193.: Свод II. С. 132/133. 1290 К этому нашествию автор Второго собрания Чудес св. Димитрия еще раз возвращается при описании позднейших событий: ЧСД 284.: Свод II. С. 168/169. 1291 ЧСД 196–197.: Свод II. С. 134/135. 1292 ЧСД 198.: Свод II. С. 134/135. 1293 ЧСД 200.: С. 136/137. 1294 ЧСД 199–201.: С. 136/137. 1295 ЧСД 202–203.: Свод II. С. 136/137. 1296 ЧСД 206.: Свод II. С. 138/139. 1297 ЧСД 207–208.: Свод II. С. 138/139. 1298 ЧСД 209.: Свод II. С. 138–141. 1299 ЧСД 210–211.: Свод II. С. 140/141. 1300 ЧСД 212–213.: Свод II. С. 140–143. 1301 ЧСД 214.: Свод II. С. 142/143. 1302 ЧСД 217–222.: Свод II. С. 142–145. 1303 Об участии в этом нашествии (как и во вторжении в Иллирик) славян, кажется, свидетельствует Второе собрание «Чудес св. Димитрия»: ЧСД 284.: Свод II. С. 168/169. 1304 Федоров — Полевой, 1973. С. 233 (датируется по монетным находкам). 1305 Свод II. С. 517 (сирийский «Смешанный хроникон», «третья серия» летописных статей, доведенная до 636 г.). 1306 Припоминание о ней («жилища славян, о которых повествуют и древние писатели», «жилища славян, о которых писали и историографы») имеются в «Житии св. Панкратия» (Свод II. С. 334). «Житие» переносит в апостольские времена многие реалии своего времени, в том числе и превратившиеся к 30-м гг. VIII в. уже в предание сведения о славянах на Сицилии. В представлении автора жития место «жилищ славян» — уже просто языческий могильник, населявшийся (тоже когда-то) «легионами демонов». 1307 Только этим можно объяснить сохранение явного аварского элемента в аваро-славянской культуре Поморавья спустя десятилетия после падения аварского ига, до середины VIII в. (см.: Седов, 1995. С. 287). 1308 Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367. 1309 Mikkola J.J. Samo und sein Reich.// Archiv fur slawischen Philologie. Bd. 41. Berlin, 1927. S. 77–78; Labuda G. Pierwsze panstwo slowianskie. Panstwo Samona. Poznan, 1949. S. 96–101; Свод II. С. 374–376 (комментарий В.К. Ронина к хронике Фредегара). Сам Фредегар называет Само «по рождению франком» (Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367), но имя с очевидностью не германское, так что логично заключить, что хронист имеет в виду лишь подданство. В «Обращении баваров и карантанцев» Само назван славянином (Conversio Bagoarirarum et Carantanarum. 4// MGH SS. XI. Hannoveriae, 1925. P. 7.: Свод II. С. 374). Но основной источник автора «Обращения» — «Деяния Дагоберта», которые восходят всецело к Фредегару, передают его с сокращениями и потому не упоминают о происхождении Само. Можно допустить, что в основе данных «Обращения» — предания хорутан о происхождении их княжеского дома. Но в этом случае (даже если славянство Само не является плодом логического умозаключения писателя) такие предания не достовернее свидетельства современника Фредегара. При решении вопроса в пользу славянства Само (помимо того, что оно ставит под сомнение всю историю борьбы славян с аварским игом, известную лишь из Фредегара) опять встает проблема имени. Славянское *samъ напрашивается само собой (как у Х.Кунстманна — Kunstmann H. Was besagt der Name Samo und wo liegt Wogatisburg?// Die Welt der Slawen. Bd. 24. Munchen, 1979). Но использование этого местоимения в качестве личного имени или даже титула (что заключает Х. Кунстманн) у славян выглядело бы немного странно — не говоря уже о том, что подобные факты просто неизвестны. Итак, в рассказе Фредегара нет оснований сомневаться. Если считать его вымыслом, а хрониста столь смелым выдумщиком — почему бы не подвергнуть сомнению и сам факт существования «державы» Само, о котором только он по сути и сообщает? 1310 Фредегар сообщает о многоженстве (Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367) и затем прямо о язычестве Само (Fred. Chron. IV. 68.: Свод II. С. 368/369). Сансский округ был в ту пору весьма слабо христианизирован (Labuda 1949. S. 96–124). Фредегар даже не упрекает Само за вероотступничество — был ли тот вообще крещен? 1311 Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367. 1312 Fred. Chron. IV. 68.: Свод II. С. 370/371. 1313 Захоронения на аваро-славянских кладбищах здесь не прерываются веками (Sklenar, 1974. S. 285, 287). Могильник в Нове Замку под Нитрой только основан в середине VII в. (Sklenar, 1974. S. 285–286) 1314 Fred. Chron. IV. 48, 68.: Свод II. С. 366/367, 368/369. 1315 Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367. 1316 ЭССЯ. Вып. 22. С. 178–179 (отсутствует в болгарском и македонском). 1317 Классическая в этом смысле работа Г. Лабуды: Labuda, 1949. 1318 Свод II. С. 272/273 (Феофан). 1319 Такую картину рисует, по сути, Феофан, говоря о необходимости «привести в согласие» авар с гепидами и славянами (Свод II. С. 272/273). О том же, о трудных переговорах с целью объединения сил, говорит и Георгий Писида в поэме «О случившемся нашествии варваров» (Свод II. С. 66/67). По нему, славянам пришлось «столковаться с гуннами» (видимо, теми же аварами, которых далее он повсеместно называет «скифами») — «славянин с гунном, а скиф с булгаром, и опять же мидиец столковался со скифом…». 1320 Свод II. С. 272/273 (Феофан) — «с Истра… бесчисленные и превышающие счет полчища». 1321 События восстанавливаются на основе разрозненных свидетельств. При посредничестве Шахрвараза был заключен союз авар с независимыми от них болгарами — об этом свидетельствуют Георгий Писида (Свод II. С. 66/67) и Феофан (Свод II. С. 272/273). Этот союз Куврат сохранял как минимум до 634 г. При нем до этого времени находился некий аварский «народ», и он признавал формально зависимость от кагана, с Империей же находился в состоянии войны (Чичуров, 1980. С. 153/161 — известие Никифора). К 630 г. в Аварском каганате предводителем болгар являлся некто Алциок, претендовавший на каганскую власть. Изгнанный из Аварии, он отправился на юг и поселился в конце концов на «много лет» в землях альпийских славян (Fred. Chron. IV. 72.: Свод II. С. 370/371). Затем, между 665–671 гг., болгарский «дукс» Алцеко объявляется в Италии и поступает на службу к лангобардскому королю (Paul. Diac. Hist. Lang. V. 29.: Свод II. С. 394. Прим. 63). Это в целом соответствует маршруту пятого сына Куврата, как он рисуется Никифором (Свод II. С. 228/229) и Феофаном (Свод II. С. 276/277). Кажущееся противоречие — Феофан и Никифор как будто относят переселение ко временам после смерти Куврата — снимается соображением о временной дистанции, отделяющей их от события. Альцек, активно действующий уже в 630 г., мог, в принципе, быть и действительно моложе умершего или погибшего в 703 г. (судя по «Именнику болгарских князей») Аспаруха. Если допустить, что Альцеку в 626 г. было 15–16 лет, то он мог родиться около 610–611 г., Аспарух же — около 609–610. Тогда в момент смерти Аспаруху было примерно 93 года, а это вполне допустимо. 1322 Свод II. С. 272/273 (Феофан). Судя по Пасхальной хронике, каган «привез с собой» однодеревки (Свод II. С. 76/77). Но об этом говорится уже в связи с попыткой спустить их на воду во время осады — то есть «привез» он их с собою непосредственно к стенам Константинополя. Славяне, конечно, должны были соединиться с каганом на суше. Наивно предполагать, что они проплыли море без остановок, а затем еще дневали и ночевали в ладьях под стенами города. 1323 Свод II. С. 76/77 (Пасхальная хроника); Чичуров, 1980. С. 152/160 (Никифор); Свод II. С. 272/273 (Феофан). 1324 Свод II. С. 76/77 (Пасхальная хроника); Чичуров 1980. С 152/160 (Никифор). 1325 Свод II. С. 76–79 (Пасхальная хроника). 1326 Свод II. С. 78/79 (Пасхальная хроника), 84/85 (Феодор Синкелл). 1327 Свод II. С. 78/79 (Пасхальная хроника), 84/85 (Феодор Синкелл). 1328 Свод II. С. 78/79 (Пасхальная хроника). 1329 Свод II. С. 68/69 (Георгий Писида), 84–87 (Феодор Синкелл), 226/227 (Никифор). 1330 Свод II. С. 68/69 (Георгий Писида), 86/87 (Феодор Синкелл); Чичуров, 1980. С. 152/160 (Никифор). 1331 Свод II. С. 78/79 (Пасхальная хроника), 226/227 (Никифор). 1332 Ход морского боя с небольшими отличиями описывают почти все наши источники: «Аварика» Георгия Писиды (Свод II. С. 68–71), Пасхальная хроника (С. 78/79), проповедь Феодора Синкелла (С. 84–87), «Бревиарий» Никифора (С. 226/227). Только Феофан (С. 272/273) повествует об этой битве, как и обо всей осаде, в общих словах, отметив лишь чудесное вмешательство Богоматери и «огромное множество» вражеских потерь «и на суше, и на море». 1333 Свод II. С. 68/69 (Георгий Писида), 78/79 (Пасхальная хроника), 88/89 (Феодор Синкелл), 226/227 (Никифор), 272/273 (Феофан). 1334 Свод II. С. 81. Прим. 14 (Георгий Кедрин). 1335 Fred. Chron. IV. 48.: Свод II. С. 366/367. 1336 О власти Само над карантанцами прямо говорит «Обращение баваров и карантанцев» (Conversio 4// MGH SS XI. P. 7: Свод II. С. 374), основываясь, вероятно, на местных преданиях. Возникновение княжества и причины его последующей ожесточенной борьбы с аварами смутно отражены в упоминании того же памятника о расселении славян в «Паннонии» в результате изгнания «гуннов» (Сonversio 6: MGH SS XI. P. 9). Королевство Само где-то на юге, по логике — именно в землях Словении, граничило с лангобардами (Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369). Фредегар сообщает и о существовании здесь особой «марки винидов» (то есть автономной пограничной области в составе винидского королевства) во главе с «Валлуком, дуксом винидов» (Fred. Chron. IV. 72: Свод II. С. 370/371; см. там же комментарий В.К. Ронина, С.395). 1337 См.: Нидерле 2002. С. 79–80. «Обращение», кстати, выводит славян, пришедших на смену «гуннам» в «Паннонию», с северного берега Дуная (Сonversio 6: MGH SS XI. P. 9). Здесь можно видеть отражение самых разных исторических событий VI–VII вв. 1338 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 12; Т.2. Стб. 9; Т. 38. С. 14. 1339 Датируется в пределах первой половины VII в. (Седов, 1995. С. 45). 1340 Кухаренко, 1969. С. 125, 134; Historia kultury 1978. S. 26, 38, 40, 47. 1341 О союзе Само с франками говорит он сам франкскому послу (Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369). 1342 Это, видимо, имеет в виду Фредегар (Fred. Chron. IV. 58.: Свод II. С. 366–369). 1343 Vit. Amand. 16: Свод II. С. 407. 1344 Свод II. С. 70/71 («На воздвижение честного Креста»). 1345 Константин, 1991. С. 112/113, 130/131, 136/137. В главе 30 (С. 130/131) Константин излагает более раннюю, «племенную» версию переселения хорватов. Здесь приходят они самостоятельно и возглавляются семью героями-родоначальниками (пятью братьями и двумя сестрами). В главе 31 (С. 136/137) излагается более поздняя, «княжеская» версия, где главой хорватов предстает общий «архонт», а переселение их предстает инициативой Ираклия. 1346 Константин, 1991. С. 130/131. Имя «Хорват» — не обязательно вымысел, но может быть и связано с табуированием имени князя-предка, развившимся по мере становления «княжеского» предания в языческой или полуязыческой среде. Ср. князь «Серб» (С. 140/141), «отец Порга» (С. 136/137) в других местах Константина. 1347 Фома 1997. С. 35/240. Стоит иметь в виду, что к концу XI в. «родов» стало уже 12 (см.: Фома, 1997. С. 253), из них только «род» Тугомиричей может быть соотнесен с упоминаемыми Константином родоначальниками («сестра» Туга), и то условно. 1348 Аварские древности в Хорватии, и так единичные, быстро исчезают (Седов, 1995. С. 130, 323). 1349 Константин, 1991. С. 130/131. 1350 Константин, 1991. С. 132/133. 11 жуп населяли собственно хорваты и 3 — потомки авар. 1351 Константин, 1991. С. 132/133. См. еще: Sisic F. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb, 1925. S. 378–380. 1352 Константин, 1991. С. 130/131, 136/137. О передаче власти по наследству на протяжении нескольких веков можно сделать вывод во втором случае — здесь говорится, что хорватами при Ираклии предводительствовал в качестве «архонта» «отец некоего Порга» — Борны, хорватского князя IX в. Хронологические смещения имеются в хорватских главах Константинова трактата. Смешивая различные этапы христианизации хорватов, он сразу ниже делает Борну современником Ираклия. Но в славянском исходном словоупотреблении «отец» вполне могло означать «предок». 1353 По мнению Константина, «старцы-жупаны» стояли во главе славян Адриатики еще в IXв., тогда как «архонтов… эти народы не имели» (Константин, 1991. С. 112/113). Мысль выражена настолько неуклюже, что прямо противоречит многим из утверждений ученого императора. Однако суть ее, вероятно, — именно в том, что жупаны являлись для тогдашних «архонтов» источником власти, так что подлинных «архонтов», как в Х столетии, быть у славян еще не могло. 1354 Константин, 1991. С. 130–133. Формальной эта зависимость оставалась до рубежа VIII–IX вв., и попытка франков установить здесь реальную власть тогда вылилась в жестокую войну. Память о ней также сохраняется у Константина. 1355 Аварские древности в Сербии исчезают также в пределах первых трех четвертей VII в. (Седов, 1995. С. 332). Сербы авар здесь уже не застали (Константин, 1991. С. 140/141). 1356 Константин, 1991. С. 140/141. 1357 ЧСД 284: Свод II. С. 168/169. 1358 См. о местных названиях от их имен: ЭССЯ. Вып. 16. С. 131, 185–186. 1359 Константин, 1991. С. 140–143; Шишић, 1928. С. 293–296. 1360 В «Летописи» (Шишић, 1928. С. 293) их, правда, трое — за счет добавления Тотилы. 1361 Константин, 1991. С. 140/141. Здесь император несколько увлекся и произвел названия сербов от латинского слова со значением «рабы», потому что они, дескать, «стали рабами василевса ромеев». Он, видимо, забыл, что несколькими строками выше писал о сербской прародине в «Воиках», где доселе живут «белые», «некрещеные сербы» — лужицкие. Связь названия Сервии с сербами подвергается сомнению (Византиjски извори… Т. 2. Београд, 1959. С. 47–49). Однако город ранее этого времени действительно неизвестен. Доводы Х. Диттена о невозможности поселения сербов в окрестностях Фессалоники по той причине, что они уже были заняты враждебными Империи славянами (Ditten H. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen// Byzanz im 7. Jahrhundert. Berlin, 1978. S. 98–99), неубедительны. Во-первых, после 618 г. здешние славяне перестали быть открыто враждебны. Во-вторых, именно их ненадежность могла побудить Ираклия укрепить окрестности принявшими имперское подданство сербами. Отсутствие же упоминаний сербов среди осаждавших Фессалонику племен вообще ни о чем свидетельствовать не может. Достаточно сказать, что правление Ираклия отнюдь не закончилось в 616–618 гг., и логичнее помещать не датируемое Константином сербское переселение именно после 626 г., как и делаем мы. 1362 См.: Нидерле, 2002. С. 82–83. Это же касается, видимо, и хорватов (Нидерле, 2002. С. 80). Впрочем, надо иметь в виду, что слово «хорват», как одно из самоназваний сарматов и распространенное личное имя, широко использовалось еще в античное время. «Серб» же случайным образом созвучно с латинским servus (что пытается обыграть Константин Багрянородный — Константин, 1991. С. 140/141), и многие названия, производные от последнего, либо от личного имени «Сервий», могли подвергаться искажению в средние века — как, впрочем, и наоборот. 1363 Окрестности Сингидуна славяне с VII в. заселили довольно плотно, но в городе еще не селились (Седов, 2002. С. 500). 1364 Константин, 1991. С. 132/133, 140/141, 148–151, 152/153. 1365 Константин, 1991. С. 132/133, 1366 Константин, 1991. С. 152/153. 1367 Шишић, 1928. С. 308 след. 1368 Даже современные приверженцы «черногорского языка» в большинстве своем не отрицают его диалектный по отношению к сербохорватскому или прямо к «сербскому» характер (Славянские языки, 2005. С. 145). В диалектном отношении Черногория и ее говоры входят в область безусловно доминирующего в Сербии, и в первую очередь в Сербии, штокавского диалекта (там же. Приложения. Карта 4). 1369 Славянские языки, 2005. С. 140–141, 194–197. 1370 Славянские языки, 2005. С. 204, 205–206. 1371 Belosevic J. Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeca. Zagreb, 1980; Седов, 1995. С. 323–324. 1372 Седов, 2002. С. 496. 1373 Седов, 2002. С. 493. 1374 Fred. Chron. IV. 72.: Свод II. С. 370/371. 1375 Чичуров 1980. С. 153/161 (Никифор). 1376 Судя по поведению франкского посла Сихария, когда Само предложил ему эти «раздоры» в комплексе рассудить (Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369). 1377 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369. 1378 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369. Так понимают изложение Фредегара и цели похода позднейшие авторы — составитель «Деяний Дагоберта» и пользовавшийся его трудом создатель «Обращения баваров и карантанцев» (Conversio 4.: Свод II. С. 388; Gest. Dag. 27.: Свод II. С. 389). 1379 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368/369. Автор «Деяний» заключил, что войском Австразии командовал сам Дагоберт. Из его единственного источника — хроники Фредегара — такой вывод никак не следует. Тот же автор пытается подменой слов затушевать корыстные мотивы лангобардов (см.: Gest. Dag. 27: Свод II. С. 389. Прим. 44, 48). 1380 См. различные варианты: Mikkola 1928. S. 95–97; Grunwald R. Wogastisburk// Vznik a pocatky Slovanu. R. 2. Brno, 1958. S. 102–108; Kunstmann 1979. S. 20–21; Trestik D. Objevy ve Znojme// Ceskoslovensky casopis historicky. R. 35.?. 4. Praha, 1987. S. 571. 1381 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 368–371. Можно добавить, что сложные перипетии отношений Само с Дагобертом (популярным героем немецких преданий) отразились в позднейшем фольклоре. Южнонемецкая легенда XVIII в. о местной святой Нотберге превращает ее в дочь «доброго короля» Дагоберта, которой домогается «князь неверных вендов». Возникновение легенды может быть связано с алеманами, участниками похода против Само, или с угнанными ими в Швабию славянами (Kunstmann H. Dagobert I und Samo in der Sage// Zeitschrift fur slawische Philologia. 1975. Bd. 38. № 2. S. 282–302). Об исторической основе (кроме самого факта существования «князя», с которым Дагоберт то сообщался, то враждовал) говорить не приходится. 1382 Fred. Chron. IV. 68: Свод II. С. 370/371. 1383 Fred. Chron. IV. 72: Свод II. С. 370/371. 1384 Fred. Chron. IV. 74: Свод II. С. 370/371. 1385 Fred. Chron. IV. 75: Свод II. С. 372/373. 1386 Fred. Chron. IV. 77: Свод II. С. 372/373. 1387 Предание о крещении хорватов и сербов при Ираклии излагает Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 136/137, 142/143, 152/153). Однако в случае с хорватами он явно смешивает два крещения — при Ираклии в VII в. и при князе Борне в IX. О последнем он пишет и в другом месте (Константин, 1991. С. 132/133). Дата событий и личность папы определяются тем, что после смерти папы Гонория произошел разрыв императора с Римом. Любопытно, что в Летописи попа Дуклянина в связи с учреждением христианских законов князем Святополком (явный исторический прототип — Святополк Моравский, IX в.) фигурирует кардинал Гонорий (Шишић, 1928. C. 302). Достоверность сведений о раннем крещении славян Адриатики подтверждается посланием VI Вселенскому собору от папы Агафона (Свод II. С. 212). В Хорватии, вплоть до Истрии, со временем распространяются погребения с элементами местного христианского обряда. С этим связано появление могил с камнями в головах и ногах, а затем и с правильной обкладкой камнями или плитами (см.: Седов, 1995. Свод II. С. 322–324). Признает далматинских славян христианами и Фома Сплитский. Правда, отождествляя завоевателей Далмации с готами, он считает их арианами. Так или иначе, он дает довольно справедливую, пусть и субъективную, оценку ранней стадии сербохорватского христианства: «И сколь бы ни были они злобны и необузданны, все же они были христианами, хотя и очень невежественными» (Фома 1997. С. 36/240). 1388 Константин, 1991. С. 136/137. 1389 Documenta, 1877. P. 277 («Книга понтификов»); Фома, 1997. С. 38/242. Константин Багрянородный (Константин, 1991. С. 136–139), однако, подробно описывающий миссию Мартина к хорватам и сообщающий о нем массу деталей, относит ее к Х в. Мартин, согласно трактату «Об управлении Империей», приезжал к хорватскому королю Трпимиру II, современнику Константина, спустя «много лет» после Борны. Здесь уже вряд ли может идти речь о частых в хорватских главах хронологических смещениях. Однако Мартин Константина к тому же являлся мирянином и не был, кажется, официальным посланцем римского папы. Итак, вероятнее всего, речь идет просто о совпадении имен. 1390 Фома 1997. С. 39–40/243. Фома пытается убедить, что Задар и отстроили только тогда, после запустения, салонские беженцы. 1391 Fred. Chron. IV. 87: Свод II. С. 372/373. 1392 ЧСД 238: Свод II. С. 148/149. 1393 Термин «Славиния» част у Феофана (Свод II. С. 272/273, 278/279, 282/283, 288/289). Однако появился он ранее IX в., еще в начале VII в. Об этом свидетельствует его употребление Феофилактом Симокаттой (Свод II. С. 40/41) и в рассказе Виллибальда Эйхштеттского о поездке в Грецию (Свод II. С. 440). Франкские анналы в конце VIII в. употребляют аналогичный термин — «Склавания» — по отношению к полабским славянам (Свод II. С. 447, 466/467). Все это свидетельствует о постепенном оформлении у славян представлений о своей территории как о «стране», о географической реальности с установленными границами. Анализу понятия «славиния» посвящена специальная работа Г.Г. Литаврина (Литаврин 2001. С. 518–526). 1394 ЧСД 232: Свод II. С. 144–147. 1395 ЧСД 280: Свод II. С. 166/167. 1396 О возможной идентификации его (или Галикоса) с рекой ринхинов см.: Нидерле 2002. С. 485; Свод II. С. 198. Прим. 132. 1397 Предводители осады Фессалоник ринхинами и сагудатами именуются «риксы другувитов» (Свод II. С. 156/157). При прямом (на наш взгляд, единственно возможном) понимании текста принадлежность дреговичей к ринхинскому союзу и лидерство в нем очевидны. К этой точке зрения склоняется и О.В.Иванова как к «одной из возможных гипотез» (Свод II. С. 202. Прим. 168). 1398 ЧСД 231: Свод II. С. 144/145. Имя передано в источнике как ?????????? что породило версию о славянском «Первуд» (Византиjски извори 1955. С. 199). Следуем древнерусскому переводчику (Свод II. С. 199. Прим. 133), который, очевидно, неплохо владел славянской антропонимикой, и мнению болгарских комментаторов (Гръцки извори за българската история. Т. 3. София, 1960. С. 143). 1399 См.: ЧСД 242–243, 257: Свод II. С. 150/151, 156/157. 1400 Константин, 1991. С. 152/153. 1401 ЧСД 307–309: Свод II. С. 178–181. О хронологии см. там же: С. 210. Прим 244, 245. При датировке исходим из последнего актового упоминания Фин, столицы епархии Киприана, в 649 г. 1402 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 44.: Свод II. С. 486/487; Chronica s. Benedicti Casinensis.// Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX. Hannoverae, 1878. P. 487. «Хроника св. Бенедикта» ошибочно приписывает гибель в бою со славянами отцу Айо, Арихизу. Это объясняется пропуском Айо в списке беневентских герцогов. 1403 ЧСД 235: Свод II. С. 146/147. 1404 Здесь и далее следуем в целом хронологическим расчетам А.Бурмова (Бурмов 1952. С. 203–204). Четвертая осада Фессалоники длилась 2 года и завершилась штурмом в 5 индикте (647, 662 или 677 г.). Из возможных дат на войну с арабами падают 645–647 и 675–677 гг. Во втором случае под итоговым миром может иметься в виду мир Империи с жителями западных областей, о котором писали Феофан и Никифор (Свод II. С. 226/227, 274/275). Примерно так располагает события П.Лемерль (Lemerle 1981. P. 128–132). Однако согласиться с этим трудно. Мир 678 г. последовал не за военным походом и победой имперского оружия (как в ЧСД), а безо всяких военных действий, что особенно подчеркивается хронистами. Лидерами заключавшей мир коалиции являлись авары, а в войне за Фессалонику, описываемой ЧСД, они не участвовали. Между тем, отождествление А.Бурмовым описываемого в ЧСД ромейского похода (спустя долгое время после осады!) с походом Константа 658 г. вполне убедительно. Иначе трудно понять, почему поход, направленный действительно к Фессалонике и победоносный, не удостоился на страницах ЧСД ни единого упоминания. Автор ЧСД определенно рисует отношения славян с городом мирными со времен осады кагана и до ареста Пребуда. Хронология Ф.Баришича вообще не находит четких опор во внешних источниках и едва ли может быть принята. Он располагает события между 674–680 гг., исходя с очевидностью из того, что в иных памятниках они никак не отражены (Баришић, 1953. С. 123–125). О хронологии и ходе арабо-византийских войн в VII в. см.: Большаков О.Г. История Халифата. Т.2. М., 1993; Т. 3. М., 1998. 1405 Об этом можно судить по восклицанию автора ЧСД при упоминании об отправке наместником послания: «каким образом и чего ради?» (ЧСД 231: С. 144/145). 1406 ЧСД 231: С. 144/145. 1407 ЧСД 232: Свод II. С. 144–147. 1408 ЧСД 233: Свод II. С. 146/147. 1409 ЧСД 234–235: Свод II. С. 146/147. 1410 ЧСД 235–237: Свод II. С. 146–149. 1411 ЧСД 238–239: Свод II. С. 148/149. 1412 ЧСД 240–242: Свод II. С. 148–151. 1413 ЧСД 243: Свод II. С. 150/151. 1414 ЧСД 243–245: Свод II. С. 150/151. 1415 ЧСД 251–252: Свод II. C. 154/155. 1416 ЧСД 245–247, 253: Свод II. С. 152/153, 154/155. 1417 ЧСД 245, 253: Свод II. С. 150/151, 154/155. 1418 ЧСД 247–250: Свод II. С. 152–155. 1419 ЧСД 250: Свод II. С. 154/155. 1420 ЧСД 245: Свод II. С. 152/153. 1421 ЧСД 254: Свод II. С. 154–157. 1422 ЧСД 255, 271: Свод II. С. 156/157, 162/163. 1423 ЧСД 272: Свод II. С. 162/163. 1424 См.: Свод II. С. 204. Гелеполы использовались при первой славяно-аварской осаде (ЧСД 139: Свод II. С. 112/113). Позднее, при осадах 616–618 гг., речь идет просто об осадных башнях. 1425 ЧСД 273–274: Свод II. С. 162–165. 1426 ЧСД 255, 257: Свод II. С. 156/157. 1427 ЧСД 259, 268: Свод II. С. 158/159, 160–163. 1428 ЧСД 255, 257–259: Свод II. С. 156/157. 1429 ЧСД 262–263: Свод II. С. 158–161. 1430 ЧСД 260–261, 264: Свод II. С. 158/159, 160/161. 1431 ЧСД 265–267: Свод II. С. 160/161. 1432 ЧСД 268: Свод II. С. 160–163. 1433 ЧСД 275: Свод II. С. 164/165. 1434 ЧСД 270, 277: Свод II. С. 162/163, 164/165. 1435 См.: Седов, 1995. С. 159. 1436 Kalligas H.A. Byzantine Monemvasia. Monemvasia, 1990. P. 29. 1437 Свод II. С. 512–513. 1438 Шишић, 1928. С. 296. 1439 Сын Сенулата и отец Владина Силимир правил будто бы 21 год: Шишић, 1928. С. 297. 1440 Не только Ф. Шишич, но и нередкий его оппонент С. Миюшкович (Шишић, 1928. С. 424; Летопис попа Дукљанина. Титоград, 1967. С. 182) решительно идентифицируют ее с Пояном. Таким образом, следует думать, что представлена протяженность владений от моря на восток, до северо-восточных пределов Рашки. Между тем, в тексте (Љетопис, 1967. С. 127) четко читается Poloniam, в чем трудно увидеть нечто иное, кроме латинского обозначения Польши. Конечно, можно предположить, что латинский переводчик, столкнувшись с незнакомым хоронимом, заменил его более понятным словом. Но это не более чем догадки. В то же время, находясь в пространстве эпического повествования, мы вполне можем допустить сопоставление в нем несопоставимых на наш рациональный взгляд географических ориентиров — небольшого жупанства на знакомом далматинском побережье и огромного королевства на далеком севере. Следует помнить, что Польша выступала в далматинском предании как прародина местных славян. Таким образом, текст «Летописи» может отражать представления ее создателей о распространении пределов древнего «королевства» на север. При этом отмечается, что в него входили все приморские области (в том числе южнее Винодола), и все Загорье (Рашка). Это толкование тем более убедительно, что в дальнейшем в «Летописи» в качестве потомка Сенудилая и правителя Дукли выступает моравский князь Святополк, с которым связывается создание Константином и Мефодием славянской азбуки. 1441 ЧСД 277: Свод II. С. 164/165. 1442 ЧСД 278–280: Свод II. С. 166/167; Свод II. С. 272/273 (Феофан). См. также: Византиjски извори 1955. С. 221. Нап. 8 (отсылка к сведениям Ильи Нисибинского и сирийской же Хроники 817 г.). 1443 О причинах мира см.: ЧСД 281: Свод II. С. 166/167. Ср. известия Феофана: Свод II. С. 272/273, 274/275 (первое упоминание славян, проживающих в Азии — вскоре после «порабощения» македонских Константом). К гораздо более позднему времени относится упоминание в этом же районе селения Сагудаи (Анна Комнина. Алексиада. СПб., 1996. С. 402). Следует иметь в виду, что выселения из Македонии предпринимались и позднее, в том числе и в ближайшие десятилетия. Так что с уверенностью отнести появление этого местного названия именно к концу 650-х гг. нельзя. Правда, уже в VII в. известна христианская епархия Гордосерба к юго-востоку от Никеи (Нидерле, 2002. С. 83). В случае, если догадка о связи ее названия с сербами справедлива, какие-то сербы (македонские?) оказались втянуты в события на стороне ринхинов и их союзников, а позже переселены в Азию. Но время появления Гордосербы на карте кажется слишком ранним для такой увязки, а этимология названия — более чем сомнительной. 1444 Восшествие на престол Безмера датировано в «Именнике болгарских ханов» годом Быка (протоболг. шегор) — 641 г. В то же время в середине этого года, согласно Иоанну Никиускому, Куврат еще был жив и участвовал на стороне императрицы Мартины, вдовы Ираклия, в ее борьбе с пасынком Константином, отцом Константа (см. Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 180). Умер Куврат уже в царствование Константа (Чичуров 1980. С. 36/60 (Феофан), 153/162 (Никифор); С. 111. Прим. 265). 1445 См.: Именник 1981. С. 12; Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан). 1446 По болгарским надписям VIII–IX вв. такая структура уже не прослеживается. Но она отразилась в сербском средневековом предании о переселении болгар, которое передает «Дуклянин» (Шишић, 1928. С. 297). 1447 Свод II. С. 228/229 (Никифор), 274/275 (Феофан). 1448 Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан). Дату («по прошествии недолгого времени», «немного спустя») позволяет уточнить «Именник болгарских князей», относящий вокняжение Аспаруха (Еспериха) к году вери (волка/тигра) (Именник, 1981. С. 12) — 642-й. С Аспаруха начинается вторая часть «Именника». С этого времени числовые определители при названии лет в «Именнике» определенно означают месяц, а не год по 10-летнему циклу. Месяц восшествия Аспаруха — ениалем (11-ый), что четко указывает на конец года. 1449 Именник 1981. С. 12. Сходно в «Апокрифической летописи» — Испор (Иванов, 1925. С. 282). См. также: Moravcsik G. Byzantinoturcica. Bd. 2. Berlin, 1958. S. 75–76. 1450 Разделение орды Куврата описывают Никифор (Свод II. С.228/229) и Феофан (С. 276/277). 1451 ЧСД 286: Свод II. С. 170/171; Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан). Феофан и Никифор, конечно, ошибочно, относят переселение и пятого сына Куврата ко времени после смерти отца — такая ошибка вполне объяснима, тем более что в Италии Альцек действительно объявился только в 660-х гг. Отождествлению четвертого сына, позднее переселившегося на Балканы, с Кувером ЧСД (Бешевлиев В. Първобългарски надписи. София, 1992. С. 106–108), нет убедительных альтернатив. Кувер, переживший Аспаруха, мог и вправду быть его моложе. В отличие от случая с Альцеком, это никаких хронологических трудностей не вызывает. 1452 К 680 г. болгары Аспаруха являлись «народом грязным и нечистым», по словам Феофана (Свод II. С. 276/277). Язычниками, без сомнения, являлись и Кувер (судя по ЧСД: Свод II. С. 168 след.), и Аспарух с потомками (см., в том числе: Бешевлиев, 1992). О том, что пришедшие на Балканы болгары Аспаруха были «поганы зело и безбожны», помнит и богомильский автор «Апокрифической летописи» (Иванов, 1925. С. 282), приписывающий их привод туда лично пророку Исайе! 1453 На каганат претендовало его потомство — Кувер (ЧСД 289. Свод II. С. 170/171) и, видимо, ханы Дунайской Болгарии, по крайней мере в сношениях со славянами (о чем свидетельствует сербское предание из Летописи попа Дуклянина — Шишић, 1928. С. 297–298). 1454 См.: Артамонов, 2002. С. 172–173, 188–189. Датировка обособления Хазарии 651 г. не обязательна, но вполне вероятна. В любом случае, конфликт хазар и болгар начался гораздо раньше, как часть тюркской междоусобицы. 1455 Дата определяется сведениями «Именника» о трехлетнем правлении Безмера (Именник, 1981. С. 12). Очевидно, с 644 г. Аспарух перестал признавать брата верховным ханом. Связать это можно только с подчинением Безмера хазарам. Ведь «раздоры» братьев имели место в 642 г. — когда Аспарух и стал именоваться ханом. 1456 Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан). 1457 Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 366/367. 1458 Fred. Chron. IV. 72: Свод II. С. 370/371. 1459 Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 366/367. 1460 Федоров — Полевой, 1973. С. 300, 304; Седов, 1995. С. 134–135. 1461 Федоров — Полевой, 1973. С. 300. 1462 Федоров — Полевой, 1973. С. 300. 1463 Свод II. С. 399. 1464 Кухаренко, 1969. С. 125; Historia kultury 1978. S. 166–167; Седов, 1995. С. 17–18, 20. 1465 См.: Magistri Vincentii Chronicon Polonorum. I. 5–7// Monumenta Poloniae Historica. T. II. Warszawa, 1961; Великая хроника 1987. Гл. 1. 1466 Кухаренко, 1969. С. 136; Historia kultury 1978. S. 50; Седов, 1995. С. 343. 1467 Календарные обычаи и обряды, 1977. С. 214. О ритуале оставления праха у подножия (ограды) кургана см.: Седов, 1995. С. 343. 1468 Кухаренко, 1969. С. 136. 1469 Fred. Chron. IV. 48: Свод II. С. 66/367. 1470 Козьма, 1962. С. 49. 1471 Kucera М. Postavy velikomoravskej historie. Bratislava, 1986. S. 11–46. 1472 Судя по «Обращению баваров и карантанцев», где Само выступает как первый именно карантанский князь (см.: Свод II. С. 374). Именно это предание IX в., возможно, приписывало Само славянское происхождение. Резиденцию же его — совершенно вопреки исторической действительности — оно помещало в Хорутании. 1473 Paul. Diac. Hist. Lang. V. 22.: Свод II. С. 486/489. 1474 Lowmianski H. Poczetki Polski. T. 4. Warszawa, 1970. S. 233. 1475 Korosec P. Zgodnjesrednjeveska arheoloska slika karantanskih Slovanov. Ljubljana, 1979. T. 2. S. 38–39. 1476 ПСРЛ. Т.1. Стб. 5; Т. 2. Стб. 5; Т. 38. С. 12. 1477 Судя по чуть позднейшей дате ухода из «марки» «многие годы» прожившего с этим «Валлуком» болгарского хана Альцека (Paul. Diac. Hist. Lang. V. 29: Свод II. С. 394). 1478 Павел Диакон даже ошибочно отождествлял Карнунт с Карантаной (Paul. Diac. Hist. Lang. V. 22.: Свод II. С. 486/489) — значит, не сомневался, что Карнунт хорутанам принадлежит. 1479 Paul. Diac. Hist. Lang. V. 22.: Свод II. С. 486–489. 1480 Paul. Diac. Hist. Lang. V. 22.: Свод II. С. 486/489. 1481 Paul. Diac. Hist. Lang. V. 23.: Свод II. С. 488/489. О географии событий см. примечания В.К. Ронина: там же. С. 498–499. 1482 Paul. Diac. Hist. Lang. V. 29: Свод II. С. 94. 1483 О том, что странствия «четвертого» сына Куврата завершились в Равеннском экзархате, сообщают Никифор (Свод II. С. 228/229) и Феофан (С. 276/277). 1484 Свод II. С. 274/275 (Феофан). Подробное изложение хода войны: Большаков, 1998. С. 138–140. Обоснование хронологии (О.Г. Большаков относит переход славян к кампании 664-го): там же. С. 318. Прим. 75. Во всяком случае, датировать эти события 669 г. (Свод II. С. 311) нельзя — они произошли еще при императоре Константе, погибшем в 668 г. Сам Феофан датирует происшедшее 665 г. — сентябрьским 663/4 или 664/5 г. (Феофан Византиец. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. Рязань, 2005. С. 299). 1485 Этническая атрибуция «риксов» и «экзархов» запада, которым в 678 г. требовалось уже заключать с Империей мир, достаточно обоснована (Наумов Е.П. Становление и развитие сербской раннефеодальной государственности.// Раннефеодальные государства на Балканах. М., 1985. С. 193–194; Свод II. С. 238, 312 (примечания Г.Г. Литаврина)). 1486 Шишић, 1928. С. 296–297. Здесь можно видеть отсылку и к приходу хорватов и сербов на Балканы в 620-х — 630-х гг., и к мирным договорам с Империей 678 г., и, как увидим далее, к событиям IX в. «Летописец», вероятно, опирается в этом месте на свои общие представления и далматинские (барские?) предания. По крайней мере, он не разворачивает историю примирения в некий «сюжет», как в случаях с использованием определенно славянских эпических сказаний. Странно, однако, что при этом он подчеркивает язычество Силимира. Мы видели, что в Сербии, Хорватии и Далмации бытовало устойчивое предание о древнем крещении. Казалось бы, оно очень хорошо согласовывалось с историей о временном примирении. Но «летописец», вероятно, этому преданию не доверился. Просветителем славян у него выступает святой Константин-Кирилл, и в этом представлении он основывался уже на славянском письменном источнике — правовом своде «Книга Мефодия». До IX в., следовательно, славяне должны оставаться язычниками. Возможность вероотступничества автор «Книги Готской» допускать не стал (как и — тем более — возможность того, что «Книга Мефодия» адресована каким-то другим славянам, либо псевдоэпиграфична). Принимать же утверждавшуюся в Далмации теорию изначально неправильного, арианского крещения славян означало вставать на сторону противника в глаголическом споре. В результате выигрышный концепт раннего крещения был проигнорирован «летописцем». 1487 Свод II. С. 226/227 (Никифор), 274/275 (Феофан). 1488 Феофан упоминает о том, что «все» западные народы сделались данниками Константина (Свод II. С. 278/279). 1489 Свод II. С. 212. 1490 Судя по тому, что Пребуд мог рассчитывать среди фракийских славян на приют (ЧСД 238: Свод II. С. 148/149). 1491 Советы и рассказы Кекавмена. СПб., 2003. С. 284/285. 1492 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнина. Рязань, 2003. С. 204. 1493 Советы и рассказы, 2003. С. 284/285. 1494 Романские языки. М., 2001. С. 582. 1495 ЧСД 284, 288: Свод II. С. 168/169, 170/171. Об этнической природе сирмисиан свидетельствует и следующий факт. После расселения имперскими властями сирмисиан в среде македонских дреговичей (680-е гг.) возглавлявшийся последними племенной союз ринхинов начинает именоваться влахоринхинами. Под этим именем, как увидим, ринхины выступают в легенде Кастамонитского монастыря, описывающей события уже VIII в. (см.: Порфирий (Успенский). История Афона. Ч. III. Киев, 1877. С. 311). Любопытно, что вожак сирмисиан Мавр получил на византийской службе фамилию Бесс (см.: Lemerle 1981. P. 152–153). Возможно, что сирмисиане, происходившие из Фракии, считали себя «бессами», тогда как выходцы из Иллирика — «даками». Но это не более чем догадка. 1496 Советы и рассказы 2003. С. 286/287. 1497 ЧСД 285–286: Свод II. С. 170/171. 1498 ЧСД 288: Свод II. С. 170/171. 1499 ПСРЛ. Т.1. Стб. 5; Т. 2. Стб. 5; Т. 38. С.12. 1500 Свод II. С. 276/277 (Феофан). Никифор (Свод II. С. 228/229) четко говорит о «землях, соседних с державой ромеев» — следовательно, о прямом имперском управлении речи нет. Поп Дуклянин рассматривает в качестве единственных представителей Империи на месте именно «черных латинов» — «моровлахов» (Шишић, 1928. С. 298). Феофан далее упоминает, правда в риторическом периоде, о каких-то успехах Константина «на севере» и обложении тамошних краев данью (Свод II. С. 278/279). 1501 Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан); Патканов, 1883. С. 27. Никифор и Феофан относят переселение за Днестр и далее в «Огл» ко времени еще до хазарского вторжения. Но «Армянская география» ясно свидетельствует, что Аспарух «бежал от хазар из гор Булгарских». О том, что болгары пришли на Дунай «от скифов, то есть от хазар», говорит, кстати, и русская «Повесть временных лет» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 11; Т. 2. Стб. 9; Т. 38. С. 13) — правда, с явной опорой на византийскую ученую традицию. 1502 Патканов, 1883. С. 27. 1503 Свод II. С. 228/229 (Никифор), 276/277 (Феофан). 1504 Свод II. С. 230/231 (Никифор), 278/279 (Феофан). 1505 Дуйчев И. Проучвания върху българското средневековие// Сборник на Българската академия на науките. София, 1945. C. 163. 1506 Свод II. С. 230/231 (Никифор), 278/279 (Феофан). О поселении болгар в дельте и в Добрудже сообщают также «Сказание Исайи» (Апокрифическая летопись) (Иванов, 1925. С. 282 — «Карвунская страна» при трех «реках великих», между Дунаем и морем) и «Летопись попа Дуклянина» (Шишић, 1928. С. 298 — «Силлодуксия»). «Апокрифическая летопись» притом считает нужным подчеркнуть, что будущая Болгария «опустела от эллинов за 130 лет». В рассказе об Аспарухе (Испоре) ее автор пытается убедить читателя, что до того, как Аспарух «населил всю землю Карвунскую», в ней жили «ефиопи» (Иванов 1925. С. 282) — не те же ли «черные влахи» Дуклянина? 1507 Свод II. С. 230/231 (Никифор), 278/279 (Феофан). О насилиях болгар над славянами упоминает и русская летопись (ПСРЛ. Т.1. Стб. 11; Т.2. Стб. 9; Т.38. С. 13). 1508 Федоров — Полевой, 1973. С. 300. 1509 Там их в IX в. знает Баварский географ (Назаренко, 1993. С. 13/14). В том же сочинении упомянуты и «северцы» (Sebbirozi). Но нет уверенности, что это племя, помещаемое рядом с угличами, — не восточнославянская севера. Впрочем, «Сто могил» легендарного славянского князя Слава из «Сказания Исайи», чье имя отчетливо перекликается с северским Славуном, располагаются как раз к северу от Дуная (Иванов 1925. С. 282). 1510 Болгаро-валашский симбиоз в эпоху Второго Болгарского царства побудил болгарского историка XIV в. заключить, что влахи изначально являлись союзниками болгар (Среднеболгарский перевод, 1988. С. 228). Однако для писавшего ранее Дуклянина «моровлахи» — враги пришедших на Балканы болгар, покоренные ими (Шишић, 1928. С. 298). В русской летописи говорится о «белых уграх» как покорителях дунайских славян и победителях волохов, которые «прежде прияли землю словенскую» (ПСРЛ. Т.1. Стб. 11; Т.2. Стб. 9; Т.38. С. 13). Предание о «белых уграх» приводится после предания о болгарах и с очевидностью независимо от него (в противном случае волохов прогоняли бы, очевидно, именно болгары, и следовало бы упомянуть об их взаимоотношениях с белыми уграми). Это, как будто, позволяет видеть в белых уграх оногуров — то есть тех же болгар Аспаруха, и полагать, что русский летописец дважды на основе разных преданий описал одно и то же событие. Однако не исключен и другой вариант — отражение деления на черных и белых мадьяр, из которых белые первыми пришли в Потисье. Ср. текст о венгерском завоевании, где упоминание о победе над волохами повторяется: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 25; Т. 2. Стб. 18; Т. 38. С. 18. Наконец, нельзя исключить, что предание о белых уграх восходит ко временам Аттилы, покорителя среднедунайских романцев («волохов») и легендарного предка оногурских ханов. Венгры, чья связь с оногурами породила их славянское и латинское названия, чтили в средние века гуннов Аттилы среди своих родоначальников. Что касается датировки вторжения белых угров временем Ираклия, то это при любом толковании ошибка. Источник ее совершенно понятен — в русском переводе «Хроники» Георгия Амартола, одном из главных источников летописца, «уграми» последовательно именовались «турки» греческого оригинала. В итоге «уграми» оказались как венгры, так и союзники Ираклия тюркюты. Видеть, с другой стороны, в сюжете о «белых уграх» только отражение такой путаницы нет оснований. О волохах Амартол определенно ничего не сообщал, эти данные летописец мог почерпнуть только из устной славянской традиции. 1511 Седов, 1995. С. 262, 266–268. Названия некоторых фракийских племен сохранились как наименования этнографических групп болгар (Нидерле, 2001. С. 63, 478). 1512 См. о появлении гончарной керамики провинциальных византийских типов в культуре Первого Болгарского царства: Седов, 1995. С. 265. Симптоматично, что этим же временем датируется начало активных контактов «прарумынского» со славянским. 1513 Предание об этом сохранялось долго (Среднеболгарский перевод 1988. С. 228). В то же время, конечно, не все припоминания о границах древней Болгарии заслуживают доверия. Автор тех же летописных заметок при хронике Манассии полагал, что благодаря союзу с сербами и влахами уже в то время границы Болгарии достигли Драча (Диррахия). Дуклянин приписал первому болгарскому «кагану» на Балканах завоевание как области «моровлахов», так и Македонии. При этом «каган» именуется Крис (Крум? Борис? — оба правили в IX в.) — образ явно собирательный (Шишић, 1928. С. 297–298). Из южнославянских источников границы владений «Испора» к югу от Дуная достовернее всего определяет «Сказание Исайи», сохранившее и предание о строительстве Аспарухом укреплений «от Дуная до моря» (Иванов 1925. С. 282). Неясно, насколько распространялось влияние Аспаруха на земли между Днестром и Дунаем, тем более к востоку от Днестра. 1514 Свод II. С. 230/231 (Никифор), 278/279 (Феофан). Память о победоносной войне Аспаруха с ромеями была столь прочна в болгарском предании, и не только в болгарском (Шишић, 1928. С. 297–298), столь важна в исторической памяти народа, что ее отразил даже избегающий подобных сведении богомильский «летописец» (Иванов 1925. С. 282). Тем более она отражается у автора времен Второго Болгарского царства (Среднеболгарский перевод 1988. С. 228), пользовавшегося византийскими хрониками. 1515 Дуклянин (Шишић, 1928. С. 298) утверждает, что Владин «из-за огромного множества народа» болгар предпочел заключить мир уже по примеру византийского императора. Однако болгарский автор (Среднеболгарский перевод, 1988. С. 228) рисует сербов союзниками болгар именно в войне с греками. Константин Багрянородный, который первым записал сербское предание о договоре (Константин, 1991. С. 142/143) утверждает, что оба народа издавна находились в союзе, «как соседи и люди сопредельных земель, дружески общаясь друг с другом, неся службу и находясь в подчинении в василевса ромеев и пользуясь его благодеяниями». Не совсем понятно, на кого была рассчитана последняя часть фразы — в контексте общеизвестных в Константинополе известий византийских хроник об отношениях с болгарами совершеннейшая нелепость. Возможно, впрочем (с учетом Дуклянина), что подобная версия родилась в сербском предании, пытавшемся примирить исторически союзные отношения и с ромеями, и с болгарами. В реальности, как кажется, сербы не дожидались санкции Константинополя на договор с Аспарухом. Но и участвовать в его войне с Византией им (как, впрочем, и ему привлекать их) никакой необходимости не было. 1516 Седов, 1995. С. 256. 1517 «Апокрифическая летопись» приписывает Аспаруху основание Дристры и строительство валов (Иванов, 1925. С. 282). О попинских поселениях в этом районе см.: Седов, 1995. С. 157, 162. 1518 Седов, 1995. С. 261. Предание об основании Аспарухом Плиски также сохранено «Апокрифической летописью» (Иванов, 1925. С. 282). 1519 Седов, 1995. С. 258–259, 262. 1520 Именник, 1981. С. 12. 1521 Ср. картину, рисуемую Повестью временных лет (Т. 1. Стб. 25; Т. 2. Стб. 18; Т. 38. С. 18 — кочевые болгары как «скифы» и «насильники» славян, подобно аварам, венграм и печенегам) и единогласно всеми южнославянскими средневековыми авторами: Иванов, 1925. С. 228 («Сказание Исайи» рисует кочевых куманов предками современных болгар, и считает их первым «царем» Слава); Шишић, 1928. С. 297–298 (Дуклянин специально отмечает единое славянское происхождение своих «готов» и новопришлых болгар); Среднеболгарский перевод, 1988. С. 282 (в заметках при Хронике Манассии предание об «исходе» болгар полностью слилось с представлениями о славянском расселении). 1522 Свод II. С. 230/231 (Никифор), 278/279 (Феофан); Гръцки извори, 1960. С. 169–170 (Акты VII Вселенского Собора). Память о заключении этого мира сохранила и дуклянская устная традиция (Шишић, 1928. С. 298). 1523 ЧСД 288: Свод II. С. 170/171. 1524 ЧСД 285–286: Свод II. С. 170/171. 1525 «Повесть временных лет» говорит об угнетении славян «волохами» в будущей Венгрии вплоть до нашествия венгров в конце IX в. (ПСРЛ. Т.1. Стб. 25–26; Т.2. Стб. 18; Т. 38. С. 18). Здесь, конечно, могут иметься в виду разные обстоятельства — вплоть до давления романских поселенцев в Паннонии IX в., при поддержке Восточно-Франкского королевства. Но начало такой ситуации относится именно к недатированным в летописи временам расселения «волохов» в придунайских областях. 1526 ЧСД 291: Свод II. С. 172/173. 1527 Судя по тому, что в заголовке Чуда 5 ЧСД он назван «булгаром» (Свод II. С. 168/169). 1528 ЧСД 291: Свод II. С. 172/173. 1529 ЧСД 293: Свод II. С. 174/175. 1530 ЧСД 304: Свод II. С. 178/179. 1531 ЧСД 285, 287: Свод II. С. 170/171. 1532 Согласно, ЧСД, прошло «шестьдесят лет и более» со времен аварского нашествия на Византию (ЧСД 286: Свод II. С. 170/171). Счет лет ведется от разорения каганом Фракии, то есть от 619–620 гг. Следует также иметь в виду, что Второе собрание Чудес составлено спустя примерно 70 лет после Первого, последние события которого относятся к правлению Фоки (602–610) (см.: Свод II. С. 92–93). Таким образом, датировка вторжения Кувера в Македонию временем около 681 г. вполне обоснована. 1533 ЧСД 287–288: Свод II. С. 170/171. 1534 ЧСД 288: Свод II. С. 170/171. О локализации см.: Там же. С. 207. Прим. 212. 1535 ЧСД 288: Свод II. С. 170/171. 1536 ЧСД 289: Свод II. С. 170/171. 1537 ЧСД 289: Свод II. С. 170–173. 1538 ЧСД 290: Свод II. С. 172/173. 1539 ЧСД 302: Свод II. С. 176/177. 1540 ЧСД 290: Свод II. С. 172/173. 1541 ЧСД 291: Свод II. С. 172/173. 1542 ЧСД 292–294: Свод II. С. 173–175 1543 ЧСД 294–301: Свод II. С. 174–177. 1544 ЧСД 302: Свод II. С. 176/177. 1545 Константин Багрянородный в сочинении «О фемах» связывает поселение «скифов» на Стримоне именно с Юстинианом II (Византиjски извори, 1959. С. 74). Едва ли может иметься ввиду кто-то, кроме болгар и сирмисиан Мавра. 1546 ЧСД 303: Свод II. С. 176/177; Византиjски извори, 1959. С. 74 (Константин Багрянородный, «О фемах»). Сохранилась печать Мавра с его полным титулом (Свод II. С.223). 1547 ЧСД 304: Свод II. С. 175–179. 1548 Свод II. С. 214/215 (указ о дарении), 230–233 (Никифор), 278–281 (Феофан). 1549 Свод II. С. 232/233 (Никифор), 280/281 (Феофан). 1550 Свод II. С. 280/281 (Феофан). 1551 Свод II. С. 219–220 (о кольце), С. 232/233 (Никифор), 280/281 (Феофан). 1552 Свод II. С. 232/233 (Никифор), 280/281 (Феофан). См. также (в том числе о хронологии событий): Большаков 1998. С. 272–273, 344 (прим. 47). Из восточных авторов сражение упоминают Халифа, Табари, Илья Нисибинский. 1553 Свод II. С. 280/281 (Феофан). 1554 Свод II. С. 218 (печать этого чиновника, 694/695 г.). Сложен вопрос об отождествлении этого «апоипата рабов» с «апоипатом рабов» и коммеркиарием (чиновник, ведающий торговлей) Георгием. Георгий — единственный, помимо владельца печати, человек с таким титулом, и его печати датируются также 693–695 гг. В этом случае можно было бы говорить о «гигантской распродаже» славянских рабов по Малой Азии (Oikonomides N. Silk trade and production in Byzantium from sixth to the ninth century. Appendix 2. A giant sale of Slaves in 694/695.// Dumbarton Oaks Papers. Vol. 40. Washington, 1986). Но тождество этого апоипата и Георгия — лишь гипотеза. Да и функции самого «апоипата рабов (пленников?)» в случае такого тождества, как показал Г.Г. Литаврин (Свод II. С. 219–221), не однозначно ясны. 1555 Свод II. С. 280/281. 1556 Свод II. С. 509. 1557 Zrodla arabskie do dziejow Slowianszczyzny. T. 1. Krakow, 1956. S. 202/203 (цитата у Ибн Кутайбы), 226/227 (цитата у Балазури). 1558 Бешевлиев, 1992. С. 102 (надпись хана Тервеля), 106–108 (комментарий). 1559 Порфирий (Успенский). История Афона. Т. 3. Киев, 1877. С. 311. Заметим, что по времени описываемых событий сведения о «влахоринхинах» в легенде Кастамонитского монастыря на Афоне — первое упоминание влахов. 1560 Славянские языки, 2005. С. 18–19, 72, 106. 1561 Федоров — Полевой, 1973. С. 298, 300. 1562 Федоров — Полевой, 1973. С. 302; Седов, 1982. С. 123; Седов, 1995. С. 105. 1563 Федоров — Полевой, 1973. С. 300, 302. 1564 См.: Федоров — Полевой, 1973. С. 302; Седов, 1995. С. 105–106; Романские языки 2001. С. 582. 1565 Въжарова, 1976. С. 83 след.; Седов, 1995. С. 259, 262. 1566 Только бежавших в 761 г. на земли Империи было, по Никифору, до 208 000 (Свод II. С. 234/235). Позднее болгарские ханы принимали меры по восстановлению численности населения. 1567 Седов, 1995. С. 157, 263. 1568 Въжарова 1965. 1569 См.: Седов, 1995. С. 265–266. 1570 Седов, 1995. С. 337. 1571 Седов, 1995. С. 166, 337. 1572 Свод II. С. 333 (Житие Панкратия). 1573 Федоров — Полевой, 1973. С. 302. 1574 Седов, 1995. С. 163. 1575 Федоров — Полевой, 1973. С. 392; Седов, 1995. С. 266. 1576 Свод II. С. 284/285 (Феофан о князе северов). 1577 Свод II. С. 333 (Житие Панкратия). 1578 Свод II. С. 234/235 (Никифор). 1579 Свод II. С. 234/235 (Никифор). 1580 Свод II. С. 284/285 (Феофан). 1581 Свод II. С. 333–334. 1582 Порфирий, 1877. С. 311. 1583 Свод II. С. 232/233 (Никифор); Ditten H. Prominente Slawen und Bulgaren in byzantinischen Diensten// Studien zum 8. und 9. Jh. in Byzanz. Berlin, 1983. S. 104–105. 1584 Свод II. С. 235 (Никифор), 246 (прим. 108), 284/285, 286/287 (Феофан), 320 (прим. 399). 1585 Дата смерти Аспаруха устанавливается по Именнику болгарских ханов (Именник, 1981. С. 12). Ее обстоятельства — сражение с «измаильтянами» (в которых можно видеть лишь хазар) сохранены преданием, отражаемым в Апокрифической летописи (Иванов, 1925. С. 282). 1586 Бешевлиев, 1992. С. 102; Свод II. С. 280/281 (Феофан). 1587 О событиях, приведших к падению Юстиниана, см.: Чичуров, 1982. С. 40/63 — 41/65 (Феофан), 156/164 — 157/166 (Никифор). 1588 Согласно легенде Кастамонитского монастыря (Порфирий, 1877. С. 311), македонские славяне — выходцы из Болгарии. Это может отражать как первоначальное расселение их с Дуная, так и позднейшие события. 1589 Свод II. С. 232/233 (Никифор). 1590 Zrodla 1956. S. 258/259 (Йакуби). 1591 Свод II. С. 232–235 (Никифор), 243 (Прим. 88 — версия Феофана). См. перевод соответствующего фрагмента Хронографии Феофана: Феофан, 2005. С. 342. 1592 Порфирий, 1877. С. 311. 1593 Свод II. С. 234/235 (Никифор). 1594 Свод II. С. 333–334. 1595 Свод II. С. 40 (Житие Виллибальда, епископа Эйхштеттского). 1596 Византиjски извори, 1959. С. 75 («О фемах»). 1597 Свод II. С. 211 (известна печать архонта Керминицы Михаила, носившего византийский титул спафария). 1598 Хронология второй (балканской) части «Именника» (Именник, 1981. С. 12) довольно запутанна. В отличие от первой части, буквальное восприятие дат по 12-летнему животному циклу приводит к расхождениям со сроками правления. Обычно годы правления ханов рассчитываются учеными, исходя из указанных сроков, за вычетом одного года — в ряде культур Востока первый год правления нового правителя одновременно считался и годом кончины предыдущего. Этим традиционным счетом пользуемся и мы, не ставя специальной задачей установление хронологии Болгарского ханства. Надо, однако, отметить, что в этом случае годом восхождения на престол Тервеля, правившего по «Именнику» 21 год, следует считать 698-й. Может, он какое-то время был соправителем Аспаруха? Единственная точка схождения с византийскими источниками — правление хана Телеца, — вместе с тем дает совпадение при обеих версиях подсчета. Исходя из традиционного счета, Телец правил в 761–763 гг. Исходя из даты восшествия на престол по 12-летнему циклу — 760–763 гг. Ошибки в «Именнике» очевидны, и более всего они должны были затронуть непонятные переписчикам даты на протоболгарском. Число твирем — 9, например, каким-то образом стало именем последнего хана из рода Дуло, второго преемника Тервеля. Этому небывалому хану приписывается 28 лет правления, что взламывает всю хронологию, так что исследователи предпочитают читать «8». Однако «опорные», упомянутые византийцами правители — Тервель и Телец — все-таки удостоверяют традиционный счет и общую достоверность «Именника». 1599 В «Именнике» о хане Кормисоше не очень понятно сказано, что он «изменил род Дуло» (Именник, 1981. С. 12). Феофан утверждает, что вплоть до Телеца (760/1 г.?) болгарами правили законные «господа, ведшие род по наследству» (Свод II. С. 282/283). Это подразумевает легитимную смену власти еще со времен Аспаруха — ведь после Кормисоша правил лишь один хан из его собственного рода Вокил (Укил). 1600 Порфирий, 1877. С. 311. 1601 Свод II. С. 234/235 (Никифор). 1602 Порфирий, 1877. С. 311. 1603 Свод II. С. 282/283 (Феофан). 1604 Свод II. С. 282/283 (Феофан). 1605 Именник, 1981. С. 12; Свод II. С. 282/283 (Феофан). 1606 Свод II. С. 234/235 (Никифор), 282/283 (Феофан). 1607 Свод II. С. 282/283 (Феофан). 1608 Свод II. С. 284/285 (Феофан). 1609 Свод II. С. 234/235 (Никифор), 283/284 (Феофан) 1610 Свод II. С. 282–285 (Феофан). 1611 Свод II. С. 284/285. 1612 Именник, 1981. С. 12. Указанная здесь дата животного цикла (год змеи) — падает на 765-й. Это совпадает с показаниями «Бревиария» Никифора, единственного источника по подоплеке похода. Он говорит о 3 индикте (764/5 г.). 1613 Свод II. С. 284/285 (Феофан). 1614 Свод II. С. 284/285 (Феофан). 1615 Свод II. С. 510. 1616 Свод II. С. 284–287 (Феофан). 1617 Свод II. С. 286/287. 1618 Свод II. С. 286/287 (Феофан), 328/329 (Монемвасийская хроника), 346/347 (Схолия Арефы). С походом Ставракия создание фемы Пелопоннес связывают Г. Острогорский (Ostrogorsky G. Geschichte des byzantinisches Staates. Munchen, 1963. S. 162) и др. 1619 Свод II. С. 286/287 (Феофан). 1620 Свод II. С. 288/289 (Феофан). Отождествление «Велзитии» из этого фрагмента с землей велеездичей (Нидерле, 2001. С. 485, 486) не имеет альтернатив. 1621 Свод II. С. 510. 1622 Славянские языки, 2005. С. 204. 1623 ПСРЛ. Т.1. Стб. 5–6; Т.2. Стб. 5; Т. 38. С. 12. 1624 Славянские языки, 2005. С. 19. 1625 Korosec, 1979. S. 289–306; Седов, 1995. С. 277, 278 (карта). К настоящему времени устарело определение ранней фазы карантанской культуры как «кеттлахской». Кеттлахская культура — плод дальнейшего смешения с германцами — складывается в Карантании уже в IX столетии (Korosec, 1979. S. 55, 305–306). 1626 Используя могильники предшествующего времени (Седов, 1995. С. 276). 1627 Седов, 1995. С. 35, 277, 324. 1628 Свод II. С. 434. Прим. 11 (диплом Карла Великого 791, передающий более раннюю грамоту Тассило III). 1629 Седов, 1995. С. 277. 1630 Paul. Diac. Hist. Lang.VI. 24: Свод II. С. 490/491. 1631 Седов, 1995. С. 277. 1632 Conversio 7: MGH SS XI. P. 9. 1633 Народы I. С. 461. 1634 См.: Conversio 4.: MCH SS XI. P. 7. 1635 Как Крайна (Карниола), независимая к 738 г. (Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 52.: Свод II. С. 492/493). 1636 В «Обращении баваров и карантанцев» князья Хорутании Крайны именуются duces, жупаны же, вероятно, — comites (Conversio 7: MGH SS XI. P. 9). Именно с выселенцами из Хорутании (в Баварию) связано древнейшее упоминание самого славянского титула «жупан» в письменном источнике (Свод II. C. 430/431, грамота Тассило III 777 г.). 1637 Так можно понять Павла Диакона: Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 24.: Свод II. С. 488/489. 1638 Conversio 7: MGH SS XI. P. 9. 1639 Not. Brev. I. 3, 8: Свод II. С. 502/3, 504/5. 1640 Седов, 1995. С. 277. 1641 Седов, 1995. С. 276, 277. 1642 Седов, 1995. С. 129, 304. 1643 Археология Венгрии 1986. С. 310–317. 1644 Седов, 1995. С. 134. 1645 Федоров — Полевой, 1973. С. 304. 1646 Федоров — Полевой, 1973. С. 304–305. 1647 Федоров — Полевой, 1973. С. 304. 1648 Федоров — Полевой, 1973. С. 305. 1649 Седов, 1995. С. 130. 1650 Belosevic 1980. S. 114, 128–129, 130–131; Седов, 1995. С. 327. 1651 Belosevic, 1980. S. 98–109, 116–122; Седов, 1995. С. 324–325. 1652 См.: Belosevic, 1980. S. 109–116, 123–125; Седов, 1995. С. 324–325. 1653 Belosevic, 1980. S. 130. 1654 Большая семья (в форме задруги) у хорватов существовала и в новое время (Народы I. С. 444). 1655 Свидетельство Константина Багрянородного (Константин, 1991. С. 136/137). 1656 Судя по преданиям, отраженным в «Летописи попа Дуклянина» (Шишић, 1928. С. 317 — под «баном Белой Хорватии» здесь следует иметь в виду хорватского князя, поскольку по исторической теории Дуклянина «король» у славян может быть только один, в данном случае сербский Родослав). 1657 Константин, 1991. С. 132/133. 1658 Константин, 1991. С. 132/133, 136/137. 1659 Belosevic, 1980. S. 98 etc.; Седов, 1995. С. 130, 324–327. 1660 Belosevic, 1980; Седов, 1995. С. 324, 327. 1661 Описание событий: Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 24.: Свод II. С. 488–491. См. также: Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 45.: Свод II. С. 492/493. В.К. Ронин считает размеры потерь фриульцев преувеличением. Его аргументация: «Ниже рассказывается, что ставший вскоре герцогом Пеммо, собрав сыновей всех знатных фриульцев, павших в войне со славянами, воспитал их вместе со своими детьми. Очевидно, таких сирот было немного, а значит, потери фриульской знати были не так велики» (Свод II. С. 500. Прим. 64). Не кажется очевидным. Под фриульской знатью имеется в виду ее постоянно вооруженная часть, герцогская дружина. Если им хватало места при герцогском дворе, то не хватило бы и для их детей? Кажется, что у герцога хватило бы и средств в казне для содержания сирот, и места для их размещения в Чивидале. Думается, что воспитание «вместе с собственными детьми» — не обязательно в одной спальне и в одной игровой комнате (Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 45.: Свод II. С. 490/491). При всех возможных эпических преувеличениях, не видим достаточных оснований сомневаться в показаниях источника в данном случае. 1662 Drev. Not. I. 3.: Свод II. C. 502/503. 1663 Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 45.: Свод II. С. 490–493. 1664 Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 51.: Свод II. С. 492/493. 1665 Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 38.: Свод II. С. 486/487. 1666 Paul. Diac. Hist. Lang. VI. 52.: Свод II. С. 492/493. 1667 Об археологическом материале см.: Седов, 1995. С. 129, 304. 1668 Почти единственный источник по этим событиям — «Обращение баваров и карантанцев». См.: Conversio 4: MGH SS XI. P. 7. Подробный русский пересказ В.К. Ронина: Свод II. С. 459. 1669 Brev. Not. I. 8: Свод II. С. 504/505. 1670 Conversio 3: MGH SS XI. P. 6; Свод II. С. 453. Прим. 5 1671 Conversio 4: MGH SS XI. P. 7; Свод II. С. 459. 1672 Conversio 5: MGH SS XI. P. 7; Свод II. С. 459. 1673 Свод II. С. 459. 1674 Conversio 5: MGH SS XI. P. 8; Свод II. С. 459. 1675 ЭССЯ. Вып. 11. С. 89. 1676 Conversio 5: MGH SS XI. P. 8; Свод II. С. 459. О хронологии см.: Wolfram H. Die Geburt Mitteleuropas. Wien, 1987. S. 143–144. 1677 В числе трех рабов, переданных баварским вотчинником Пейгири церкви Святого архангела Михаила согласно грамоте Пейгири от 28 апреля 770 г. упоминается славянка Саска (Свод II. С. 427). Рабыня могла быть пленена при набеге именно баваров на Хорутанию, а не наоборот. 1678 Прямых сведений об отступничестве хорватов и его времени не сохранилось. Однако, судя по повторному крещению при Борне в начале IX в. (Константин, 1991. С. 132/133, 136/137), к тому времени оно уже произошло. Как раз в начале IX в. хорваты попадают в поле зрения франкских анналистов — явно как языческий народ. Ни об их христианстве, ни об их отступничестве ничего не сообщается. Логично связать отступление хорватов от христианства именно с хорутанской крамолой, произошедшей в 760-х гг. Более ранних причин этому не находим. 1679 Свод II. С. 424/425. 1680 Ann. Iuvav. Max. A. 772: Свод II. С. 459. 1681 Conversio 5: MGH SS XI. P. 8; Свод II. С. 459. 1682 Kahl H.-D. Zwischen Aquileia und Salzburg// Die Volker an der mittleren und unteren Donau im funften und sechsten Jahrhundert. Wien, 1980. S. 54–58. 1683 Conversio 5: MGH SS XI. P. 8–9; Свод II. С. 460. 1684 Свод II. С. 458. Хорутане здесь названы «канитами» (Bischoff B. Salzburger Formelbucher und Briefe aus Tassilonischer und Karolingischer Zeit. Munchen, 1973. S. 14). 1685 Свод II. С. 430/431 (Грамота Тассило). Первоначальный вид грамоты восстанавливается на основе диплома Карла Великого от 3 января 791 г. (Свод II. С. 432–434). 1686 Conversio 7: MGH SS XI. P. 9. Власть Инго, судя по этому фрагменту, признавали все славяне к востоку от Баварии, причем на этом пространстве он не был единственным князем (dux). Другим, очевидно, являлся подчиненный ему правитель Крайны Войномир. 1687 Ann. Alem. A. 790: Свод II. С. 452; см. также: Свод II. С. 453. Прим. 5. 1688 При королевском подтверждении герцогской грамоты Быш упомянут уже без титула (Свод II. С. 433. Прим. 8, 11). 1689 Эти новшества прослеживаются по интерполяциям в грамоту Тассило, сделанным после королевского подтверждения 791 г. См.: Свод II. С. 430/431 и примечания. 1690 ARF. A. 796: Свод II. С. 466–469. О датировке похода см.: Там же. С. 478. Прим. 20. Высказывавшееся предположение о хорватском (славонском, посавском) происхождении Войномира (Klaic, 1971. S. 168) совершенно излишне. Союзником фриульцев должен был стать их ближайший сосед — князь Крайны. 1691 Conversio 6–7: MGH SS XI. P. 9. 1692 Korosec, 1979. Т. 2. S. 38–39. 1693 Константин, 1991. С. 130/131. 1694 An. Alem. A. 797; An. Wolf. A. 797: Свод II. С. 452, 455. 1695 На территории Паннонии есть кеттлахские памятники (Седов, 1995. С. 278). 1696 Conversio 8: MGH SS XI. P. 10. 1697 Федоров — Полевой, 1973. С. 304–305. 1698 Археолошки споменици и налазишта у Србиjи. Т. II. Београд, 1956. С. 231; Седов, 1995. С. 333, 335. 1699 Седов, 1995. С. 335. 1700 Народы I. С. 418–419, 489–491. 1701 Седов, 1995. С. 335; Седов, 2002. С. 499–500. 1702 Дубровницкие предания относят первые подселения славян на остров уже к VII–VIII вв. (Макушев, 1867. С. 305–308, 316–317). 1703 Если верить преданию о Радославе (Шишић, 1928. С. 313–314). 1704 Макушев, 1867. С. 306–307, 307–308. 1705 Ср.: Константин, 1991. С. 112/113, 142/143. 1706 Предания о Ратомире (Шишић, 1928. С. 298–299) и Радославе (Шишић, 1928. С. 313–314). 1707 Археолошки споменици и налазишта у Србиjи. II. Београд, 1956. С. 231, 248; Седов, 1995. С. 333, 335. 1708 Судя по преданиям о князе Радославе (Шишић, 1928. С. 313–315; Макушев 1867. С. 305). 1709 Шишић, 1928. С. 298–299. 1710 Константин, 1991. С. 142/143. 1711 В дубровницких Анналах это — второе бегство (Макушев, 1867. С. 307–308). Но первое (С. 306–307) связывается с тиранией князя Радослава, якобы правившего в VII в. На самом деле Радослав — сын Вышеслава. 1712 Константин, 1991. С. 142/143. 1713 Радослав, сын Стефана Боснийского и наполовину «римлянин», объявляется у дубровницкого Анонима основателем Рагузы (Макушев, 1867. С. 305). Но у Дуклянина основатель Рагузы — внук Радослава, Белый Павел Требинский (Шишић, 1928. С. 317–322). Этот жупан Белый известен еще Константину (Константин, 1991. С. 150/151). Теоретически он вполне мог быть и внуком Радослава. Легенда о его возвращении-бегстве из Рима находит параллель в известии Фомы Сплитского о «чужестранцах», изгнанных из Рима и основавших Дубровник (Фома, 1997. С. 39/242–3). Это явная пародия на изложенное у Дуклянина — следовательно, именно эта версия тогда ходила в Дубровнике. «Стефан» вполне могло бы быть христианским именем Вышеслава. Но он назван в Анналах «боснийским баном». На страницах Анналов появляются целых две пары Стефан — Радослав. Одна в VI (Макушев, 1867. С. 305–306), другая в VII в. (С. 306–307). Датировки событий в Анналах происходят от стремления удревнить прошлое Дубровника. Удвоение же Радослава вызвано расхождениями в дубровницких преданиях. В одних он — основатель родного города. В других — жестокий славянский тиран, подданные которого, босняки, бежали от него в Рагузу. В другой версии Анналов упомянут лишь один Радослав в конце VII в. (Макушев 1867. С. 316–317). Что до Стефана, то в начале IX в. на страницах Анналов неожиданно появляется еще один Стефан Боснийский (С. 313). Его-то одного и можно счесть за исторический или полуисторический персонаж, давший жизнь обоим «отцам» обоих Радославов. Но гораздо более вероятно, что историческим прототипом Стефана стал упоминаемый у Милеция боснийский князь или бан XI в. Стефан (Matas, 1882. S. 11; см. также: Шишић, 1928. С. 360–361). В Летописи попа Дуклянина, автор которой пытался создать единую родословную для всех известных ему сербохорватских князей, Радослав становится сыном Светозара, внуком Крепимира (Трпимир — имя двух хорватских королей IX–X вв.) (Шишић, 1928. С. 313). Предание о нем помещается среди повествований о правителях именно этого времени. Это отчасти вызвано отождествлением его сына Берислава (Бесислава), названного так в Анналах (Макушев, 1867. С. 305) с чешским князем Х в. Чаславом. Таким образом, в обеих версиях — дуклянской и дубровницкой — предание о Радославе пережило различные наслоения, но основа его восстанавливается. Имеется составленная от имени Радослава поддельная грамота, переносящая время его жизни в XI в. (Corpus Diplomaticum… Vol. 1. Zagreb, 1967. S. 84–85). Ее единственный источник, кажется, Летопись попа Дуклянина (Шишић, 1928. С. 188). На ее основе неверно датировать правление Радослава фальсификаторам было немудрено. 1714 Шишић, 1928. С. 313. 1715 Макушев, 1867. С. 306–307. 1716 Шишић, 1928. С. 313–314. 1717 Предание о свержении Радослава излагается у Дуклянина подробно (Шишић, 1928. С. 313–315, 317), у дубровницкого Анонима — в нескольких словах (Машуков, 1867. С. 305). Подлинное имя сына князя — Берислав (в анналах Бесислав) — сохранилось в дубровницких источниках (Шишић, 1928. С. 439). В Летописи попа Дуклянина он получил имя и судьбу сербского князя Часлава. Но дубровчане XV в. уже смешивали самого Радослава с его внуком (по Дуклянину) полуримлянином жупаном Белым, которому Дуклянин и приписывал основание Рагузы. 1718 Константин, 1991. С. 142/143. 1719 Славянские языки, 2005. С. 19–20. 1720 Свод II. С. 402. См.: Там же. С. 405. прим. 4. 1721 Такую картину рисуют франкские анналы: Cont. Fred. 31: Свод II. С. 410/411; AMp. A. 748: Свод II. С. 410–411. Прим. 4; Ann. Laur. A. 789: Свод II. С. 442/443; Fragm. Chesn. A. 789: Свод II. С. 447; Ann. Petav. A. 789: Свод II. С. 449/450; AqdE. A. 789: Свод II. С. 471. Доказывается это и большим числом княжеских градов во всех славянских областях. 1722 ЭССЯ. Вып. 4. С. 40–42. 1723 ЭССЯ. Вып. 32. С. 112–115. 1724 О термине «смерд» (с первоначальным уничижительным значением «смердящий») см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. С. 684–685. 1725 Седов, 1982. С. 244. 1726 Седов, 1982. С. 243. 1727 Народы I. С. 256–257. 1728 Иванов В.В., Топоров В.Н. Додола// Мифологический словарь. М., 1992. С. 194. 1729 ЭССЯ. Вып. 19. С. 131. 1730 ЭССЯ. Вып. 17. С. 209–210. 1731 Календарные обычаи, 1977. С. 229. 1732 См.: Календарные обычаи, 1977. С. 206–207, 228–230, 239; Соколова, 1979. С. 11 след., 231 след. 1733 См.: Славянская мифология 1995; ЭССЯ. Вып. 5. С. 68–69. 1734 См. летописи о событиях XI в., уже после принятия христианства: ПСРЛ. Т.3. М., 2000. С. 192; Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 174. 1735 Bonif. Ep. № 73: Свод II. С. 416/417 (письмо англосаксонскому королю Этельбальду). 1736 Sklenar, 1974. S. 285–287; Slawen in Deutschland. Berlin, 1986. S. 320. 1737 ПСРЛ. Т.3. М., 2000. С. 192. 1738 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 2000. Т. 2. С. 97. (Поучение «О вдуновении духа в человека» XV в.). 1739 Схожие представления бытовали у болгар, что отразилось в апокрифическом «Сказании об озере Тивериадском» (XII в.?), ходившем в богомильской среде (Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915. С. 20). Фольклорный вариант легенды см., например: Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. Новосибирск, 1990. С. 94. 1740 ЭССЯ. Вып. 4. С. 163–166. 1741 Южным славянам неизвестны: ЭССЯ. Вып. 15. С. 257 след. 1742 Русанова — Тимощук, 1988. №№ 5, 8, 16, 27, 44, 64, 72. См. также: Седов, 1982. С. 261–263. 1743 Bonif. Aenigm.: Свод II. С. 414/415. 1744 Эйнхард, биограф Карла Великого, отмечает, что велеты «донимали непрестанными набегами ободритов» (Einh. Vit. Carol. 12: Свод II. С. 474). 1745 Дата установлена радиоуглеродным методом (Седов, 1995. С. 51). Позднее на городище отмечена фельдбергская керамика — до 4 % от общего числа находок глиняной посуды (Седов, 1995. С. 54). 1746 Седов, 1995. С. 51. 1747 Проникновение велетов отмечено незначительным распространением фельдбергской керамики на Рюгене (Седов, 1995. С. 54, 56). 1748 Седов, 1995. С. 141. 1749 Седов, 1995. С. 54. 1750 Седов, 1995. С. 141. 1751 Седов, 1995. С. 55. 1752 Кухаренко, 1969. С. 126–127; Historia kultury, 1978. S. 38–39, 105. 1753 Historia kultury, 1978. S. 98, 105, 116, 123; Лебедев, 2005. С. 259, 261. 1754 См.: Chronicon Lethrense// Scriptores Minores Histori? Danic?. Vol. I. Copenhagen, 1917; Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Havniae, 1837. Латинист Саксон при использовании своих источников, саг и эддических песен, принципиально передает «венды» как «склавы», а «Гардарики», например, — как «Руссия». 1755 Хронология и генеалогия датских конунгов «достовернее», ближе к изначальным родовым перечням, выглядит в родословиях «исландско-норвежской» версии (см., например: Scriptores Rerum Danicarum. Hafnia, 1772. P. 4–5). Версии латинских хроник — «Хроники Лейре» и особенно Саксона Грамматика — представляют собой свободную компиляцию различных саг и эпических текстов, расставленных достаточно произвольно. Характерные примеры из Саксона — «размножение» легендарного конунга Фроди, введение посреди повествования о событиях VIII или даже IX в. легенды о готском короле Германарихе и особенно удвоение конунга VIII в. Сигурда Хринга (Кольца) с разнесением его «ипостасей» на десяток примерно поколений. Вместе с тем Саксон позволяет представить лучше некоторую условность всех ранних скандинавских генеалогий вообще. Нередко он просто отражает какие-то варианты их, не нашедшие отражения в известных сагах. Как бы то ни было, общая последовательность и временная шкала датской традиция адекватно передается не им, а исландскими сагами и генеалогиями. Об этом свидетельствует близость излагаемого ими (но не Саксоном) с англосаксонской поэмой VIII в. «Беовульф» и восходящими к IX–XI вв. эпическими песнями («Песнь о Гротти», «Песнь о Хюндле») — см.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1973. 1756 Chronicon Lethrense// SMHD I. 1757 Saxo 1837. P. 132–133. В сказание вводится проклятое сокровище — изумительный браслет, который Хрёрик посулил победителю и с которым никак не хотел расстаться. Именно этот браслет и является главной темой сказания, поводом для его сложения. Частый мотив в германском эпосе. 1758 Herrmann, 1968. S. 19; Седов, 2002. С. 334; Лебедев 2005. С. 258. Название часто связывается с древнеисландским reyrr ‘тростник’, поскольку град расположен в заросшей тростником пойме старого озера. Но логичнее заключить, что название происходит от личного имени. По неясным причинам явно чужеземное название славянского Велиграда «Рерик» стало излюбленным аргументом некоторых представителей российской «антинорманистской» школы. Действительно, оно перекликается с именем «Рюрик» — и лучшего доказательства неславянского происхождения этого имени трудно было бы представить. Славяне звали свою столицу Велиградом. Скандинавы звали Велиград Рериком, так же, как германцы — Мекленбургом. Не обратить на этот широко известный факт внимания возможно лишь по какому-то недоразумению. Очевидно, от использования данного аргумента рациональный «антинорманист» должен отказаться. 1759 Седов, 1995. С. 144. 1760 AMp. A. 692: Свод II. С. 411–412. Критическое отношение к этому известию определяется официозным характером Мецских анналов (Ernst R. Die Nordwestslawen und das frankische Reich. Berlin, 1976. S. 93; Ронин В.К. О «власти» Карла Великого над славянами// Советское славяноведение. 1984, № 1. С. 36). Но преувеличение значимости тех или иных дипломатических акций, пышности врученных послам даров, — еще не вымысел. Австразия времен Пипина Геристальского была достаточно сильна, чтобы сообщаться на равных с лангобардами, аварами или тем более славянами. В дипломатических контактах с соседями она, конечно, была заинтересована. Не следует, очевидно, предполагать полную международную изоляцию Франкского королевства в тот исторический момент. Тем более странно отрицать контакты Арнульфингов с сопредельными им славянскими племенами. 1761 Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 1. Leipzich, 1876. S. 65–67. Анализ сведений Грунау в сопоставлении с археологическим материалом произведен в работах: Кулаков 1990; Кулаков В.И. Тюрки на Балтике.// Материалы по археологии Калмыкии. Элиста, 1991; Кулаков В. И. История Пруссии до 1283 г. М., 2003. 1762 Седов, 1995. С. 348. 1763 Sklenar, 1974. S. 277, 281. 1764 Sklenar, 1974. S. 281, 285; Седов, 1995. С. 315. 1765 См.: Sklenar, 1974. S. 280; Седов, 1995. С. 317. 1766 Sklenar, 1974. S. 283, 292–293, 303, 317; Седов, 1995. С. 287–288, 314–315. 1767 Sklenar, 1974. S. 273–274; Седов, 1995. С. 315. 1768 Sklenar, 1974. S. 278. 1769 Sklenar, 1974. S. 281–282. 1770 Sklenar, 1974. S. 296–297. 1771 Sklenar, 1974. S. 276–277, 285–286, 302. 1772 Sklenar, 1974. S. 277, 285–288. 1773 Sklenar, 1974. S. 280. 1774 См.: Этнография восточных славян. М., 1980. С. 191–192. 1775 Sklenar, 1974. S. 273, 274, 276–277, 283, 287, 288, 317. 1776 Sklenar, 1974. S. 276–277, 280, 281, 285–286, 288. 1777 Sklenar, 1974. S. 272, 276–277, 280, 281, 283, 285, 287, 305. 1778 Sklenar, 1974. S. 274, 281, 305; Седов, 1995. С. 315–317. 1779 Sklenar, 1974. S. 273, 276–277, 280, 285–288. 1780 Козьма, 1962. С. 48. 1781 Там хранились лапти Пржемысла (Козьма 1962. С. 45). 1782 Козьма, 1962. С. 47–48; Staroceska kronika tak receneho Dalimila. Praha, 1988. Sv. 1. Kap. 9–6 1783 Козьма, 1962. С. 37–47. 1784 Staroceska kronika, 1988. Sv. 1. Kap. 3–8. 1785 Sklenar, 1974. S. 283. 1786 Седов, 1995. С. 313. 1787 Sklenar, 1974. S. 317; Седов, 1995. С. 314. 1788 Седов, 1995. С. 287. Захоронения с конями конца VII — первой половины VIII в. могут, в принципе, принадлежать и аваро-славянским метисам — потомкам дружинников Само. 1789 Седов, 1995. С. 287–288. 1790 Sklenar, 1974. S. 273; Седов, 2002. С. 534. Очевидно, необязательно объяснять распространение этих ценных, «престижных» для знати украшений только переселениями с Дуная. Хотя и миграции мастеров оттуда исключать нельзя. 1791 Sklenar, 1974. S. 293; Седов, 1995. С. 288. 1792 Другие объяснения не кажутся слишком убедительными. См.: Седов, 1995. С. 315–317. 1793 *goneznoti ‘освободиться’ (из древневерхненемецкого. — ЭССЯ. Вып. 7. С. 21); *gornostalь ‘горностай’ (из саксонского. — Там же. С. 48–49); *lьvъ ‘лев’ (из древневерхненемецкого. — ЭССЯ. Вып. 17. С. 106–107); *misa ‘блюдо, миска’ (из древневерхненемецкого «стол». — ЭССЯ. Вып. 18. С. 58–59; отсюда собственно славянское уменьшительное «миска»), *mosezъ ‘латунь’ (из древневерхненемецкого — ЭССЯ. Вып. 20. С. 16–18); *mosorъ ‘деревянный сосуд’ (из древневерхненемецкого. — Там же. С. 21); *mъrxy ‘морковь’ (возможно, из древневерхненемецкого, с общеславянским «морковь» не связано. — Там же. С. 242); *olkъtusa ‘платок’ (из немецкого? — ЭССЯ. Вып. 32. С. 65). 1794 Свод II. С. 417–418 (Житие Стурми). 1795 Свод II. С. 422 (Житие св. Бонифация). 1796 Этим можно объяснить известие Мецских анналов (AMp. A. 789: Свод II. С. 473), подвергающееся сомнению из-за его тенденциозности. Место княжения Драговита — видимо, Бранибор (см.: Свод II. С. 472). 1797 Cont. Fred. 31: Свод II. С. 410/411; AMp. A. 748: Свод II. С. 410–411. Прим. 4. В Мецских анналах речь идет о 100-тысячном войске одних славян, что явное преувеличение. 1798 Свод II. С. 418. Грамота Пипина и Карломана была воспроизведена в грамоте короля Арнульфа от 18 ноября 889 г. 1799 Bonif. Ep. № 87: Свод II. С. 416/417. 1800 Ann. Altah. Maior. A. 766; Lamp. Ann. A. 766: Свод II. С. 412. Прим. 9. Уникальное известие средневековых анналов восходит к «Фульдской компиляции» IX в. 1801 Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 71–72; Седов, 1982. С. 20. 1802 Седов, 1982. С. 25. 1803 Седов, 1982. С. 123. 1804 Седов, 1982. С. 91, 124 (карты). 1805 Седов, 1982. С. 96. 1806 Седов, 1982. С. 94. 1807 Седов, 1982. С. 93, 116. 1808 В Начальном летописном своде само происхождение имени полян связывается с основанием Киева (ПСРЛ. Т. 3. С. 104–105, 432, 512–513). Повесть временных лет специально подчеркивает, что и до этого обитатели Киевских гор звались полянами (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 9; Т. 2. Стб. 7; Т. 38. С. 13). Но утверждение об «особом» проживании родов у этого летописца повторяется — рефреном (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 7, 9, 11; Т. 2. Стб. 5, 7, 9; Т. 38. С. 12, 13, 14) 1809 Начальный свод определяет угличам земли «по Днепру вниз»: ПСРЛ. Т. 3. С. 109, 435, 516. О жизни угличей «по Бугу и по Днепру» даже «вплоть до моря» говорил, насколько можно судить, и первоначальный текст Повести временных лет, искаженный переписчиками: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 12–13; Т. 2. Стб. 9–10; Т. 38. С. 14. См. реконструкцию: Алексеев 2006. С. 311–312. 1810 Седов, 1982. С. 90, 123. 1811 Об этом свидетельствует, в частности, распространение индивидуальных курганов вместо семейных усыпальниц (Седов, 1982. С. 91, 244). 1812 Седов, 1982. С. 90, 123. 1813 Ср.: ЭССЯ. Вып. 8. С. 85. 1814 Седов, 1982. С. 90, 246; Русанова — Тимощук, 1987. № 72. 1815 Седов, 1982. С. 123. 1816 Седов, 1982. С. 242. 1817 ПСРЛ. Т. 3. С. 105–106, 433, 513. 1818 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 17; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 12; ПСРЛ. Т. 38. С. 15. 1819 Седов, 1982. С. 90, 236–237. 1820 Седов, 1982. С. 90. 1821 Седов, 1982. С. 90, 240–241. 1822 Седов, 1982. С. 90, 241; Седов, 2002. С. 534, 538–539. 1823 Седов, 1982. С. 90–91, 123. 1824 Седов, 1982. С. 91, 123. 1825 Седов, 1982. С. 96. 1826 Седов, 1982. С. 104. 1827 Седов, 1982. С. 108, 116. 1828 Седов, 1982. С. 126. 1829 В киевской летописи, передаваемой Яном Длугошем, антитезой полянам предстают именно дулебы — там, где в других летописях названы древляне: Щавелева 2004. С. 79/226. 1830 ПСРЛ. Т.1. Стб. 13; Т. 2. Стб. 10; Т. 38. С. 14. 1831 См.: Этнография, 1980. С. 405–409. 1832 Восточные славяне 2002. С. 164–167, 311–312. Внешние особенности средневековых дреговичей сложились позднее, в ходе смешения с балтами к северу от Припяти. 1833 Седов, 1982. С. 25; Гавритухин — Обломский, 1996. 1834 Юренко С.П. Население Днепровского Левобережья в VII–VIII вв. н. э. (волынцевская культура).// Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т.4. Киев, 1988. С. 244–251; Гавритухин — Обломский, 1996. С. 124–136. 1835 Седов, 1982. С. 137; Седов, 2002. С. 261. 1836 Седов, 2002. С. 262. По мнению И.О. Гавритухина, конец волынцевской культуры может быть отодвинут к началу Х в. (Гавритухин — Обломский, 1996. С. 133–136). Это противоречит выводам большинства археологов. 1837 Седов, 1982. С. 137–138; Седов, 2002. С. 259. При богатстве сведенного воедино фактического материала, трудно согласиться с выводами поздних работ В.В. Седова о происхождении и особенно об атрибуции волынцевской культуры (см.: Седов, 1995. С. 186–197; Седов, 2002. С. 255–295). Присутствие именьковских элементов в волынцевской культуре не дает оснований возводить ее преимущественно к именьковской. Попытки привязать расплывающуюся дату начала волынцевской культуры к исчезновению именьковской в начале VIII в. выглядят не очень убедительно. Славянская атрибуция именьковской культуры Среднего Поволжья проблематична и не находит убедительных подтверждений в письменных источниках. Условность связанных с этим построений демонстрировал сам В.В. Седов. В работе 1995 г. решительно утверждается: «после открытия поселений раннесредневековых славян на Волге, можно считать, что Славянской рекой именовалась Волга не только в XI в., когда об этом достаточно определенно свидетельствует ал-Бируни, но и в источниках последних веков I тысячелетия н. э.» (Седов, 1995. С. 196–197). Однако затем, отнеся выселение именьковцев с Волги ко времени становления волынцевской культуры в конце VII в., В.В.Седов признал верность прежней традиционной позиции: «В VIII–IX вв. так, по всей видимости, именовался Дон» (Седов, 2002. С. 254). Переселение именьковцев с Волги, относимое ранее к рубежу веков (Седов, 1995. С. 195, 196), в 2002 г., видимо, в связи с датированием возникновения волынцевской культуры последними десятилетиями VII в., твердо помещается в «конец VII в.». Обосновывается это только «массовым» появлением в это время тюрок (Седов, 2002. С. 253–254). Наконец, отождествление волынцевской группы славянских племен, — то есть, в первую очередь, северы, вятичей, радимичей, — с «русами» выглядит немного странно. Именно эти племена, живущие «зверским образом», последовательно противопоставляются Руси в летописях. Поляне же, «ныне зовущиеся русь», жили на самой периферии волынцевского региона и, строго говоря, по происхождению относились к иному культурному кругу. Рациональным основанием говорить о вкладе волынцевских племен в историю Руси является причастность их к основанию Киева. Но сам по себе этот факт не доказывает их принадлежности к русам. С этой точки зрения достаточно оправданна критика концепции В.В. Седова В.Я. Петрухиным (Петрухин В.Я. «Русский каганат», скандинавы и Древняя Русь: средневековая традиция и стереотипы современной историографии.// Древнейшие государства Восточной Европы. 1999. М., 2001. С. 136–139). Однако собственное его представление о «доминионе [?] Хазарии» на этих землях не может не вызывать дополнительных вопросов. 1838 Седов, 1982. С. 137–13; Седов, 1995. С. 193; Гавритухин — Обломский, 1996. С. 124–135, 148; Седов, 2002. С. 256, 265. 1839 ЭССЯ. Вып. 21. С. 52–54. 1840 Восточные славяне 2002. С. 165. Следы салтовского присутствия в среде северян и полян находят в одонтологическом материале (там же. С. 210–211). Балтские корни северян нашли отражение в сообщаемом Повестью временных лет предании об их частичном происхождении от кривичей (ПСРЛ. Т.1. Стб.10; Т.2. Стб. 8; Т. 38. С. 13). 1841 Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 186–188. 1842 Седов, 1982. С. 25, 137; Седов, 1995. С. 191: Седов, 2002. С. 259. 1843 Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 86–187, 189; Гавритухин — Обломский, 1996. С. 148. 1844 Седов, 1995. С. 191. 1845 Седов, 1982. С. 236; Седов, 1995. С. 191; Седов, 2002. С. 260. 1846 Седов, 1995. С. 241; Седов, 1995. С. 191–192, Седов, 2002. С. 259. 1847 Седов, 1995. С. 191, 192. 1848 Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 191. 1849 Едва ли имеет смысл возводить их только к лепным именьковским. В 1982 г. В.В. Седов отмечал относительно волынцевской гончарной керамики: «Ближайшие аналогии ей обнаруживаются в салтовской культуре… В салтовской керамике есть формы, идентичные или близкие волынцевским, хотя в целом она отличается значительным многообразием» (Седов, 1982. С. 137). В работе 1995 г. на материале не изменившейся (в части гончарной керамики) типологии, тем не менее, утверждается: «в целом волынцевская керамика существенно отличается от салтовской» (Седов, 1995. С. 193). И далее: «Волынцевская глиняная посуда, не продолжавшая местные традиции, по своим формам и фактуре теста вполне может быть выведена из именьковской» (Седов, 1995. С. 194). Очевидно, соотношение форм волынцевских, салтовских и именьковских сосудов поддается в равной степени различным интерпретациям. Фактами остаются находки салтовской керамики в волынцевском ареале и полное отсутствие гончарства в следующей славянской роменской культуре — даже если волынцевские сосуды, как продукция отдельных ремесленных центров, продолжали бытовать и в IX в. (см.: Гавритухин — Обломский, 1996. С. 135–136). 1850 Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 190–191. 1851 Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 191. 1852 Седов, 1995. С. 191, 198. 1853 Седов, 1995. С. 190. 1854 Седов, 1982. С. 137, Седов, 1995. С. 191, 192. 1855 Седов, 1995. С. 191. 1856 ПСРЛ. Т.1. Стб. 14; Т.2. Стб. 10; Т. 38. С. 14; Седов, 1982. С. 137; Седов, 1995. С. 189. 1857 ПСРЛ. Т.1. Стб. 13–14; Т.2. Стб. 10; Т. 38. С. 14 1858 ПСРЛ. Т. 41. М., 1995. С. 5–6, 137–138. 1859 Седов, 1995. С. 186, 197; Седов, 2002. С. 260. 1860 Каргер М.К. Древний Киев. Т.1. М. — Л., 1958; Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1983; Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. С. 66–67; Седов, 2002. С. 293. Ср.: Седов, 1982. С. 243. 1861 ПСРЛ. Т. 3. С. 103, 431, 511–512. 1862 ПСРЛ. Т. 3. С. 104–105, 432, 512–513. 1863 ПСРЛ. Т.1. Стб. 9; Т.2. Стб. 7; Т. 38. С. 13. 1864 Такое чтение, прямо перекликающееся с Начальной летописью, сохранила киевская Ипатьевская: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 7. В остальных версиях, восходящих к редакции Повести Сильвестра — «поляне в Киеве». В результате такого исправления полемический смысл фразы оказался утерян. 1865 ПСРЛ. Т.1. Стб. 9–10; Т. 2. Стб. 7–8; Т. 38. С. 13. 1866 Например, рассказа о женитьбе князя Владимира на Рогнеде: Начальная летопись. М., 1999. С. 127–128. 1867 Учитывая все вышесказанное, едва ли можно согласиться с гипотезой (Мельникова Е.А. Историческая память в устной и письменной традициях.// Древнейшие государства Восточной Европы. 2001. С. 69) о сочинении рассказа самим летописцем по образцу походов Олега и Святослава. 1868 Иванов В.В., Топоров В.Н. Кий.// Славянская мифология 1995. С. 222. 1869 Легенди та переказi. Київ, 1985. С. 165 след. 1870 Легенди 1985. С. 170–171. 1871 ЭССЯ. Вып. 17. С. 12–13. Название «Лыбедь» на Рязанщине связано почти наверняка с южнорусскими переселенцами. 1872 Седов, 1982. С. 112. 1873 См.: Каргер 1958. С. 137. 1874 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 9; Т. 2. Стб. 7, 15 (л. 6362); Т. 38. С. 13; Щавелева 2004. С. 79/226. 1875 См.: Петрухин, 2001. С. 139; Петрухин В.Я. История славян и Руси в контексте библейской традиции: миф и история в Повести временных лет.// Древнейшие государства Восточной Европы. 2001. М., 2003. С. 101. 1876 Гизель И. Синопсис. СПб., 1798. С. 21. 1877 Седов, 2002. С. 293. 1878 Вернадский Г.В. Древняя Русь. М. — Тверь, 2000. С. 337; Петрухин 2003. С. 101–102. 1879 Артамонов 2002. С. 272 след. См. еще: Гумилев Л.Н. Зигзаг истории.// Собрание сочинений. М. — СПб., 2003. 1880 Все это бесконечно далеко от концепции основания самого Киева хазарами и хазарском происхождении названия (Вернадский, 2000. С. 334–337; Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М. — Иерусалим, 1997). Из нее следуют выводы о постоянном присутствии хазар и иудеев в Киеве еще с начала его истории, о роли Киева как хазарского форпоста на Правобережье. Их влияние отчетливо и в более умеренной концепции В.Я. Петрухина (см.: Петрухин, 2001; Петрухин, 2003. С. 101 след.; комментарии к указанному изданию работы Н. Голба и О. Прицака). Реальные сведения о постоянном еврейском или хазарском проживании в Киеве не восходят ранее Х в. 1881 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 101. 1882 Лебедев, 2005. С. 561. 1883 Петрухин, 2003. С. 102. 1884 Истории Кия предлагались параллели: Рыбаков, 1982. С. 51; Толочко П.П. Древняя Русь. Киев, 1987. С. 15–18. Следует отметить, что увязка Кия с этим известным летописцу от дунайцев «Киевцом» вполне может быть вторичным, летописцу и принадлежащим, соотнесением. Это приписка, выпадающая из былевого ритма основного рассказа. В годы работы над Повестью теория о «Киевце» на Дунае была весьма уместна в контексте киевской политики. Ведь в 1116 г. разразилась последняя русско-византийская война, в ходе которой Владимир Мономах претендовал как раз на район дунайской дельты. 1885 См.: Легенди, 1985. С. 165 след. — и библиографию вариантов в комментариях. 1886 Фраза подводит итог рассказу о славянском расселении и войнах с кочевниками: ПСРЛ. Т.1. Стб. 11; Т.2. Стб. 9; Т. 38. С. 14. Учитывая время появления радимичей как самостоятельной племенной общности в Посожье (IX в.), логично предположить вымысел летописца. Но он мог и просто дополнить радимичами первоначальное предание, исходя из их будто бы общего происхождения с вятичами. Отсутствие в перечне бужан-волынян и присутствие хорватов вроде соответствует реалиям VII в., когда еще существовал Аварский каганат. Это может подтверждать историчность основы перечня. В него вошли, с одной стороны, племенные союзы, испытывавшие угрозу из Степи, со стороны усилившегося Хазарского каганата, с другой — вынужденные сдерживать владевших еще Волынью авар. Но тогда лишними становятся уже и вятичи, появившиеся только в начале VIII в. Даже если перечень отражает некое подлинное предание, он вовсе не обязательно исторически достоверен. Если же перечень — плод творчества летописца, он мог исключить волынян по нашей же логике, только что описав их угнетение «обрами». 1887 См.: Седов, 1982. С. 133–137 (тогда преемственность роменской культуры от волынцевской еще отрицалась); Седов, 1995. С. 198–202. 1888 ПСРЛ. Т.1. Стб. 7–9; Т.2. Стб. 6–7; Т. 38. С. 12–13. Летописец уверенно отождествляет скифов, которым проповедовал Андрей, со славянами. 1889 Датировка уточняется находкой вместе с волынцевскими пеньковских сосудов (Седов, 1995. С. 198, Седов, 2002. С. 260). А главное — известиями арабских авторов о пребывании многочисленных славян на Славянской реке — Дону уже в 737 г. (Zrodla, 1956. S. 214/215, 224/225; Ибн Асам ал-Куфи. Книга завоеваний. Баку, 1983. С. 51–52). 1890 Седов, 1995. С. 197, 198; Седов, 2002. С. 260. 1891 Zrodla, 1956. S. 224/225 (Балазури); Куфи 1983. С. 51–52. 1892 Zrodla, 1956. S. 214/215, 216/217, 224/225 (Балазури). В первом из этих известий Балазури пытается разобраться в путаных преданиях, смешавших предполагаемого основателя одной из таких крепостей, полководца VII в. Залмана, с одноименным славянским вождем-мусульманином. Последнему и его собрату Зийаду предание IX в. приписывало основание связанных с их именами пограничных укреплений. Не исключено, что на самом деле предание это достоверно. 1893 Свод II. С. 280/281 (Феофан); Zrodla 1956. S. 216/217 (Балазури), 248/249 (Йакуби). 1894 См.: Седов, 1982. С. 140–143; Седов, 1995. С. 204–205; Седов, 2002. С. 261–262. 1895 Так они, в отличие от других славянских племен, названы в письме хазарского царя Иосифа (Х в.) (см.: Седов, 1982. С. 142). 1896 Седов, 1982. С. 148; Седов, 1995. С. 197–198, 202. 1897 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 11; Т. 2. Стб. 9; Т. 38. С. 14. См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1988. С. 376. 1898 Седов, 1982. С. 154. Именно с радимичами связано первоначально предание о приходе из «Ляхов». Оттуда их выводит уже Начальный летописный свод XI в.: ПСРЛ. Т. 3. С. 131, 530. О возможной достоверности см.: Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. С. 142–143; Tyszkievicz J. Radymicze.// Slownik starozitnosci slowianskich. Ks. 4. Cz. 2. Warszawa, 1972. S. 456. 1899 См.: Седов, 1982. С. 41–45; Седов, 1995. С. 202–203. 1900 Седов, 1982. С. 147. 1901 Седов, 1982. С. 147; Седов, 2002. С. 262–263. 1902 Седов, 1982. С. 148; Седов, 2002. С. 263. 1903 Седов, 1982. С. 144. 1904 Седов, 1982. С. 148; Седов, 1995. С. 202. 1905 Седов, 1982. С. 146. 1906 Селище Лебедка существовало с VIII по XIII в. (Седов, 1982. С. 148). 1907 Седов, 1982. С. 240. 1908 Седов, 1982. С. 148. 1909 Седов, 1982. С. 146. 1910 Седов, 1982. С. 144, 146. Второй тип вятичских курганов с трупосожжениями — захоронения в домовинах («столпе», как определяет этот обряд летописец), возник, видимо, чуть позже, уже в IX в. 1911 Седов, 1982. С. 146; Седов, 1995. С. 203. 1912 Седов, 1982. С. 64, 66; Восточные славяне 2002. С. 168–169; Седов, 2002. С. 540; Лебедев, 2005. С. 258, 460–462. Все эти факты, с разной степенью точности, указывают на VII или даже на начало VIII в. как на время появления в Поволховье предков ильменских словен. Оснований отодвигать эту дату к V в. даже на основе последних находок в Удомельском Поозерье (Исланова И.В. Этнокультурные процессы в Удомельском Поозерье в эпоху железа и раннего Средневековья // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 8. Новгород, 1994. С. 18–23; Седов, 1995. С. 245–246; Исланова И.В. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья. М., 1997. С. 126–129; Седов, 2002. С. 368–369), видимо, недостаточно. Обратившись к материалам раскопок, можно убедиться, что обнаруженные ранние памятники датируются расширительно в пределах V–VII вв. Это вполне укладывается в датировку наиболее ранней сопки Приладожья расширительно VI–VII вв. (Седов, 1982. С. 64). Датировки отдельных «престижных» предметов вообще едва ли могут удревнить датировку памятника в целом — на одном из поселений VIII–IX вв. Ильменского Поозерья обнаружена использовавшаяся фибула IV в. (Лебедев, 2005. С. 515). 1913 Впервые в Новгородском своде 1411 г., который вошел в Новгородско-Карамзинскую летопись: ПСРЛ. Т. 42. СПб., 2002. С. 361. Затем в тверской Рогожской летописи (ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 9) и общерусском «Софийско-Новгородском своде» 1418 г. (см. Софийскую 1 летопись старшего извода: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 4). 1914 Седов, 1982. С. 65; Седов, 1995. С. 178 (о миграции куршей в VII–VIII вв. и вытеснении прибалтийских вендов из Курземе). См. еще: Витов М.В. Антропологическая характеристика населения Восточной Прибалтики (по материалам антропологического отряда Прибалтийской экспедиции 1952–1954 гг.) // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. М., 1959. С. 575–576. 1915 См.: Седов, 1995. С. 241, 243. 1916 ПСРЛ. Т. 7 (Воскресенская летопись). С. 262. 1917 Седов, 1982. С. 64; Лебедев, 2005. С. 461. 1918 См.: Седов, 2002. С. 367, 369; Лебедев, 2005. С. 515. 1919 Ранняя версия сказания о Словене и Волхве в Цветнике 1665 г.: Сперанский М.Н. Русская устная словесность. М., 1917. С. 303–304. Позднее, уже целое Сказание о зачале Новаграда, включено в Хронограф 1679 г. (Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции. М., 1869. С. 442–447), в Мазуринскую летопись И. Сназина 1682 г. (ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 10–37) и в ряд других летописных компиляций (ПСРЛ. Т. 27. М., 1963. С. 137–142; Т. 33. М., 1977. С. 139–142; Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 15–33; Подробная летопись от начала Российского государства. СПб., 1798. С. 6–12). 1920 Тождество не вызывает сомнений: Иванов В.В., Топоров В.Н. Волх// Славянская мифология 1995. С. 108–110. 1921 Фасмер, 1988. С. 346. 1922 Так ее воспринимает не только Сказание, но и былинный эпос. Для информаторов Кирши Данилова Волхов — Волх-река, Вольх-река — что точно соответствует двум формам имени Волха у них же (Древние российские стихотворения, собранные Киршой Даниловым. М., 1977. Тексты №№ 10, 47). 1923 Народная проза. М., 1992. С. 48. Текст № 20. 1924 Цитируется по сборнику Кирши Данилова: Древние российские стихотворения, 1977. Текст № 6. 1925 См. наш анализ: Алексеев С.В. Славянская Европа V–VI вв. М., 2006. С. 128–133. 1926 См.: ЭССЯ. Вып. 15. С. 184. 1927 Здесь нельзя не присоединиться отчасти к толкованию Б.А. Рыбакова: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 259–260. Однако прямолинейное отождествление «Волхва» с «ящером» представляется сомнительным. Без привлечения былины о Волхе анализ выглядит неполным. См. также: Алексеев С.В. Владимир Святой: Создатель русской цивилизации. М., 2006. С. 113–115. 1928 Седов, 1982. С. 64; Седов, 2002. С. 367; Лебедев 2005. С. 506, 511, 514–515, 522, 524. Поэтому трудно согласиться с точкой зрения Г.С. Лебедева, что культура сопок сложилась в Ладоге в ходе общения славян со скандинавами (не ранее середины VIII в.) и позже, в IX в., распространилась вверх по реке (Лебедев, 2005. С. 475, 527). Сопки, и никакие иные погребения, сопровождают славянские памятники, надежно датируемые VIII в. Сопка у Репьи относится, быть может, и к более раннему времени. Справедливо отметил в этой связи В.В. Седов: «ныне вполне очевидно, что скандинавы расселились в новгородском крае позднее, когда обряд сооружения сопок уже сложился» (Седов, 2002. С. 371). Стоит отметить, что ранее сам Г.С. Лебедев считал сопки памятниками финских племен (Лебедев Г.С. Начало Верхней Руси по данным археологии.// Проблемы истории и культуры северо-запада РСФСР. Л., 1978). Все это не исключает ни появления сопок на славяно-финской почве в Приладожье в конце VII в., ни мощных миграционных потоков, в том числе с участием скандинавов, на юг от Ладоги во второй половине VIII в. 1929 Седов, 1982. С. 65; Седов, 1995. С. 241; Седов, 2002. С. 367; Лебедев, 2005. С. 515. 1930 Былины новой и недавней записи из разных местностей России. М., 1908. Текст № 96; Материалы, собранные в Архангельской губернии России летом 1901 г. А.В. Марковым, А.Л. Марковым и Б.А. Богословским. Ч. 2. М., 1908. Тексты №№ 42, 43. 1931 О родовом княжении у словен, якобы уже «в Новгороде», сообщает Повесть временных лет: ПСРЛ. Т.1. Стб. 10; Т. 2. Стб. 8; Т. 38. С. 13. Ср. далее из скандинавских источников о Рёгнвальде, племяннике (hnef) и наследнике князя «Радбарда». 1932 Свод русского фольклора. Т. 1 (Былины 1). Былины Печоры. М., 2001. Текст № 1. 1933 Лебедев, 2005. С. 258, 460–464. 1934 Лебедев, 2005. С. 506. 1935 См.: Седов, 1982. С. 63; Лебедев, 2005. С. 462–463, 506. Г.С. Лебедев, возможно, справедливо, связывал название сопки с переносом на Св. Михаила функций древнего громовержца Перуна в народных поверьях. 1936 Седов, 1982. С. 65, 236–237; Седов, 1995. С. 241, 243; Лебедев, 2005. С. 515. 1937 Седов, 1982. С. 63; Лебедев, 2005. С. 515. 1938 Седов, 1982. С. 63, 64; Лебедев, 2005. С. 462–463, 515. 1939 Седов, 1982. С. 63; Лебедев. С. 462, 515. 1940 Седов, 1982. С. 63–64; Седов, 2002. С. 368–369; Лебедев, 2005. С. 461. 1941 Концепция Г.С.Лебедева, детально проработавшего топонимику региона (Лебедев, 2005. С. 447–451, 506). 1942 См.: Лебедев, 2005. С. 448. 1943 Лебедев, 2005. С. 453. 1944 См.: Этнография восточных славян. М., 1980. С. 406–409. 1945 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 7–9; Т. 2. Стб. 6–7; Т. 38. С. 12–13. 1946 ПСРЛ. Т. 41. С. 3–4, 135–136. 1947 См.: Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. С. 40–41; Седов, 2002. С. 369, 371. 1948 Седов, 1982. С. 64–65; Седов, 2002. С. 371. Ср.: Лебедев, 2005. С. 475. 1949 Финно-угры 1987. С. 40–41. 1950 Седов, 1982. С. 59, 61–62. 1951 Седов, 1982. С. 62–63. 1952 Седов, 1982. С. 63; Лебедев, 2005. С. 506. 1953 Восточные славяне 2002. С. 168–169, 210–211. 1954 См.: Седов, 1982. С. 65; Седов, 1995. С. 263; Восточные славяне 2002. С. 158, 168. 1955 См.: Седов, 1982. С. 237. 1956 Седов, 1982. С. 54, 246. Монографическое описание Изборска: Седов В.В. Изборск — протогород. М., 2002. 1957 Седов, 1982. С. 246; Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. М., 1983. С. 79. Ср.: ЭССЯ. Вып. 9. С. 18. 1958 Новгородские книжники пытались включить Избора в свои родословные словенских князей. На основании прежнего именования Изборска «Словенском» они доказывали вторичность его по отношению к «Великому Словенску», якобы предшественнику Новгорода. В Сказании о зачале Новаграда, сообщающем наиболее ценную информацию об Изборе (Изборске), он — сын Словена, сына первого собственно новгородского посадника Гостомысла. Именно Словен основал Изборск и назвал по себе Словенском, а Избор княжил уже потом (Попов 1869. С. 446–447). Псевдо-Иоаким (М.Борщов?), знавший «песни древние» об Изборе (Татищев, 1994. С. 108), возвращает ему честь основания Изборска и передает имя в подлинной древнеславянской форме. Однако подробнее он «песни» излагать не счел нужным. Избор у него, правда, живет намного раньше Гостомысла и является сыном словенского князя Вандала. Братьями Избора объявляются другие былинные князья — Столпосвят (в котором В.Н. Татищев хотел видеть «князя Столба», легендарный эпоним Столбова — Татищев 1994. С. 115. Прим. 13) и Владимир. Последний — не самый ли популярный былинный князь Владимир Красное Солнышко? В.Н. Татищев отождествил их, не задумываясь (Татищев, 1994. С. 115. Прим. 16). Появление у Владимира Святого «двойника» Владимира «Древнего» вполне в русле представлений о том, что действие былин разворачивается в древнейшей до-Рюриковой Руси. Подобные представления, расхожие в XVIII в., отразились, например, в «Русских сказках» В. Левшина. Что касается Избора, внука Гостомысла, то он у знавшего новгородскую литературу Псевдо-Иоакима вовсе не забыт. Вместо него появляется Выбор, сын Гостомысла и мифический основатель Выборга (Татищев, 1994. С. 110). Имя означает то же самое, что и «Избор», но город выбран другой, и весьма удачный для «птенцов гнезда Петрова» с внешнеполитической точки зрения, как и ряд других открытий Иоакимовской летописи. В этих побуждениях нет ничего недостойного, но к древней истории они отношения иметь не могут. 1959 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2 (Псковская 3 летопись). М., 2000. С. 73 (л. 6370); Т. 28 (Свод 1518 г.). С. 167; Попов, 1869. С. 446. 1960 ПСРЛ. Т. 37 (Устюжский летописный свод). М., 1982. С. 18, 57 (л. 6371). 1961 Седов, 1982. С. 56; Лебедев, 2005. С. 476–477. 1962 Седов, 1982. С. 57. 1963 Седов, 1982. С. 56–57. 1964 Седов, 1982. С. 57, 240–241. 1965 Седов, 1982. С. 57, 65. 1966 Седов, 1982. С. 57; Лебедев, 2005. С. 528–529. 1967 См.: Седов, 1995. С. 229 след. 1968 Так рисует ситуацию Повесть временных лет: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 10; Т. 2. Стб. 8; Т. 38. С. 13. 1969 Восточные славяне 2002. С. 167–168. Антропологический тип псковских кривичей (там же. С. 169), видимо, был близок к полоцкому и волынскому. 1970 Седов, 1982. С. 51–52; Седов, 1995. С. 232–236. 1971 Седов, 1982. С. 49, 50. 1972 О происхождении названия полочан совершенно справедливо говорит Повесть временных лет: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 6; Т. 2. Стб. 5; Т. 38. С. 12. 1973 См.: Рыбаков, 1982. С. 525 (карта). 1974 Подробнее о событиях в Скандинавии и Восточной Прибалтике см.: Сойер П. Эпоха викингов. СПб., 2002; Хлевов А.А. Предвестники викингов. Северная Европа в I–VIII вв. СПб., 2002; Лебедев, 2005. 1975 Именно такой Русь предстает во многих полуфантастических и фантастических «сагах о древних временах». Довольно загадочен описанный в «Младшей Эдде» и «Родословной от Хёда» эпизод с происхождением ряда (а в переосмыслении — почти всех) скандинавских династий от конунга Хальвдана Старого, который якобы с боем взял жену, Альмвейг, дочь «конунга Сигтрюгга из Хольмгарда», у конунга Эймунда в «Восточных Странах» (Младшая Эдда. М., 1970. С. 64; Древнерусские города в древнескандинавской письменности. М., 1987. С. 180). На основании «Родословной» событие следует относить еще к VII в. Все имена, названные в эпизоде, — чисто скандинавские. В эддической родословной Х или XI в., «Песни о Хюндле», они упомянуты безо всяких указаний на инородность (Песнь о Хюндле.// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1973. С. 342). Исходя из всего этого, следует заключить, что действие первоначального предания разворачивалось где-то на выселках в «Восточных землях» — почему бы и не на Аландах? Правда, в «Песни о Хюндле» Хальвдан предстает членом датского рода Скъёльдунгов. Если имеется в виду Скъёльдунг Хальвдан I (Старый), то «историческую» основу сказания надо искать вообще в IV или V в. Впрочем, имя Хальвдан (полудан) встречается в роду Скъёльдунгов и позже. Как бы то ни было, «Хольмгард», — а самый ранний из возможных прототипов этого названия Новгорода появился позднее — попал сюда вторично и не слишком удачно. Иначе нам бы пришлось искать следы норманнов в Новгородчине лет на сто-двести раньше. Эти легендарные сведения о севере Восточной Европы приведены здесь исключительно для полноты картины. Хотя, конечно, они могут отражать события первых лет проникновения сюда скандинавов (так же, как отраженные у Саксона Грамматика и в «Саге об Инглингах» предания о заморском походе датского конунга V — начала VI в. Фроди). 1976 Об этих именах см.: ЭССЯ. Вып. 32. С. 147, 211. 1977 В «Саге о Скъельдунгах» — Гардарики (Sogubrot af fornkonungum// Sogur Danakonunga. Bd. I. Kopenhagen, 1919. S. 9). В «Обзоре саг о датских конунгах» — «Хольмгард» (Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Т. 3. М., 2000. С. 247/248). Саксон Грамматик называет Рёгнвальда, племянника Радбарда, Ruthenus (Saxo 1837. P. 385). В используемой им «Песни о Бравалльской битве» стояло, как давно уже полагают, «Гардский» (см. примечание там же). 1978 «Кирьялаботнар» (Sogubrot 1919. S. 10). 1979 Со «всего Аустррики («Восточного государства») вплоть до Гардарики», согласно «Саге о Хёрвер и конунге Хейдрике» (Шаровольский И. Сказание о мече Тюрфинге. Киев, 1906. Ч. 1. С. 75). В этом «Аустррики» он позднее собирает войско и по «Саге о Скъельдунгах» (Sogubrot 1919. S. 10). О том, что Ивар брал дань с «Аустррики», сообщает и «Сага об Инглингах» (Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги… Т. 1. М., 1993. С. 51/55). Скорее всего, создатели саг плохо представляли себе, какие конкретно земли имеются в виду. Однако допустимо заключить, что «Аустррики» здесь — восточнобалтийские земли без «Гардарики» и в отличие от нее. См. также: Джаксон 1993. С. 71. Прим. 74). 1980 Наиболее подробное изложение всего сюжета дано в «Саге о Скъёльдунгах» (Sogubrot, 1919. S. 9–11). Такой же родословный ряд «Радбард — Рандвер», как и в ней, приводится в большинстве других источников: «Песни о Хюндле» (Песнь о Хюндле 1973. С. 344), «Саге о Ньяле» (Сага о Ньяле.// Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1970. С. 334), «Генеалогии датских королей» (Scriptores 1772. P. 5), «Обзоре саг о датских конунгах» (Джаксон 2000. С. 247/248), «Родословной от Альва Старого» в «Пряди о заселении Норвегии») (см.: Fornaldarsogur Nor?rlanda eptir gomlum handritum. Bd. III. Kaupmannahofn, 1830). Только в «Обзоре» дочь Ивара носит имя «Унна», в отличие от всех прочих сведений. Вместе с тем, вопрос о происхождении шведской и датской династий IX–XII вв., первым реальным предком которых является Сигурд Кольцо («Зигфрид» франкских анналов конца VIII в.), остается в скандинавских памятниках запутанным. Аксиомой является для всех связь их с юго-восточной Скандинавией, Упсалой и Сканей, где Сигурд и базировался. Относительно же предков Сигурда традиция разногласит. Версия большинства источников приведена. В них Сигурд — сын Рандвера, сына Радбарда. У Саксона Грамматика, однако, Сигурд — явно ошибочно — назван сыном Ингъяльда Упсальского (2 половина VII в.). Но по «Саге об Инглингах», династии Ингъяльда, единственный его сын — Олав, уведший своих людей в Норвегию, предок тамошних конунгов. При этом и у Саксона Сигурд остается племянником Харальда Боезуба (Saxo 1837. P. 367). «Сага о Хёрвер» называет Сигурда сыном Рандвера, а того — родным братом Харальда Боезуба. Оба они здесь — сыновья Вальдара Датского (Шаровольский 1906. С. 75). Этим именем-титулом («владыка») чаще называют конунга Харальда, деда Ивара. Но такой же титул мог, конечно, носить и Хрёрик Метательное Кольцо. Версии и Саксона, и «Саги о Хёрвер» вторичны по отношению к варианту большинства генеалогий. Учитывая, что Радбард и Рандвер упомянуты уже в весьма архаичной по содержанию «Песни о Хюндле», эту версию и следует признать первичной. Более того, сам Саксон, передавая «Песнь о Бравалльской битве» с перечнем участвовавших героев, вынужден назвать и «Рёгнвальда, племянника Радбарда». Саги бравалльского цикла наряду с генеалогиями позволяют воссоздать предание о Радбарде и в какой-то мере ставшие его основой исторические события. Стремление увязать генеалогию Радбарда с Инглингами, отмеченное в разных версиях и у позднейших шведских авторов, следует отнести на счет патриотических домыслов. Сведения о Радбарде как о славянском князе на самом деле выглядят вполне логично. Можно добавить, что обе версии (о «Вальдаре» и о «Радбарде») через печатные западные источники XVI–XVII вв. оказались восприняты и слиты Псевдо-Иоакимом. У него Ауд («Адвинда» из «Варяг») становится женой Владимира, сына Вандала (Татищев, 1994. С. 108). 1981 Saxo, 1837. P. 362. Здесь говорится о подчинении двух славянских вождей — Дука и Дала. Из «виндов» происходил участник Бравалльской битвы — Дук Винд (Saxo, 1837. P. 383; Sogubrot, 1919. S. 13). Но в «Саге о Скъельдунгах» он — на стороне Сигурда Кольца. Если сведения о нем Саксон почерпнул только из своей версии «Песни о Бравалльской битве», то в предшествующий текст вся история с виндами попала лишь по его разумению. Винды упоминались в «Песни» (и в «Саге») как охранники Висмы Щитоносицы, богатырки на службе Харальду. Так что «Дук» мог по этой логике быть перенесен с вражеской стороны на датскую самим Саксоном. «Дал Жирный» же, другой участник Бравалльской битвы, оказался добавлен к нему в пару. Тем не менее, с учетом упоминания виндов в «Саге» и на стороне Харальда, полностью отрицать древность предания о его походе на славян не стоит. 1982 Разграничение владений Рандвера и Харальда по «Саге о Хёрвер» (Шаровольский, 1906. С. 76) не совпадает с определением владений Харальда в «Саге о Скъельдунгах». К сожалению, весь рассказ о прибытии Рандвера в Скандинавию, его правлении и смерти в уцелевшем от «Саги о Скъельдунгах» древнеисландском «Фрагменте о древних конунгах» пропущен. И по «Саге о Скъёльдунгах», и по Саксону, Сигурд позднее правил в Упсале. Но по «Саге о Хёрвер», Рандвер правил в Дании, тогда как Харальд — в Гаутланде, а затем и в остальных владениях Ивара. Сигурд здесь, как будто, наследует отцу в Дании, а Швецию получает только после Бравалльской битвы — то есть ситуация прямо противоположная описанной в датских преданиях. Похоже, при описании Бравалльской битвы важно было одно — Сигурд является претендентом на власть, а Харальд ее реальным обладателем. При этом сама эта «власть» в Дании ассоциировалась с Данией, а в Швеции — со Швецией. «Сага о Хёрвер», представляющая собой в последней части краткое изложение свейской «королевской саги», придерживается свейского варианта предания. 1983 См.: Лебедев, 2005. С. 252. 1984 Упомянут среди участников Бравалльской битвы в «Саге о Скъёльдунгах» (Sogubrot, 1919. S. 14) и у Саксона Грамматика (Saxo, 1837. S. 385–386). 1985 См.: Лебедев, 2005. С. 447–448. 1986 Джаксон, 1993. С. 244–245. 1987 Рябинин Е.А. Скандинавский производственный комплекс VIII в.// Скандинавский сборник. № 25. Л., 1980; Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. С. 88; Лебедев, 2005. С. 223, 465–466, 477. Монографическое описание Ладоги: Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога — древняя столица Руси. СПб., 1996. Дата основания поселения (по крайней мере, порубки леса под мастерскую) устанавливается методом дендрохронологии. 1988 Лебедев. С. 477. 1989 Седов, 1982. С. 64; Финно-угры 1987. С. 57; Лебедев, 2005. С. 461. 1990 Седов, 1982. С. 62–63. Достаточно массовый, хотя и сильно уступающий славянам, характер скандинавской миграции VIII–IX вв. подтверждается антропологами (Восточные славяне, 2002. С. 169). 1991 Лебедев, 2005. С. 463–464. Сопку можно датировать еще VIII в. (Там же. С. 477). 1992 Шаровольский, 1906. С. 76. Якобы это произошло в «Англии». Но «Сага о Хёрвер» вообще удревняет присутствие скандинавов в Англии, смешивая одноименных датских конунгов VIII и IX в. Впрочем, и «Сага о Скъёльдунгах» говорит об «Англии» в связи с Иваром и Харальдом Боезубом. Для середины VIII в. логичнее искать место гибели Рандвера во Фризии, по соседству с первоначальной «Англией» в Ютландии. Но не исключено и то, что набеги данов на Англию начались чуть раньше первой хроникальной записи под 793 г. 1993 Sogubrot, 1919. S. 14; Saxo, 1837. P. 385. 1994 Sogubrot, 1919. S. 13. Можно добавить, что «Кэнугард» как совершенно фантастический город, которым управляет конунг с библейским именем «Сисар», фигурирует в еще одной героической саге — «Саге о Гаутреке». Сисар здесь вторгается в Скандинавию с «большим войском» примерно в VI или VII столетии, в «эпический век» (Древнерусский город, 1987. С. 169). Видимо, это результат (отчасти) смешения Киева и «Страны гуннов» в скандинавской традиции начиная уже с XI в. 1995 Лебедев, 2005. С. 460, 477. 1996 О происхождении скандинавского топонима см.: Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги… Т.2. М., 1994. С. С. 205–206. 1997 См. описания Бравалльского сражения: Sogubrot, 1919. S. 14 etc.; Saxo, 1837. P. 384 etc. Между этими самыми подробными, к общему источнику восходящими описаниями есть расхождения, в том числе и по нашей проблематике. Саксон переносит Дука Винда на сторону Харальда, рассудив, что все покоренные им винды сражались за него. Он не упоминает о гибели Рёгнвальда — как и вообще о деяниях Убби в начале битвы. Вообще, Саксон пытается преуменьшить роль, сыгранную славянами, что выражает и прямыми презрительными замечаниями, — но именно он, с опорой, видимо, на «Песнь о Старкаде», сообщает о гибели в битве Висмы. 1998 Лебедев, 2005. С. 466, 477. 1999 Седов, 1995. С. 243; Лебедев, 2005. С. 528. 2000 Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона.// Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 82; Лебедев, 2005. С. 223, 466, 477. Одна из лучших, в основном сохраняющая свое значение, характеристика древнерусской внешней торговли и денежного обращения дана в книге: Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956. 2001 Лебедев, 2005. С. 223, 466, 477, 428, 430–431, 524. 2002 Лебедев, 2005. С. 461. 2003 Лебедев, 2005. С. 225–226, 255, 511. 2004 Херрман И. Полабские и ильменские славяне в раннесредневековой балтийской торговле.// Древняя Русь и славяне. М., 1978; Historia kultury, 1978. S. 256; Фомин А.В. Начало распространения куфических монет в районе Балтики.// Краткие сообщения Института археологии. Вып. 171. М., 1982; Лебедев, 2005. С. 226. 2005 Saxo, 1837. P. 391. 2006 Saxo, 1837. P. 398, 400. Генеалогическим сведениям Саксона здесь совершенно нельзя доверять. Сигурд, например, предстает у него не только как сын Хамунда, но и как отец Йормунрёкка — готского короля Германариха! Саксон просто расставляет друг за другом героев различных сказаний, заполняя пробел между двумя «инкарнациями» Сигурда Кольца — «Рингом» и «Сигурдом Рингом». События, описанные им до «саги о Германарихе», весьма условно могут быть отнесены к последней трети или четверти VIII в. 2007 Свод II. С. 435/436. 2008 Свод II. С. 418–419, 437–438. 2009 Ann. Lauresh. A. 780.: Свод II. С. 442/443; Ann. Maxim. A. 780.: Свод II. С. 444; Ann. Petav. A. 780.: Свод II. С. 449; ARF. A. 780.: Свод II. С. 466/467; AqdE. А. 780.: Свод II. С. 468. О союзе, заключенном франками и ободричами ранее 789 г., сообщает биограф Карла Эйнхард (Vit. Karol. 12.: Свод II. С. 474). 2010 ARF. A. 782.: Свод II. С. 466/467; AqdE. А. 782.: Свод II. С. 470. 2011 AqdE. А. 789.: Свод II. С. 472; Vit. Karol. 12.: Свод II. С. 474. 2012 Fragm. Chesn. A. 789.: Свод II. С. 447; AqdE. А. 789.: Свод II. С. 472. 2013 AqdE. А. 789.: Свод II. С. 472. 2014 Ann. Lauresh. A. 789.: Свод II. С. 442/443; Ann. Mosell. A. 789.: Свод II. С. 444/445; Fragm. Chesn. A. 789.: Свод II. С. 447; Ann. Petav. A. 789.: Свод II. С. 449/450; Ann. S. Nasar. A. 789.: Свод II. С. 451–452; Ann. Guelfer. A. 789.: Свод II. С. 454; Alcvini ep. № 6, 7: Свод II. С. 462; ARF. A. 789.: Свод II. С. 466/467; AqdE. А. 789.: Свод II. С. 472; AMp. A. 789.: Свод II. С. 473. 2015 Alcvini ep. № 6: Свод II. С. 462 2016 Ann. Mosell. A. 789.: Свод II. С. 444/445. 2017 Именно эти две области — основные партнеры славян Южной Прибалтики в начале IX в. (Лебедев, 2005. С. 262). 2018 Седов, 1995. С. 56, 57, 58; Лебедев, 2005. С. 259–260. 2019 Седов, 1995. С. 57, 346; Лебедев, 2005. С. 259. 2020 Кухаренко, 1969. С. 139; Historia kultury, 1978. S. 39, 105; Лебедев, 2005. С. 261. 2021 Historia kultury, 1978. S. 39, 105. 2022 Кухаренко, 1969. С. 137; Седов, 1995. С. 244; Лебедев, 2005. С. 259. 2023 Ann. Guelfer. A. 792.: Свод II. С. 454; Ann. Lauresh. A. 792.: Свод II. С. 455. Прим. 5. 2024 Свод II. С. 418–419. 2025 Ann. Guelfer. A. 794.: Свод II. С. 455 2026 Ann. Lauresh. A. 795.: Свод II. С. 442/443; Ann. Mosell. A. 794.: Свод II. С. 444/445; Ann. Petav. A. 795.: Свод II. С. 449/450; ARF. A. 795.: Свод II. С. 466/457; AqdE. А. 795.: Свод II. С. 477. Прим. 16. 2027 Ann. Lauresh. A. 798.: Свод II. С. 444/445; Ann. Guelfer. A. 798.: Свод II. С. 455; ARF. A. 798.: Свод II. С. 468/469; AqdE. А. 798.: Свод II. С. 478–479; Ann. Fuld. A. 798.: Свод II. С. 479. 2028 ARF. A. 799.: Свод II. С. 468/469; AqdE. А. 799.: Свод II. С. 479. 2029 ЭССЯ. Вып. 11. С. 82–89. 2030 Седов, 1995. С. 31. 2031 Historia kultury, 1978. S. 21–22, 24, 30, 61. 2032 Historia kultury, 1978. S. 34. 2033 Кухаренко, 1969. С. 127, 133; Historia kultury, 1978. S. 20, 105, 204, 206, 289. 2034 Historia kultury, 1978. S. 61, 64. 2035 Кухаренко, 1969. С. 127, 128, 135; Historia kultury, 1978. S. 36, 44–45, 149, 192; Седов, 1995. С. 343. 2036 Historia kultury, 1978. S. 38. 2037 Historia kultury, 1978. S. 38, 44, 50, 105. 2038 Кухаренко, 1969. С. 127; Historia kultury, 1978. S. 76, 82, 85, 91, 98, 190–191, 289, 293. 2039 Кухаренко, 1969. С. 128; Седов, 1995. С. 20. 2040 Кухаренко, 1969. С. 127; Historia kultury 1978. S. 320–321; Седов, 1995. С. 18, 345. 2041 Кухаренко, 1969. С. 127; Седов, 1995. С. 345. 2042 Кухаренко, 1969. С. 134. 2043 Галл Аноним. Хроника или деяния князей или правителей польских// Славянские хроники. СПб., 1996. С. 331–332. 2044 Константин, 1991. С. 150/151. 2045 Константин, 1991. С. 384 (комментарий О.В. Ивановой, Б.Н. Флори). «Личики» здесь совершенно справедливо сопоставлены с «лицикавиками» Видукинда Корвейского. Однако воспринятая от польской историографии уверенность в краковской локализации Лешка, как думается, усложняет толкование понятия. Свидетельство Видукинда, который четко связывает лешковичей с пястовской Польшей (Краков тогда был под властью чехов), лишний раз подтверждает бесспорный, с учетом Анонима Галла, факт — и Попель, и его предшественник Лешко должны помещаться в Великой Польше, а не в Малой. С Малой Польшей связано только предание о Краке. 2046 Magistri Vincentii Chronicon Polonorum. I. 9–17// Monumenta Poloniae Historica. T. II. Warszawa, 1961; Великая хроника 1987. Гл. 2–4. 2047 ЭССЯ. Вып. 15. С. 58. 2048 Великая хроника, 1987. С. 57. Об этимологии названия Гнезно («гнездовое») см.: ЭССЯ. Вып. 6. С. 173. 2049 Кухаренко, 1969. С. 132–133; Historia kultury, 1978. S. 46–47; Седов, 1995. С. 343. 2050 Дискуссия восходит к XVIII в., когда ее возникновение вызвал целый ряд культурных и политических обстоятельств. Тогдашние отношения со Швецией, соперничество «немцев» и русских за влияние в науке и культуре послепетровской России — фон для возникновения норманизма и антинорманизма. Критика В.Н. Татищевым Г. Байера, М.В. Ломоносовым — Г.Ф. Миллера являлась закономерным ответом на сформулированную немецкими учеными теорию скандинавского происхождения государства на Руси. Обе стороны в том давнем споре оставались на уровне тогдашней науки. Никто не сомневался в одномоментном создании государства Рюриком, если М.В. Ломоносов первым и оторвал от него происхождение названия «русь». Это добавляло спору накала. Патриотическая мысль искала негерманский источник становления государственности — и находила его среди финнов (В.Н. Татищев) или среди западных славян и не отделявшихся от них пруссов (М.В. Ломоносов). В принципиально новое качество перевел спор Н.М. Карамзин («История государства Российского»). Он первым проанализировал данные об общественном строе и культуре славян «до Рюрика». В результате впервые появилась логичная, подлинно научная и подлинно «антинорманистская» картина становления государства у восточных славян на местной, внутренней основе. При этом Н.М. Карамзин связывал появление названия «русь» в Восточной Европе, прежде всего, с Рюриком, и связывал его со Скандинавией. Этот новый подход не сразу нашел последователей. Тем не менее к концу XIX в. он в основном восторжествовал. Внимание исследователей сосредоточилось на поисках внутренних закономерностей общественного развития. К этому времени стало ясно и то, что русь как политическая реальность оформилась в Восточной Европе еще «до Рюрика». Дискуссия норманистов и антинорманистов свелась к степени скандинавского участия в этом процессе. При этом благодаря решительно антинорманистским работам Д.И. Иловайского стал образовываться новый водораздел — по вопросу о происхождении названия «русь» и династии Рюрика. Таким образом, на смену норманизму и антинорманизму в вопросе происхождения государства приходили «норманизм» и «антинорманизм» в вопросах о происхождении его названия и династии. Исчезла и политическая составляющая спора. Попытки ее реанимировать в украинском национализме начала ХХ в. или в нацистской Германии последствий для науки не имели. В целом же «норманистами» и «антинорманистами» — что вполне естественно — оказывались люди весьма разных общественно-политических взглядов. Скажем, в России, «норманисты» В.О. Ключевский и Н.П. Павлов-Сильванский по отношению к государственным порядкам Российской империи находились по одну сторону баррикад с «антинорманистом» М.С. Грушевским. Являясь оппозиционными политиками (первые двое — кадеты, третий — украинский националист и умеренный социалист), они противостояли, допустим, «антинорманисту» Д.И. Иловайскому, одному из идеологов охранительства. С другой стороны, известнейший чешский славист Л. Нидерле, участник направленного против Габсбургской монархии движения национального возрождения, весьма сочувственно относившийся к России и разоблачавший многие антиславянские вымыслы германской науки — являлся убежденным норманистом. Ему принадлежит излишне резкая, но претендующая на итоговость для этого этапа спора характеристика: «В общем я уверен, что историки и лингвисты, ставшие в ряды антинорманистов, и особенно те, кто выступал в защиту славянского происхождения русов, неправы» (Нидерле, 2001. С. 163). 2051 Томсен В. Начало русского государства. М., 1891. С. 84–87; Рыдзевская Е.А. К варяжскому вопросу// Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1934. № 7–8; Фасмер 1988. Т. 4; Попов А.И. Названия народов СССР. Л., 1973. С. 44 след.; Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции славянского глоттогенеза. М., 1979. С. 216; Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Название «русь» в этнокультурной истории Древнерусского государства// Вопросы истории. 1989. № 8; Мельникова Е.А. Комментарий// Константин, 1991. С. 298–308. 2052 Роспонд С. Несколько замечаний о названии «Русь»// Восточнославянская ономастика. М., 1979. 2053 Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье// Вопросы языкознания. 1977. № 6. 2054 Приводятся сообщения гота Иордана о племени или роде «россомонов» (Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 280–282 (комментарий Е.Ч. Скржинской)) и сирийца Захарии Ритора о «народе Рос» (Пигулевская Н.В. Имя «Рус» в сирийском источнике VI в. н. э.// Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. СПб., 2000). Большое значение этим сведениям придавал Б.А. Рыбаков (см.: Рыбаков, 1982). Первое сообщение — основание более зыбкое, имеющее смысл лишь в свете второго, поскольку имена «россомонов» скорее германские, и название их «рода» оформлено так же. Во втором же известии видят плод размышлений сирийского хрониста о библейском апокалипсическом народе «Рос». Помещен «Рос», во всяком случае, на краю мира среди фантастических существ (Попов, 1973. С. 54–56). Связывать его с югом Руси позволяет упоминание рядом амазонок — но при этом не учитывается, что по мере изучения ойкумены мифическая страна амазонок сдвигалась все дальше на север. 2055 Константин, 1991. С. 44–49. 2056 Греков И.А. Памятники государства и права на территории Украинской ССР. Одесса, 1964. С. 41; Продолжатель Феофана. М., 1992. С. 175. 2057 Лиутпранд Кремонский. Антаподосис. М., 2006. С. 20, 96–97 2058 Лиутпранд, 2006. С. 80. 2059 Кузенков П.В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках// Древнейшие государства Восточной Европы. 2000. М., 2003. С. 151. 2060 Назаренко А.В. Западноевропейские источники.// Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 290. 2061 См.: Заходер Б.Н. Каспийский свод. Т. 1–2. М., 1962–1967; Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000; Калинина Т.М. Арабские источники VIII–IX вв. о славянах// Древнейшие государства Восточной Европы. 1991. М., 1993; Калинина Т.М. Арабские ученые о нашествии норманнов на Севилью в 844 г.// Древнейшие государства Восточной Европы. 1999. М., 2001. 2062 См.: Русская Правда Краткой редакции. Ст. 1// Правда Русская. М. — Л., 1940. Т.1. 2063 ПСРЛ. Т.3. С. 106. Ср.: Там же. С. 105. 2064 ПСРЛ. Т.1. Стб. 19–20 (л. 6370); Т. 2. Стб. 14 (л. 6370); Т. 38. С. 16 (л. 6370). Еще один перечень варягов, в начале труда (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 4; Т. 2. Стб. 4; Т. 38. С. 11), тоже включает «русь», после скандинавских народов, между готами (конечно, готландскими) и англичанами. В данном последнем случае можно истолковать «варягов» и как отдельный народ, в отличие от перечисляемых далее. Но тогда и «русь» — не «варяги», и получится, что летописец грубо противоречит собственной концепции. Но «варяги» здесь в самом деле собирательное обозначение для перечисленных ниже скандинавских — и западноевропейских — народов. Не стоит придавать слишком большого значения, как иногда делается, описке некоторых версий Повести временных лет — «русь» вместо «руси» в описании обращения к варягам. Эта мена позволяет как будто числить русь в числе племен, пославших к варягам (руси!) за Рюриком — но это явно противоречит всему тексту в целом. 2065 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 14 (л. 6370); Т. 38. С. 16 (л. 6370). 2066 Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Баку, 1986. С. 124. 2067 ПСРЛ. Т. 7. С. 202. 2068 Благодаря персидскому «Собранию историй»: Новосельцев 1998. С. 297–298, 306–307. Еще более древняя (Х в.) версия предания о Росе (Русе) у Симеона Логофета: Греков 1964. С. 41. 2069 Четкий контекст не позволяет согласиться с параллелью «вся русь» (Повесть временных лет) — «все росы» (Константин Багрянородный) (Мельникова — Петрухин, 1989). В последнем случае, действительно, имеет место социальное значение термина «русь» — княжеская дружина с большим удельным весом на тот момент скандинавов. В первом случае речь идет о конструкции летописца, заменившего «всей русью» «дружину многую» Начального свода просто из логических соображений, для объяснения отсутствия додуманного им племени «русь» в Скандинавии. 2070 См.: Лебедев, 2005. С. 506, 511, 515, 521–522. 2071 ПСРЛ. Т.1. Стб. 26; Т. 2. Стб. 18; Т. 38. С. 18. В отношении временного характера соотнесения «русь — норманны» и его причин совершенно прав оказался В.В.Седов (Седов, 2002. С. 286). Правда, у него это построение связано с не находящей подтверждения в письменных источниках теорией «руси» как группы южных племен, в том числе северы, радимичей и даже вятичей. 2072 Об этом прежнем названии прямо говорит сочинение «О заселении земли сыновьями Ноя»: Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986. С. 134/135, 134/136. 2073 Лебедев, 2005. С. 522–523. 2074 Новосельцев, 2000. С. 306–307. 2075 Васильевский В.Г. Труды. Пг., 1915. Т.3. С. 95. В «Чудесах», написанных, судя по упоминанию царевны Анны, жены князя Владимира, в конце Х в., Бравлин выводится из «Новгорода». Это, конечно, позднее соотнесение — но основанное на знакомстве греческого автора с географией Руси и собственно русским преданием. Видеть здесь вставку русского переводчика XV–XVI вв. нет ни малейшего основания. 2076 Седов, 2002. С. 367. 2077 Седов, 1982. С. 188. 2078 См.: Финно-угры 1987. С. 70–71. 2079 Греков, 1964. С. 41. 2080 Новосельцев, 2000. С. 297–298, 305–306. 2081 ПСРЛ. Т. 6. Ч.1. Стб. 14 (л. 6370); Т. 42. С. 25 (л. 6370). 2082 ПСРЛ. Т. 27. С. 158–159. 2083 Васильевский 1915. С. 95–96. 2084 ПСРЛ. Т. 3. С. 105–106, 433, 513. 2085 См.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 19 (л. 6367), 21 (л. 6370); Т. 2. Стб. 14 (л. 6367), 15 (л. 6370); Т. 38. С. 16 (л. 6367, 6370). Избавление Повесть временных лет связывает с приходом в Киев Аскольда и Дира. 2086 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 7; Т. 2. Стб. 5–6; Т. 38. С. 12. «Болгары» — Волжская Болгария. «Хвалисы» — Хорезм, по имени которого на Руси XI–XII вв. именовали все мусульманские закаспийские земли. «Жребий Симов» — мусульманский восток вообще. «Жребий Хамов» — Северная Африка. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
